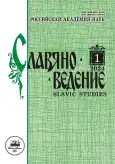The Role of Czechoslovakia in the Development of the Soviet-French Relations During the Non-Recognition Period of the USSR: View from Paris (1920–1924)
- Авторлар: Magadeev I.E.1
-
Мекемелер:
- Moscow State Institute of International Relations
- Шығарылым: № 1 (2024)
- Беттер: 39-53
- Бөлім: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/255405
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24010036
- ID: 255405
Толық мәтін
Аннотация
The article aims to discern the contents and specifics of the French estimates in regard of the Czechoslovakian role in the interactions between the Third Republic and the Soviet Russia/USSR in 1920–1924. Chiefly, the author analyses the French answers on the question about the significance and potential function of Czechoslovakia in the interstate triangle. Rather recently published French diplomatic documents are used as sources, as well as the evidence taken from the Diplomatic archives of the French Ministry of Europe and foreign affairs, and the from funds of the Historical services of the French Ministry of Armed forces. The author concludes that Paris contemplated two main roles of Prague in the triangle USSR – Czechoslovakian Republic – France. First, Czechoslovakia could be an important element of the «sanitary cordon» directed against Germany and the Soviets; second, she could perform the function of a potential bridge in the case of Franco-Soviet normalisation. Such roles of Czechoslovakia were not antagonistic, and Paris tried to combine them in the French foreign policy and strategy. The variety of international, regional and interior circumstances defined what role was emphasised by the leadership of the Third Republic. In 1919–1921, 1923, when the Soviet-French contradictions were sharp and Paris underlined the «Soviet menace», the right governments of France tended to think about Czechoslovakia more as an important element of the «sanitary cordon», though understanding that the latter wasn’t really solid. On the contrary, in 1922 and from end of 1923, while the interest of France in normalising the relations with the Soviets grew stronger, the role of Czechoslovakia as a potential bridge to USSR attracted more attention of the Paris (these aspirations remained unfulfilled). Though the French estimates were volatile and depended on person, the images of the russophilia of the Czechoslovakian society, and the thesis that antagonism Czechoslovakia and USSR couldn’t escalated to war, persisted.
Негізгі сөздер
Толық мәтін
Международно-политическая и стратегическая ситуация в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) в 1920-е годы находилась под значительным влиянием не только региональных игроков, но и «внешних» держав, в том числе Франции. Третья республика, после Первой мировой войны и ослабления Германии, обладавшая военной мощью, пыталась влиять на решение проблем региона, прежде всего ввиду существования так называемых альянсов с Польшей (с 1921 г.), Чехословакией (с 1924 г.), Королевством сербов, хорватов и словенцев (с 1927 г.), а также наличия консультативного пакта с Румынией (с 1926 г.). Поэтому дипломатов и военных Франции интересовали в том числе и возможности Чехословацкой Республики (ЧСР) в треугольнике государств СССР – ЧСР – Франция.
В историографии внимание к разного рода международным «треугольникам» усилилось в начале 1970-х годов, но продолжается и в последнее время, о чем свидетельствует ряд недавних исторических работ, посвященных различным аспектам международных отношений в межвоенный период. Интерес отечественных и зарубежных историков, если говорить о ЦВЕ, привлекали прежде всего такие «треугольники» государств, как СССР – Польша – Германия [Кантор, Волос 2011], СССР – Франция – Польша [Dessberg 2009], СССР – Польша – Литва [Павлова 2016], СССР – Германия – Великобритания [Salzmann 2002], Великобритания – Германия – страны ЦВЕ [Родин 2021], Франция – Польша – Чехословакия [Davion 2009], Франция – СССР – страны Балтии [Враг, противник, союзник 2021, 206–288; Магадеев 2022].
Хронологические рамки статьи охватывают важный период в нелинейной эволюции, которую претерпели представления французских политиков, дипломатов и военных о стране Советов: от укрепившегося к 1920 г. представления о том, что власть большевиков продержится на протяжении некоторого времени, до официального признания Советского Союза в 1924 г. Источниковую базу статьи составили относительно недавно опубликованные тома «Французских дипломатических документов», материалы Дипломатического архива Министерства Европы и иностранных дел Франции, а также документы из фондов Исторической службы Министерства вооруженных сил Пятой республики.
Представления дипломатов и военных Третьей республики о роли, которую Чехословакия могла бы сыграть во франко-советских отношениях, эволюционировали под влиянием различных обстоятельств: от перипетий внутриполитической, межведомственной и внутриведомственной борьбы во Франции до более фундаментальных региональных и глобальных трансформаций международных отношений.
Своеобразный межгосударственный «треугольник» СССР – Чехословакия – Франция не был равнобедренным. Связи между Францией и Чехословакией как до официального заключения двустороннего договора о союзе и дружбе 25 января 1924 г., так и после него были несравнимо более тесными, чем взаимодействие Парижа или Праги с Москвой.
Можно отметить уникальную по-своему ситуацию 1919–1925 гг., когда глава французской военной миссии в Праге (сначала М. Пелле, затем Э. Миттельхаузер) занимал пост начальника Генерального штаба чехословацкой армии [Wandycz 1962, 296]. Подчеркивая роль французской военной миссии, историк Б. Мишель полагал, что в марте 1920 г. именно влияние генерала Пелле определило основные положения закона о развитии чехословацкой армии по французской модели, в то время как президент Т. Г. Масарик склонялся к созданию армии милиционного типа [Michel 2009, 96]. В декабре 1923 г. Венская резидентура Иностранного отдела Государственного политического управления продолжала исходить из того, что «чешский Генеральный штаб находится в полном подчинении французского Генерального штаба, имеющем место в Праге» 1.
Военно-политическое влияние Франции подкреплялось выделением немаловажных кредитов Чехословакии, одним из ранних примеров которых стал заем в 100 млн франков, предоставленный в 1919 г. [Thiveaud 1990, 255]. О существенном присутствии французского бизнеса в Чехословакии говорит, среди прочего, тот факт, что крупный французский концерн «Шнейдер» за счет сделок, заключенных в августе – сентябре 1919 г., стал собственником 73% капитала заводов «Шкода» [Marguerat 2004, 123].
Несмотря на приведенные выше примеры, нельзя не отметить значительную долю амбивалентности во франко-чехословацких отношениях. Если смотреть на ситуацию с точки зрения французского руководства, то Париж не только испытывал серьезные трудности в попытках консолидировать позиции своих «союзников», в том числе Польши и Чехословакии, разделенных спором о Тешинской Силезии, но и не давал гарантий в отношении собственных действий на случай войны. Франко-чехословацкий договор от 25 января 1924 г. не содержал четких обязательств по оказанию друг другу реальной военной помощи. Комментируя его текст, эксперт МИД Франции (Кэ д’Орсэ) по юридическим вопросам А. Фромажо подчеркивал, что «если Чехословакия окажется в состоянии войны против другого государства, например против Германии, Франция не имеет никаких юридических обязательств также вступать в войну. Она должна лишь согласовывать свои действия с Прагой» 2.
Если наличие тесных и разноплановых франко-чехословацких связей, не лишенных, однако, проблем, было очевидным, то в обозначенном «треугольнике» имелась и другая особенность. Советско-чехословацкие отношения, официально установленные лишь 9 июня 1934 г., все же начали входить в фазу относительной нормализации раньше, чем франко-советское взаимодействие, зафиксированное на официальном уровне 28 октября 1924 г. [Станков 2022а]. Уже заключение Временного договора между РСФСР и Чехословакией 5 июня 1922 г. говорило о большем, чем только об установлении торговых отношений. Договор «фактически означал признание Чехословакией советского правительства де-факто» [Серапионова 2022, 82].
Говоря о периоде с 1920 по 1924 г. в целом, можно отметить, что Чехословакия представала во французских дипломатических и военных оценках в двух основных ипостасях. Во-первых, в качестве важного звена «санитарного кордона», направленного против Германии и СССР; во-вторых, в качестве потенциального моста между Францией и Советским государством в случае заинтересованности Парижа в налаживании отношений с Москвой. Рассмотрим каждый из этих вариантов, не обязательно исключавших друг друга, подробнее.
Представления о том, что образование или воссоздание государств в ЦВЕ отвечало интересам Франции, были распространены в дипломатических кругах Третьей республики уже во время Первой мировой войны. В ноябре 1917 г. директор Управления политических и торговых дел Кэ д’Орсэ П. де Маржери во внутренней переписке акцентировал необходимость «создания новых государств на Востоке (Европы. – И.М.) в качестве бастиона против германской экспансии» [Davion 2010, 54]. Вскоре к функциям этого «бастиона», который французские дипломаты стали обозначать как «санитарный кордон», было отнесено сдерживание и ослабление Советской России, а также воспрепятствование эвентуальной советско-германской «сцепке». Глава французской военной миссии в Чехословакии и глава Генштаба чехословацкой армии генерал Миттельхаузер неоднократно выражал обеспокоенность по поводу того, что «немецкий милитаризм использует русский милитаризм в собственных целях» 3.
В марте 1919 г., реагируя на предложения премьер-министра Великобритании Д. Ллойд Джорджа смягчить условия будущего мирного договора для Германии, председатель Совета министров и военный министр Франции Ж. Клемансо, не согласившись с подобным курсом, предложил поддержать Польшу и Чехословакию – «единственный барьер, который отделяет русский большевизм от германского большевизма» [Néré 1975, 268–269]. Подобная стратегическая логика сохранилась и после заключения мирных договоров 1919–1920 гг. В записке от 10 ноября 1920 г. Генштаб французской армии рассматривал Чехословакию как «основу, на которую может опереться вся политика союзников, и Франции в особенности, на территории Центральной Европы» 4. Летом 1921 г. Миттельхаузер, размышляя о стратегическом положении Чехословакии, подчеркнул сильные и слабые стороны последнего: сильная Чехословакия, с его точки зрения, будет «нестерпимой угрозой» для Германии, Австрии и Венгрии и, напротив, в случае аншлюса ее положение станет почти безвыходным 5.
Французские дипломаты и военные видели в Чехословакии серьезный фактор также в противодействии Советской России/СССР. Особенно важным в этом смысле для Парижа было выстраивание относительно сплоченной и широкой коалиции государств в ЦВЕ, имевшей как антигерманскую, так и антисоветскую направленность. Подобные императивы, формировавшиеся уже в конце Первой мировой войны, стали константой французской дипломатии и стратегии в начале 1920-х годов.
Так, например, 8 февраля 1921 г. генеральный секретарь МИД Франции Ф. Бертело, «правая рука» министра иностранных дел А. Бриана, известный своими прочехословацкими симпатиями [Jordan 2002, 14], призывал польского министра иностранных дел Е. Сапегу к сближению с Прагой. Согласно французскому дипломату, такое сближение необходимо «прежде всего, в интересах самих двух стран, затем – с точки зрения обороны против большевиков, с одной стороны, и против Германии, с другой; наконец, – в интересах поддержания мира и экономической реорганизации Центральной Европы» 6. Схожие резоны в пользу нормализации отношений между странами, в той или иной степени ориентировавшимися на Францию, выдвигал маршал Ф. Фош в записке от 13 февраля того же года для Бриана: «Крайне важно обеспечить координацию усилий Польши, Румынии и Чехословакии с целью подготовки и осуществления обороны против большевизма». Маршал выступал за подписание военной конвенции между тремя указанными государствами 7.
Признаки советско-германского сближения особенно настораживали Париж и усиливали стремление французского руководства сплотить вокруг себя дружественные страны ЦВЕ, что проявилось, например, в реакции председателя Совета министров и министра иностранных дел Р. Пуанкаре на заключение Рапалльского соглашения. В циркулярной телеграмме французским дипломатическим представительствам от 19 апреля 1922 г. Пуанкаре заявил о подготовке ноты протеста против советско-германского договора. «Нота протеста, – писал Пуанкаре, – будет представлена конференции послов (стран Антанты. – И.М.), участие в которой в данном случае примут делегаты Польши, Румынии, Чехословакии и Югославии» 8. Схожий настрой – сплотить вокруг Франции антигермански и антисоветски настроенных партнеров – разделял в конце апреля начальник Генштаба французской армии генерал Э. Бюа: «Необходимо любой ценой объединить в один пучок все народы, имеющие те же интересы, что и мы. Речь идет обо всех участниках Малой Антанты и, если возможно, о балтийских государствах» 9.
Если тезисы о германской и советской «угрозах», среди прочего, рассматривались Парижем как способ консолидировать дружественные страны под эгидой Франции, то Прага, используя идею о нарастании «советской угрозы», стремилась заручиться новыми поставками и кредитами от Третьей республики. Так, например, 8 февраля 1921 г. на Кэ д’Орсэ поступила информация о запросе министра иностранных дел Э. Бенеша относительно поставок вооружений на случай предполагаемого «большевистского нападения» на ЧСР. Бриан не остался равнодушным к просьбе Бенеша и 19 февраля попросил французское Министерство финансов поддержать предоставление ЧСР 150 млн франков для осуществления этих закупок 10.
В условиях Рурского кризиса 1923 г., ознаменованного новыми попытками советско-германского сближения, Париж стремился еще сильнее привязать к себе Прагу. Общие политико-стратегические резоны во французских действиях сочетались с сиюминутными, в том числе с заинтересованностью не допустить в Германию, испытывавшую дефицит угля ввиду оккупации Рура, уголь из Чехословакии.
Уже 31 января и 5 февраля 1923 г., французские военные представители в Праге поставили перед руководством Чехословакии вопрос о заключении политического договора и военной конвенции с Францией. Однако чехословацкое руководство в лице президента Масарика и министра Бенеша не было готово пойти на столь тесное сближение с Парижем. Визит Фоша в Прагу в мае, несмотря на теплый прием, прошел не так эффективно, как хотелось французским военным, пусть он и стал прологом переговоров о военной конвенции, начатых в июне [Язькова 1974, 248]. В целом, «признавая неоспоримые права Франции на германские репарации и рассматривая оккупацию Рура как крайнюю меру, Прага тем не менее дистанцировалась от франко-бельгийской акции, заняв позицию нейтралитета в отношении Германии» [Станков 2007, 202].
Франко-чехословацкий договор от 25 января 1924 г., вопреки пожеланиям Пуанкаре и Фоша, не был подкреплен военной конвенцией, хотя имел секретные военные статьи (они содержались в письмах, которыми обменялись обе стороны). В них говорилось о согласовании генеральными штабами оборонительных планов, при этом конкретный сценарий агрессии и вероятный агрессор не оговаривались, что снижало ценность совместного планирования [Davion 2009, 189–200].
Таким образом, Чехословакия, согласно общим стратагемам Парижа, рассматривалась как важный элемент «санитарного кордона» и союзник в тылу Германии на случай войны. Вместе с тем французские дипломаты и военные не были уверены в прочности подобной конструкции.
Пик французского алармизма по этому поводу пришелся на лето 1920 г., ознаменованное продвижением Красной армии к Варшаве. Тогдашние события выявили рассогласованность действий партнеров Франции: власти Чехословакии отказались обеспечить свободный транзит через свою территорию составов с военными материалами и боеприпасами в направлении Польши 11. Более того, в руководстве Третьей республики не исключали того, что Красная армия прорвется в Чехословакию, и последняя из элемента «санитарного кордона» превратится в трамплин для распространения «мировой революции».
В записке возглавляемого генералом Пелле Генштаба чехословацкой армии от 10 июля 1920 г. отмечено, что «нынешние успехи большевистских войск на Украине заставляют рассмотреть возможность прихода Красной армии на Карпаты». Французские военные не ставили под сомнение нейтралитет ЧСР, они подчеркивали ее нежелание воевать против Советской России, что, среди прочего, говорило о сложности организовать единый «санитарный кордон». Все же французские офицеры делали ставку на эффективность ужесточения внутренних мер по противодействию «большевистской пропаганде». Первым пунктом в их рекомендациях значилось: «Вплоть до нового приказа, в Словакии и Подкарпатской Руси должна поддерживаться диктатура» 12. Еще более тревожными были настроения военного министра Франции А. Лефевра. После встречи с Пелле, состоявшейся 8 августа 1920 г., он полагал, что «русские не остановятся на этом пути. Этой осенью, победив поляков, они решат вопрос с Врангелем, их противником в Крыму. Весной 1921 г. настанет черед румын, а летом – Чехословакии, за которой последуют Венгрия и Австрия. Большевизм тем самым закрепится в центре Европы» 13. Примерно в это же время председатель Совета министров и министр иностранных дел Франции А. Мильеран исходил из необходимости соорудить «барьер против большевистского натиска в Центральной Европе» и стремился ускорить сближение ЧСР и Румынии 14.
Худшие, с точки зрения Парижа, опасения тогда не оправдались, а по мере относительной стабилизации советской власти и введения НЭПа нарастали голоса тех представителей французских элит, которые призывали к частичной нормализации отношений с Москвой. Одним из наиболее известных симптомов подобных настроений стал визит в РСФСР, предпринятый в сентябре – октябре 1922 г. председателем Республиканской партии радикалов и радикал-социалистов, депутатом парламента и мэром Лиона Э. Эррио [Лавренова 2014]. Именно этот политик, возглавивший правительство Франции и Кэ д’Орсэ в мае 1924 г., способствовал установлению дипломатических отношений с Москвой.
В подобных условиях Чехословакия, не переставая восприниматься французскими дипломатами как часть «санитарного кордона», стала рассматриваться и как потенциальный «мост» в получении сведений и информации о Стране Советов, а быть может, – даже как негласный посредник в нормализации диалога между Парижем и Москвой. Вместе с тем французская позиция по указанным вопросам оставалась весьма уклончивой.
Учитывая отсутствие отношений с Советской Россией и наличие определенного «информационного голода», в МИД Франции и Военном министерстве ценили сведения от чехословацких представителей и визитеров в РСФСР. Эти сведения служили одним из информационных «окон» в страну, которая, согласно характеристике военного министра А. Мажино, данной в 1923 г., оставалась «непроницаемой» с точки зрения получения оттуда проверенных и надежных данных 15.
Нередко сведения из чехословацких источников, касавшиеся Советского государства, подтверждали идеи, уже существовавшие во французских дипломатических и военных кругах. Рецепты советской политики Праги, суммированные в депеше Пелле от 4 декабря 1920 г. – необходимость поспособствовать внутренней трансформации советского режима за счет активной пропаганды на РСФСР – «достаточно хорошо корреспондировали со взглядами Бертело» [Hogenhuis-Seliverstoff 1999, 124]. Три года спустя Бенеш продолжил заверять французских дипломатов в том, что «нормализация» советского режима вполне возможна, хотя его собеседник, глава Управления политических и торговых дел Кэ д’Орсэ, граф Э. Перетти делла Рокка, считал такие перспективы весьма туманными 16.
Другие оценки внутренней ситуации в Советской России, высказанные в марте 1922 г. одним из членов торговой миссии ЧСР в РСФСР в беседе с А. Виньоном, руководителем секретариата президента Мильерана, были недалеки от взглядов, присутствовавших на Кэ д’Орсэ и в Елисейском дворце. Чехословацкий представитель говорил о росте ксенофобии и антисемитизма в Советской России, а также не исключал волнений в стране в случае усугубления ситуации с голодом 17. Схожая информация через чехословацкого посредника поступила в МИД Франции несколькими месяцами ранее. Ее источником был генерал А. А. Брусилов, который в беседе 27 января 1922 г. с одним из чехословацких инженеров, побывавшим в РСФСР, говорил о том, что «в нынешнем (большевистском. – И.М.) движении еврейский фактор играет ключевую роль. В России очень много активных и боевитых евреев, обладающих огромной способностью к ассимиляции. Они быстро приобрели колоссальное влияние и преобладают в революционной партии (т. е. РКП(б). – И.М.) и нынешнем правительстве» 18.
Париж также был заинтересован в получении сведений из чехословацких источников ввиду, насколько можно судить, их достаточно высокого качества. Так, передавая в декабре 1922 г. Фошу сведения об активности германских авиационных фирм в Советской России, майор Лубиньяк, глава французской делегации в Межсоюзном гарантийном комитете по контролю над германской авиацией, просил перепроверить их именно через консула ЧСР в Москве 19. Косвенно запрос Лубиньяка свидетельствовал о сохранявшемся недостатке информации о «стране Советов», который ощущали французские представители.
Помимо предоставления информации о советской стороне, Чехословакия могла сыграть и более серьезную роль в нормализации франко-советских отношений. Подобная опция стала активнее обсуждаться в 1923–1924 гг. по мере нарастания идей в Париже о поиске новых контактов с большевиками. Ранее общая международная обстановка и настрой руководства Третьей республики, скорее, не способствовали реализацией Прагой подобных посреднических функций.
Так, 28 октября 1921 г., во время встречи с представителями антисоветской кавказской эмиграции в Париже, Бриан твердо заверил их в том, что попытки большевиков вступить в переговоры с французскими властями «через Чехословакию, Румынию и Польшу», отвергались и впредь будут отвергнуты 20. Информация, поступавшая от самих чехословацких дипломатов в начале Рурского кризиса, также указывала на то, что возможностей для нормализации отношений не так много. 19 февраля 1923 г. посланник ЧСР в Париже С. Осуский говорил Перрети о том, что политика Берлина в отношении Франции ужесточилась, в том числе ввиду того, что Германия рассчитывает на «военную поддержку, которую может найти в России» 21.
Более того, попытки чехословацкого руководства в начале 1920-х годов нормализовать собственные отношения с Советской Россией вызывали настороженность у представителей Третьей республики. Подобные внешнеполитические шаги Праги воспринимались как шедшие вразрез с попытками консолидировать «санитарный кордон». Во французской военной миссии в ЧСР, как свидетельствовала записка от 10 ноября 1920 г., в худшем случае не исключали даже того, что отсутствие солидарности Польши и Чехословакии может «помешать формированию славянского польско-чехословацкого союза и поспособствовать соглашению между Чехословакией, Россией и Германией» 22.
Заключение Временного договора между Чехословакией и РСФСР также стало тревожным «звонком» для Парижа. Бенеш использовал различные аргументы, желая доказать французским дипломатам резоны, стоявшие за его действиями. 17 июня 1922 г. он делился с французским посланником Ф. Куже своим желанием не обострять отношений с Москвой и не усугублять «те страхи, которые Советы вызывают у Румынии и Польши» 23.
Однако во время беседы с Бенешем 7 августа французский поверенный в делах А. Косм дал понять чехословацкому министру, что в Париже, Варшаве и Бухаресте есть «некоторые сомнения» в отношении заключенных ЧСР договоров. «Особенно деликатным», по словам французского дипломата, был вопрос о соотношении обязательств о нейтралитете ЧСР в соглашении с РСФСР с обязательствами Праги в рамках Малой Антанты. Бенеш стремился заверить Косма в том, что Малая Антанта имеет, прежде всего, антивенгерский, а не антисоветский характер, а также в том, что, «если Румыния нападет на Россию, Чехословакия будет придерживаться строгого нейтралитета. Однако если агрессию предпримет Россия, чехословацкое правительство будет освобождено от каких-либо обязательств в отношении Москвы и окажет Румынии самую щедрую помощь». Косм остался не до конца удовлетворен объяснениями Бенеша. В депеше, суммировавшей беседу и отправленной на Кэ д’Орсэ, Косм полагал, что Бенеш создал ситуацию, «когда с российским и румынским правительствами были подписаны два договора, которые противоречат друг другу по некоторым пунктам если не по букве, то по духу» 24. Французский дипломат был по-своему прав, поскольку через год, в июле – августе 1923 г., во время переговоров военных представителей ЧСР и Румынии, чехословацкая сторона отклонила румынский запрос о праве использовать железные дороги ЧСР для снабжения Польши, сославшись именно на условие договора от 5 июня 1922 г. о нейтралитете [Ferenčuhová 2006, 98].
Тем не менее к концу 1923 г., по мере нарастания осторожных попыток Парижа найти новый modus vivendi в отношениях с Москвой, внимание к Чехословакии как к потенциальному посреднику в достижении этой цели усилилось. 27 декабря, беседуя с Перетти в Париже, Бенеш говорил о стремлении к скорому признанию Советского Союза Чехословакией, обставленному рядом условий (выплата долгов, право на возвращение эмигрантов, возможность образования ими политической оппозиции в СССР). Перетти выразил скепсис по поводу согласия большевиков на подобные условия (особенно в отношении оппозиции), однако стремление Бенеша заключить декларацию о ненападении между СССР, Малой Антантой, Польшей и странами Балтии перекликалось с французскими тезисами. Перетти фактически одобрил посредничество Бенеша в контактах с советскими представителями и передачу оговоренных условий Москве 25.
Новая волна слухов в дипломатических кругах о сближении Франции и СССР при посредничестве ЧСР поднялась в январе 1924 г., что было недалеко от истины 26. Французский историк Ф. Дессберг считал, что инициатива использования ЧСР как посредника во франко-советском сближении исходила от уже упоминавшегося Перетти [Dessberg 2009, 24].
3 января Бенеш информировал советского полпреда К. К. Юренева о своих посреднических усилиях перед лицом Пуанкаре. Председатель Совета министров и министр иностранных дел Третьей республики, традиционно внимательный к формально-юридической стороне дела, при этом всячески подчеркивал во внутренней переписке Кэ д’Орсэ, что Бенеш не являлся «посредником» в полном смысле слова 27. Тем не менее Пуанкаре сообщил о готовности к переговорам с советскими представителями при двух условиях – признании Москвой международных договоров и довоенных долгов перед Францией («20 с лишним млрд франков») 28. В ответе Юреневу заместитель наркома по иностранным делам М. М. Литвинов заявил о готовности НКИД к переговорам: «Мы согласны обсудить поставленные нам вопросы при непосредственных переговорах с представителями французского правительства» и «не видим непреодолимых препятствий для удовлетворительного их разрешения» 29. Нарком Г. В. Чичерин даже публично озвучил готовность к переговорам при посредничестве ЧСР в интервью французскому журналисту от 26 января 30.
Однако Пуанкаре в итоге не пошел на этот вариант. Более того, нельзя исключать, что Бенеш представил французскую позицию как более мягкую, нежели она была на самом деле. В записке от 29 декабря 1923 г. Виньон суммировал итоги бесед Бенеша с Пуанкаре и кадровыми дипломатами, состоявшиеся в Париже. Перетти говорил на них о том, что «Советы должны создать в России такую ситуацию, с международной точки зрения, которая сделает для нас возможным проведение с ними переговоров». По сути, речь шла о тех же условиях, которые были сформулированы на Каннской и Генуэзской конференциях 1922 г. и оставались неприемлемы для Москвы, ведь они de facto предполагали демонтаж советского строя: «Мы не собираемся вести с ними переговоров по этому поводу, поскольку не собираемся предоставлять им никаких компенсаций (в обмен на реализацию Каннских и Генуэзских условий. – И.М.)». Более того, и сам Бенеш отметил тогда, что «Пуанкаре не говорил ему о возможности признания советского правительства. Перетти ответил: в этом и состоит наша позиция. […] Как бы там ни было, Бенеш, безусловно, попытается извлечь что-то из намеков Перетти, дабы попытаться получить от Советов некоторые уступки», – суммировал Виньон. Помимо двойственности позиции самого Пуанкаре, никуда не исчезла и та оппозиция признанию Советского Союза Францией, которую олицетворял президент Третьей республики Мильеран 31.
В феврале 1924 г. Бенеш был настроен уже весьма скептично, полагая, что его посреднические усилия не увенчаются успехом. 14 февраля он говорил французскому посланнику Куже о том, что не ожидает положительной реакции Москвы на сделанные ранее предложения: «Советы в настоящее время опьянены признанием Англии и Италии», и будут строить свои отношения с Францией, исходя из условий переговоров и договоренностей с британцами 32. Публикация 26 февраля Российским телеграфным агентством пересказа предложений Бенеша (последний не был назван напрямую, но его личность угадывалась за туманными формулировками) была резко негативно воспринята Пуанкаре 33. По всей видимости, публикация фиксировала разочарование НКИД в возможности договориться, а также желание получить от несостоявшейся затеи дивиденды хотя бы пропагандистского характера.
В целом попытка сыграть роль посредника и своеобразного моста между Францией и СССР в 1923–1924 гг. отвечала общему внешнеполитическому позиционированию Чехословакии, как его видели Масарик и Бенеш. Так, президент ЧСР рассматривал свою страну не столько как часть Восточной Европы, сколько как ключевой элемент так называемой Средней Европы. С точки зрения Масарика, Чехословакия могла стать как барьером, так и мостом между «германским и славянским миром» [Ferenčuhová 2008, 362]. Говоря о посреднических попытках чехословацкой дипломатии, примечательным, например, было и то, что в 1923 г. Прага являлась местом советско-югославских переговоров по установлению контактов, закончившихся, правда, безуспешно [Станков 2022b, 165]. В период Рурского кризиса организовать переговоры с французами через Бенеша пытался и МИД Германии. Однако в марте 1923 г. министр иностранных дел Чехословакии ответил на этот зондаж отказом, за что его поблагодарил Пуанкаре 34.
Как можно заметить из вышесказанного, на протяжении 1920–1924 гг. французские оценки роли Чехословакии во франко-советском взаимодействии не были неизменными. На них влияли разнообразные факторы. Общие тренды развития международных отношений в глобальном и региональном масштабах, процессы некоторой консолидации власти большевиков в СССР постепенно склоняли Париж к нормализации отношений с Москвой. Ряд исследователей даже исходит из того, что смена власти в Третьей республике в мае 1924 г. (правоцентристский Национальный блок был сменен левоцентристским Картелем левых) не имела принципиального значения, и между советской политикой Пуанкаре и Эррио имелись важные черты континуитета [Hogenhuis-Seliverstoff 1981; Магадеев 2022; Dessberg 2009, 20].
Несмотря на различные флуктуации, определенное концептуальное «ядро» присутствовало и во французских представлениях о роли, которую Чехословакия могла сыграть во взаимодействии Третьей республики и Страны Советов. Помимо обозначенных выше идей о значении Чехословакии как важного элемента «санитарного кордона», о желательности преодоления польско-чехословацких противоречий, наличие которых ослабляло «тыловых союзников» Франции, важной константой была идея о русофильстве чехословацкого общества. Такие настроения создавали определенные рамки для действий официальной Праги.
Как отмечалось в записке Генштаба французской армии от 10 ноября 1920 г., «как бы решительно» чехословацкое правительство «не было настроено опираться на Запад, последнее не может заявить о своем антагонизме России, будь та советской, демократической или имперской» 35. Опасаясь в июле 1920 г. возможного выхода Красной армии на границы Чехословакии, французские офицеры в Праге в качестве фактора риска обращали повышенное внимание на «русофильское» население Подкарпатской Руси 36. Сам Бенеш также пытался использовать представление о русофильстве чехословацкого общества как аргумент в дискуссиях с французами. 7 августа 1922 г., аргументируя резоны, стоявшие за Временным договором между Чехословакией и РСФСР, в беседе с Космом, министр иностранных дел ЧСР, среди прочего, не обошелся и без традиционных ссылок на русофильские настроения в своей стране, отметив, что «чехи сильно привязаны к русскому народу» 37.
Некоторые константы французских представлений о Чехословакии не отменяли того, что многое продолжало зависеть от конкретного деятеля и персоны в истеблишменте Третьей республики. Степень симпатий к Чехословакии, которую питали французские дипломаты и военные, разнилась. Если Бертело и Пелле можно отнести к симпатизантам Праги, то влиятельный генерал М. Вейган, близкий сподвижник Фоша, сыгравший важную роль в оказании помощи Польше в 1920 г., занимал более критическую позицию. Беседуя 28 октября 1922 г. с Вейганом, генерал Бюа призвал донести до Фоша идею о желательности поездки маршала в Польшу, ЧСР и КСХС. Если начальник Генштаба намекал на необходимость усилить связи партнеров Франции друг с другом, то Вейган занял более выраженную пропольскую позицию. Во время встречи он озвучил информацию, поступившую ему из польской дипломатической миссии в Бухаресте. Речь шла о том, что «чехи и сербы сговорились выступить против передачи Восточной Галиции Польше и хотят закрепить ее за Чехословакией. Таким образом, эта славянская держава будет соприкасаться с Россией и отрежет поляков и румын друг от друга!» 38.
В Париже были осведомлены и о разнообразии точек зрения по поводу выстраивании отношений с СССР, которое существовало в самой Чехословакии. Оппонент Бенеша, чехословацкий политик К. Крамарж, выступал активным сторонником «белой» эмиграции и противником франко-советского сближения [Серапионова 2006]. 15 декабря 1923 г. он говорил французскому посланнику Куже, что официальное признание СССР Францией станет «катастрофой, которая лишит будущую Россию единственного друга, на которого она может рассчитывать за рубежом». Именно в «белой эмиграции» Крамарж видел силу, «которой предназначено сыграть огромную роль в обновлении России» 39. Наличие подобных точек зрения отчасти ослабляло посреднические усилия Бенеша.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ДВП СССР – Документы внешней политики СССР.
КСХС – Королевство сербов, хорватов и словенцев.
НКИД – Народный комиссариат иностранных дел.
ЧСР – Чехословацкая Республика.
117 CPCOM–Correspondence politique et commerciale. Série Z-Europe, 1918–1940.
118 PAAP – Papiers Millerand.
AMAE – Archives du Ministère des Affaires étrangères, Courneuve.
DDF – Documents diplomatiques français.
SHD/DAT – Service historique de la défense / Département de l’armée de terre, Vincennes.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Документы внешней политики СССР. М.: Госполитиздат, 1963. Т. 7. 740 с.
Русская военная эмиграция, 20–40-х годов. Документы и материалы. М., 2001. Т. 2.
Топчибаши А. М. Парижский архив 1919–1940. М.: Художественная литература, 2016. Кн. 2 / сост.: Г. Мамулиа, Р. Абуталыбов; науч. ред. И. Агакишиев. 576 с.
Archives du Ministère des Affaires étrangères. La Courneuve.
Documents diplomatiques français. 1920. Paris: Imprimerie nationale, 1999. T. 2. 688 p.; 1921. T. 1. Bruxelles: P.I.E. Lang, 2004. 843 p.; 1922. T. 1. Bruxelles: P.I.E. Lang, 2007. 837 p.; 1922. T. 2. Bruxelles, 2008. 664 p.; 1923. T. 1. Paris: P.I.E. Lang, 2010. 756 p.; 1924. T. 1. Paris: P.I.E. Lang, 2013. 652 p.
Journal du général Buat, 1914–1923. Paris: Perrin, 2015. 1400 p.
Mission militaire française auprès de la République Tchécoslovaque 1919–1939. Édition documentaire. Sér. 1. Vol. 4. Praha: Vojenský historický ústav, 2009. 386 p.
Service historique de la défense / Département de l’armée de terre.
1 Русская военная эмиграция, 353.
2 DDF. 1924. T. 1, 180.
3 AMAE. 118 PAAP. Vol. 67. F. 35. Mittelhauser à Paris, 18 décembre 1921.
4 Mission militaire française, 67.
5 Ibid., 108.
6 DDF. 1921. T. 1, 161.
7 Ibid., 188.
8 Ibid., 491.
9 Journal du général Buat, 1202.
10 DDF. 1921. T. 1, 189, note 3.
11 Ibid. 1920. T. 2, 357.
12 Mission militaire française, 44–45.
13 Journal du général Buat, 909.
14 DDF. 1920. T. 2, 377.
15 Ibid. 1923. T. 1, 657.
16 AMAE. 117 CPCOM. Vol. 353. F. 40. Visite de Beneš à Peretti, 27 décembre 1923.
17 Ibid. 118 PAAP. Vol. 67. F. 90. Note de Vignon, 22 mars 1922.
18 Ibid. F. 77. Renseignement, Russie soviétique. Interiew du Général Brussilov, 27 février 1922.
19 SHD/DAT 4N94.
20 Топчибаши, 255.
21 DDF. 1923. T. 1, 255–256.
22 Mission militaire française, 68–69.
23 AMAE. 118 PAAP. Vol. 92. F. 52. Couget à Poincaré, 17 juin 1922.
24 DDF. 1922. T. 2, 140–141.
25 AMAE. 117 CPCOM. Vol. 353. F. 39–41. Visite de Beneš à Peretti, 27 décembre 1923.
26 Ibid. F. 68. De Vienne à Paris, 8 janvier 1924.
27 DDF. 1924. T. 1, 194.
28 ДВП СССР, 11.
29 Там же, 19.
30 Там же, 48.
31 DDF. 1923. T. 2, 788–789.
32 Куже передал настрой Бенеша в телеграмме от 14 февраля 1924 г. Она была отправлена в Париж после беседы посланника с министром иностранных дел ЧСР. См.: DDF. 1924. T. 1, 120, note 1.
33 Ibid., 232–233.
34 Ibid., 323.
35 Mission militaire française, 69.
36 Ibid., 44–45.
37 DDF. 1922. T. 2, 141.
38 Journal du général Buat, 1265.
39 AMAE. 117 CPCOM. Vol. 353. F. 29. Couget à Poincaré, 15 décembre 1923.
Авторлар туралы
Iskander Magadeev
Moscow State Institute of International Relations
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: iskander2017@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-6521-2202
Ph D. (History), Аssociate Professor
Ресей, MoscowӘдебиет тізімі
- Davion I. Mon voisin, cet ennemi: la politique de sécurité française face aux relations polono-tchécoslovaques entre 1919 et 1939. Bruxelles, Peter Lang Publ., 2009, 472 p.
- Davion I. Comment exister au centre de l’Europe? Les relations stratégiques franco-polonaises entre 1918 et 1939. Revue historique des armées, 2010, no. 260, pp. 54–64.
- Dessberg F. Le triangle impossible: les relations franco-soviétiques et le facteur polonais dans les questions de sécurité en Europe (1924–1935). Bruxelles, Peter Lang Publ., 2009, 440 p.
- Ferenčuhová B. La vision slovaque des relations entre la France et la Petite Entente (1918–1925). Nations, cultures et sociétés d’Europe centrale aux XIXe et XXe siècles. Mélanges offerts à Bernard Michel, ed. C. Horel. Paris, Éditions de la Sorbonne, 2006, pp. 83–105.
- Ferenčuhová B. L’alliance franco-tchécoslovaque dans l’entre-deux-guerres. Le poids de l’image du français et du russe/soviétique dans le processus de décision en politique étrangère. Images des peuples et histoire des relations internationales du XVI siècle à nos jours, eds. M. M. Benzoni, R. Frank, S. M. Pizzetti. Paris, Publications de la Sorbonne, 2008, pp. 357–375.
- Hogenhuis-Seliverstoff A. Les relations franco-soviétiques 1917–1924. Paris, Publications de la Sorbonne, 1981, 316 p.
- Hogenhuis-Seliverstoff A. La trace tenue d’une alliance ancienne: La France et la Russie, 1920–1922. Guerres mondiales et conflits contemporains, 1999, no. 193, pp. 117–130.
- Iaz’kova A. A. Malaia Antanta v jevropeiskoi politike. 1918–1925. Moscow, Nauka Publ., 1974, 330 p. (In Russ.)
- Jordan N. The Popular Front and Central Europe: The Dilemmas of French Impotence 1918–1940, Cambridge, Cambridge University Press Publ., 2002, 368 p.
- Kantor Iu.Z., Volos M. Treugol’nik Moskva–Varshava–Berlin: Ocherki istorii sovetsko-pol’sko-germanskikh otnoshenii v 1918–1939 gg. Moscow, Jevropeiskii dom Publ., 2011, 218 p. (In Russ.)
- Lavrenova A. V. Pojezdka Eduarda Errio v Sovetskuiu Rossiiu v 1922 godu (po novym arkhivnym materialam). Novaia i noveishaia istoriia, 2014, no. 4, pp. 57–68. (In Russ.)
- Magadejev I. E. Rol’ stran Baltii v sovetsko-frantsuzskikh otnosheniiakh perioda nepriznaniia, 1919–1924 gg. Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriia: Istoriia Rossii, 2022, t. 21, no. 2, pp. 161–176. (In Russ.)
- Marguerat Ph. Les investissements français dans le Bassin danubien durant l’entre-deux-guerres: pour une nouvelle interprétation. Revue historique, 2004, no. 629, pp. 121–162.
- Michel B. La présence française en Tchécoslovaquie et en Pologne de l’entre-deux-guerres à la prise du pouvoir par les communistes (1918–1951). Le rayonnement français en Europe centrale du XVIIe siècle à nos jours, eds. O. Chaline, J. Dumanowski, M. Figeac. Pessac, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2009, pp. 93–107.
- Néré J. The Foreign Policy of France from 1914 to 1945, London, Routledge, 1975, 366 p.
- Pavlova M. S. Litva v politike Varshavy i Moskvy v 1918–1926 godakh. Moscow, Aspekt Press Publ., 2016, 176 p. (In Russ.)
- Rodin D. V. Projekty «novykh Lokarno» v anglo-germanskikh otnosheniiakh vo vtoroi polovine 1920-kh godov. Diss. kand. ist. nauk. Moscow, 2021, 367 p. (In Russ.)
- Salzmann S. C. Great Britain, Germany and the Soviet Union: Rapallo and After, 1922–1934. London Boydell Press., 2002, 201 p.
- Serapionova Je. P. Karel Kramarzh i Rossiia, 1890–1937 gody: ideinyje vozzreniia, politicheskaia aktivnost’, sviazi s rossiiskimi gosudarstvennymi i obshchestvennymi deiateliami. Moscow, Nauka Publ., 2006, 512 p. (In Russ.)
- Serapionova Je. P. Vremennyi dogovor mezhdu RSFSR i Chekhoslovakijei: k 100-letiiu podpisaniia. Slavianskii al’manakh, 2022, no. 1–2, pp. 68–85. (In Russ.)
- Stankov N. N. Franko-bel’giiskaia okkupatsiia Rurskoi oblasti i politika Chekhoslovakii (ianvar’–fevral’ 1923 g.). Vostochnaia Jevropa posle Versalia, ed. I. I. Kostiushko. Saint Petersburg, Aleteiia Publ., 2007, pp. 187–202. (In Russ.)
- Stankov N. N. Pervyi sovetsko-chekhoslovatskii dogovor: ot projekta do podpisaniia (2 aprelia 1921–5 iiunia 1922 goda). Slavianovedenije, 2022a, no. 3, pp. 5–19. (In Russ.)
- Stankov N. N. Sovetsko-iugoslavskije peregovory v Prage ob ustanovlenii diplomaticheskikh otnoshenii (1926–1928 gg.). XV Plekhanovskije chteniia. Sovetskii Soiuz v geopoliticheskikh usloviiakh 1927–1941 gg.: problemy, tseli i rezul’taty v oblasti vnutrennego i vneshnepoliticheskogo kursov stroitel’stva gosudarstva, ed. T. I. Filimonova. Saint Petersburg, RNB Publ., «Nits-art» Publ., 2022b, pp. 165–174. (In Russ.)
- Thiveaud J.-M. L’arme financière en Tchécoslovaquie (Paris 1918 – Munich 1938). Revue d’économie financière, 1990, no. 12–13, pp. 252–263.
- Vrag, protivnik, soiuznik? Rossiia vo vneshnei politike Frantsii v 1917–1924 gg., ed. A. Iu. Pavlov, t. 2. Saint Petersburg, RKHGA Publ., 2021, 892 p. (In Russ.)
- Wandycz P. S. France and her eastern allies, 1919–1925: French-Czechoslovak-Polish Relations from the Paris Peace Conference to Locarno. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1962, 454 p.