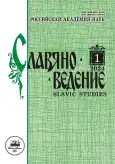Participation of the Comintern and the All-Slavic Anti-Fascist Committee in the Сreation of Foreign Military Formations on the Territory of the USSR (1941–1945)
- Авторлар: Sinitsyn F.L.1
-
Мекемелер:
- Institute of World History Russian Academy of Sciences
- Шығарылым: № 1 (2024)
- Беттер: 70-81
- Бөлім: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/255407
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24010056
- ID: 255407
Толық мәтін
Аннотация
During the Great Patriotic War, on the territory of the USSR there were created military formations consisting of representatives of peoples, whose main ‘ethnic array’ was located outside the USSR. The Executive Committee of the Comintern, the foreign bureaus of the Communist Parties and established in 1941 the All-Slavic Anti-Fascist Committee were directly involved in the creation of foreign military units. The activities of these socio-political structures had several directions, including preparatory and propaganda work aimed at motivating the transition of soldiers of enemy armies to the Soviet side and the entry of prisoners of war (POW) into the ranks of foreign military units created in the USSR, direct participation in the creation of these formations and their further political and propaganda support. One of the most effective forms of work were anti-fascist schools and courses created in POW camps. The activities of the Comintern and the All-Slavic Committee were carried out on a common ideological platform that corresponded to the guidelines of Soviet policy.
Негізгі сөздер
Толық мәтін
В годы Великой Отечественной войны на территории СССР были созданы формирования из представителей народов, чей основной «этнический массив» находился за пределами СССР, в том числе польские, чехословацкие, югославские, румынские, французские. К маю 1945 г. в иностранных частях, действовавших совместно с Красной армией, числились более 500 тыс. чел. Этот тип воинских формирований, активно использовавшийся советским командованием в боях против вермахта и его сателлитов, наименее изучен в современной исторической литературе. В том числе недостаточно раскрыто участие в процессе создания иностранных воинских частей «общественно-политических» акторов – Коммунистического Интернационала (включая его Исполком и заграничные бюро компартий) и Всеславянского антифашистского комитета.
С самого начала Великой Отечественной войны Коминтерн включился в работу по отражению гитлеровской агрессии. Идеологическая основа его работы подверглась корректировке в духе нового курса советской политики и пропаганды. Утром 22 июня 1941 г. И. В. Сталин сказал генеральному секретарю Исполкома Коминтерна Г. Димитрову о необходимости дать компартиям установку на развертывание «движения в защиту СССР», но при этом «не ставить вопрос о социалистической революции» [Фирсов 1992, 34], что и было Димитровым сделано 1. На практике такой курс проявился, например, в том, что в выступлениях военного времени лидер чехословацких коммунистов К. Готвальд делал упор на патриотизм, приверженность свободе и демократии без упоминаний о коммунизме, классовой борьбе и революции [Korbel 1965, 50]. Кроме того, пропагандистская деятельность Коминтерна стала опираться в том числе на всеславянский и антигерманский факторы 2, что в принципе противоречило его «интернационалистской» основе.
Однако такой подход был обусловлен и целями войны против нацистской Германии, которая рассматривалась как борьба против германского империализма, и широким использованием концепции «славянской взаимности» в советской политике военного периода. «Неославянское движение» развивалось и стало инструментом для мобилизации славян на борьбу против гитлеровской Германии [Марьина 1997, 173]. «Славянская идея» сопрягалась с пропагандой братства и дружбы с русским народом и Россией, ориентацией на Советский Союз, рассматривавшийся как «победоносная славянская великая держава на востоке» 3.
10–11 августа 1941 г. в Москве был созван первый Всеславянский антифашистский митинг, в котором приняли участие представители всех основных славянских народов, призвавший к объединению славянского мира «для скорейшего и окончательного разгрома германского фашизма» 4. Менее чем через два месяца, в один из самых тяжелых моментов войны, 5 октября 1941 г., по указанию советского руководства был учрежден Всеславянский антифашистский комитет под председательством начальника Военно-инженерной академии РККА генерал-лейтенанта А. С. Гундорова. Его заместителями стали польский генерал М. Янушайтис, югославский общественный деятель Б. Масларич, чехословацкий ученый З. Неедлы и болгарский общественный деятель А. Стоянов 5.
В деле формирования в СССР иностранных воинских частей Исполком Коминтерна, заграничные бюро компартий и Всеславянский комитет работали рука об руку, обеспечивая для этих частей антифашистскую (антинацистскую) и патриотическую политико-пропагандистскую основу. Между Коминтерном и Комитетом имелась тесная «персональная» связь, так как многие их сотрудники принадлежали к обеим организациям и одновременно были связаны с формированием иностранных воинских частей – например, югославские коммунисты В. Влахович, Б. Масларич и заместитель командира чехословацкой воинской части по вопросам просвещения и воспитания Я. Прохазка 6.
С первых дней войны Коминтерн занялся привлечением к участию в войне иностранных коммунистов, находившихся в СССР. Из их числа набирали группы разведчиков и диверсантов, которых затем советские спецслужбы готовили и забрасывали в тыл врага. За годы войны несколько тысяч человек были направлены почти во все оккупированные страны Европы. Кроме того, вынашивались планы создания «интернациональных бригад» (по примеру формирований, участвовавших в 1936–1938 гг. в гражданской войне в Испании на стороне республиканцев). По некоторым сведениям, в июне 1941 г. Г. Димитров предложил правительству СССР «сформировать специальную бригаду, включив в нее политэмигрантов – испанцев, французов, англичан, немцев, поляков, итальянцев и других», в том числе «для непосредственного участия в военных операциях на фронте». В итоге это предложение не было реализовано [Байерляйн 2011, 453, 476], однако «фактор интербригад» в дальнейшем использовался в советской пропаганде, направленной на мотивацию вступления военнопленных в иностранные воинские части, создававшиеся в СССР 7.
Одним из главных направлений деятельности Коминтерна и Всеславянского комитета (с октября 1941 г.) в сфере создания иностранных воинских частей на территории СССР стала политико-пропагандистская работа среди военнопленных – одного из основных контингентов для комплектования таких формирований. Эта деятельность проводилась под управлением и контролем ЦК ВКП(б) в тесном сотрудничестве с Главным управлением по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР (ГУПВИ) и Главным политуправлением Красной армии.
В августе 1941 г. в Темниковский лагерь № 58 (Мордовская АССР) для выяснения настроений военнопленных была направлена бригада, в состав которой вошли представители Исполкома Коминтерна В. Ульбрихт, Я. Шверма и С. Драганов. Участники бригады провели в лагере индивидуальные беседы и митинги с военнопленными 8. 21 августа 1941 г. секретариат Исполкома Коминтерна заслушал информацию об этой поездке и рекомендовал организовать в лагерях специальные курсы для антигитлеровски настроенных солдат и офицеров [Крупенников 2001, 78]. Однако – в том числе из-за тяжелого положения в стране – переход к широкой пропагандистской работе с пленными затянулся 9.
Наконец, 24 января 1942 г. Исполком Коминтерна создал постоянную комиссию по работе среди военнопленных под председательством В. Ульбрихта (комиссия также получила название «Институт № 99» или «НИИ № 99») [Там же, 79–80]. В лагерях военнопленных и рабочих батальонах была развернута печатная и радиопропаганда 10. Политическая работа с военнопленными проводилась с применением разных форм и методов, наиболее распространенными из которых являлись индивидуальные и групповые беседы, лекции, собрания, конференции с принятием на последних обращений и воззваний. Создавались антифашистские кружки 11, проводились конференции [Толмачев 1992, 86].
Наиболее глубокой по целям и содержанию формой политической работы с военнопленными стало создание антифашистских школ и курсов, где обучались в том числе представители народов, из числа которых создавались иностранные воинские формирования, – венгры, поляки, румыны, словаки, французы, хорваты и др. Одна из задач, которая ставились перед выпускниками этих школ и курсов, заключалась в ведении агитации среди других военнопленных, побуждающей их к вступлению в создававшиеся в СССР воинские части.
В апреле 1942 г. при лагере военнопленных № 74 (с. Оранки Горьковской обл.) власти организовали антифашистскую политическую школу с трехмесячным курсом обучения. В качестве ее преподавателей привлекались зарубежные коммунисты, в том числе участники гражданской войны в Испании [Крупенников 2001, 83–84, 86]. Процедура набора в школу была довольно сложной. В ней принимали участие органы ГУПВИ, Исполком Коминтерна и загранбюро соответствующих компартий. Основное внимание уделялось таким предметам, как экономика СССР, история ВКП(б), новейшая история соответствующих стран, основы диалектического и исторического материализма, вопросы текущей политики, а также проблемы коммунистического и рабочего движения [Там же, 83–84, 86]. Политическая работа проводилась с представителями каждой из 15 национальностей военнопленных отдельно и с учетом национальных особенностей [Всеволодов 2003, 115], в том числе с использованием славянского фактора 12. В рамках первого набора (май – август 1942 г.) в Оранской школе обучались 107 чел., второго набора (октябрь – декабрь 1942 г.) – 90 чел 13. 19 января 1943 г. был организован третий набор 14.
Одновременно с началом обучения третьего набора в работе антифашистской школы произошли изменения. Секретариат Исполкома Коминтерна постановлением 19 января 1943 г. признал «необходимым расширение школы до 250–300 чел.» и формирования немецкого, австрийского, итальянского, румынского, венгерского, польского и чехословацкого секторов (в дальнейшем был создан также югославский сектор, большой вклад в работу которого внес деятель Коминтерна и Всеславянского комитета В. Влахович) 15.
Затем школу перевели в Красногорский лагерь военнопленных № 27 16, расположенный вблизи Москвы, главным образом из-за необходимости поддерживать постоянные контакты с деятелями Коминтерна [Крупенников 2001, 82]. После мая 1943 г., в связи с роспуском Коминтерна, вопросами работы среди военнопленных продолжил ведать НИИ № 99, работавший под контролем Отдела международной информации ЦК ВКП(б) 17.
Всего Красногорская школа в 1943–1945 гг. выпустила 2247 чел. [Там же, 94]. Кроме того, с июня 1943 г. начали работу Южские курсы антифашистов (лагерь № 165 в с. Талицы Ивановской обл.) 18, через которые к маю 1945 г. прошли 3968 чел 19. Школы и курсы для военнопленных также были созданы в рамках Красной армии – на шести фронтах и в ряде армий [Там же, 91]. Всего в антифашистских школах и на курсах, созданных советскими властями для военнопленных, прошли обучение 73 756 чел. [Всеволодов 2003, 120].
В процессе обучения военнопленных выявились проблемы, связанные, во-первых, с некачественным отбором обучающихся, из-за чего «в процессе занятий имел место значительный отсев учеников как по деловым признакам, так и по морально-политическим». Было предложено «обеспечить в дальнейшем более тщательный отбор, обратив при этом внимание на необходимость увеличения количества слушателей из среды рабочих крупных предприятий и беднейшего крестьянства» 20, т. е. представителей социальных слоев, как ожидалось, более податливых к советской пропаганде.
Во-вторых, вызывало сомнения наличие у некоторых военнопленных антифашистской мотивации, «идейности». Часто людьми двигали меркантильные интересы, поиск большей порции хлеба или каши [Там же, 119] (размер продуктового пайка в антифашистских школах был выше, чем в обычном лагере 21). Сотрудники антифашистских школ и курсов вели работу по выявлению и отсеиванию таких слушателей. В-третьих, со стороны советских властей присутствовало определенное недоверие иностранным коммунистам – несмотря на то, что в школе преподавали люди, «многократно проверенные на преданность» [Крупенников 2001, 84]. В изданных в апреле 1944 г. предложениях по антифашистской работе среди военнопленных ответственный сотрудник Отдела международной информации ЦК ВКП(б) Д. З. Мануильский написал о необходимости «тщательно проверить состав преподавателей антифашистской школы и инструкторов из числа членов зарубежных компартий, работающих в лагерях военнопленных, и отвести от работы всех лиц, не внушающих доверия» 22. Очевидно, политическая работа с многомиллионной массой военнопленных была чрезвычайно важна, и советские власти не могли допустить каких-либо эксцессов.
Тем не менее эти проблемы не помешали успеху антифашистской политико-пропагандистской работы с военнопленными. Многие пленные венгры, румыны и представители других народов достаточно быстро воспринимали советскую точку зрения, осознав, к каким пагубным последствиям ведет участие их стран в войне на стороне гитлеровской коалиции [Всеволодов 2005, 119]. Как отметил уже в августе 1941 г. Д. З. Мануильский, «румынские военнопленные, в большинстве своем по социальному положению бедняки-крестьяне, быстро поддаются обработке». Сотрудники бригады, работавшей тогда же в Темниковском лагере, утверждали, что «среди румынских пленных сильны антигерманские настроения», и поэтому они легко «соглашались на выступления и коллективные обращения о борьбе с Гитлером и Антонеску» 23.
Согласно выводам советских властей и Исполкома Коминтерна, деятельность антифашистских школ и курсов была эффективной. Подтверждали это и количественные данные: если в лагерях военнопленных к концу 1942 г. насчитывалось не менее 1967 активистов-антифашистов [Крупенников 2001, 65– 66, 81], то к концу 1943 г. в их рядах состояли уже 6693 чел 24.
Эффективность демонстрировали и данные о настроениях выпускников. Так, составленная в ноябре 1942 г. характеристика румынского военнопленного К. Цурли гласила, что он «политически грамотный, серьезен, с первого дня завоевал авторитет среди военнопленных своим умением в беседах, ходит во все мастерские, каждую информацию использует умело. Умеет организовать массовые мероприятия, работает много над собой. Имеет перспективы стать хорошим политическим работником» 25. 7 декабря 1943 г. начальник ГУПВИ И. А. Петров сообщил первому заместителю наркома внутренних дел СССР С. Н. Круглову, что все слушатели, окончившие Антифашистскую школу в рамках третьего набора, «к занятиям готовились с большим интересом, добросовестно и прилежно, лекции слушались внимательно, программа усвоена в основном на хорошо и отлично». Петров сделал вывод, что «поставленная школой задача выполнена. Слушатели за период пребывания их в школе заметно политически выросли. Абсолютное большинство их хорошо ориентируется в основных вопросах Советского Союза, в вопросах Второй мировой войны и текущей политики» 26.
Как и планировалось, важнейшим практическим результатом политико-пропагандистской работы среди военнопленных стало их стремление с оружием в руках выступить на борьбу с фашизмом на стороне СССР [Всеволодов 2005, 119]. Эта задача была поставлена советским руководством уже в первое полугодие войны 27. В результате проведенной в лагерях работы 18 942 военнопленных румын подали заявления о вступлении в дивизию им. Т. Владимиреску. Кроме того, в соответствующие воинские формирования из лагерей военнопленных были направлены 3217 чехословаков, 1545 поляков, 1380 представителей народов Югославии 28. В иностранные воинские части так же направляли учащихся и выпускников антифашистских школ – так, из третьего набора Красногорской школы в эти формирования поступили все выпускники югославского (59 чел.), чехословацкого (18 чел.) 29и польского (26 чел.) секторов, а также три румына 30.
Исполком Коминтерна, заграничные бюро компартий и Всеславянский комитет приняли непосредственное участие в создании иностранных воинских частей. В 1941 г. началась политико-пропагандистская работа в 1-м чехословацком батальоне и польской армии В. Андерса, последней, ввиду ее «шаткого» политического состояния, уделялось наиболее пристальное внимание. К середине декабря 1941 г. Коминтерн направил 81 человека для работы в польских дивизиях [Лебедева 1993, 154]. 5 февраля 1943 г. секретариат Исполкома Ком- интерна принял постановление, в котором одной из целей антифашистской работы с военнопленными обозначил «подготовку национальных военных частей для соответствующих стран» 31. Состоявшийся в октябре 1943 г. 6-й пленум Всеславянского комитета утвердил курс на содействие организации и всесторонней подготовке чехословацких, польских и югославских воинских частей на территории СССР [Досталь 2000, 184]. В ноябре 1943 г. В. Влахович направил Д. З. Мануильскому письмо с предложением шире вовлечь членов комитета в работу с югославскими военнопленными 32.
Затем сотрудники Исполкома Коминтерна 33, заграничных бюро компартий [Адибеков 1997, 39] и Всеславянского комитета приняли участие в формировании и политико-пропагандистском сопровождении польской армии З. Берлинга, румынских и югославских воинских формирований, венгерских добровольческих частей. Так, по ходатайству Г. Димитрова была реализована идея Центрального бюро коммунистов Польши о создании школы на 150 чел. для подготовки политсостава польских формирований, создан институт уполномоченных польской армии при политуправлениях фронтов и политотделах армий 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 34.
Члены Всеславянского комитета выезжали в районы формирования иностранных воинских частей. В сентябре 1943 г. состоялась поездка представителей комитета в Чехословацкую бригаду, которая произвела на них «самое лучшее впечатление». В феврале 1944 г. представители комитета Д. Влахов, В. Влахович, З. Неедлы, Б. Масларич, В. С. Осьминин и И. Регент посетили 1-й югославский батальон, где огласили обращение к «солдатам и офицерам Югославской добровольческой части в СССР». Члены комитета – в частности, З. Неедлы – бывали и на фронте в расположении созданных в СССР иностранных частей 35.
Всеславянский комитет оказал помощь многим славянам-добровольцам во вступлении в формировавшиеся в СССР воинские части [Досталь 2000, 184– 185]. Чешский композитор Вит Неедлы – сын одного из руководителей комитета Зденека Неедлы – возглавил ансамбль Чехословацкого армейского корпуса 36.
После начала создания в СССР иностранных воинских частей среди военнопленных была расширена пропаганда, мотивировавшая вступление в эти формирования. Так, в 1943 г. в связи с созданием румынской дивизии им. Т. Владимиреску в лагерях провели 41 совещание антифашистского актива румынских военнопленных и выпустили 31 номер стенгазет, организовали собрания и митинги 37. 7 декабря 1943 г. И. А. Петров дал указание популяризовать среди пленных французов «совместное с Красной армией участие в борьбе чехословацкой части под командованием полковника Свободы, польской дивизии имени Тадеуша Костюшко, формируемой второй дивизии имени Генриха Домбровского и французской эскадрильи “Нормандия”» 38. Всеславянский комитет привлекали к изданию пропагандистской литературы, предназначенной для распространения в иностранных воинских частях 39.
Пропаганда службы в иностранных воинских частях, созданных в СССР, осуществлялась и на «внешний мир», в том числе посредством радиовещания, направленного на оккупированные Германией страны и на войска противника. Военнослужащие иностранных подразделений стали постоянными участниками пропагандистских мероприятий Всеславянского комитета 40.
9 мая 1943 г. в Москве прошел Третий всеславянский митинг, в котором приняли участие около 2 тыс. чел., в том числе 80 представителей чехословацких воинских частей. Командир 1-го чехословацкого батальона Л. Свобода сообщил, что он прибыл с фронта и рассказал о боевых заслугах батальона. Словак Иозеф Туш, воевавший в рядах советских партизан, призвал военнослужащих Словацкой армии переходить на сторону Красной армии, чтобы затем сражаться против гитлеровцев «в партизанских отрядах или же в чехословацкой части», созданной в СССР. На этом мероприятии организаторы довели до сведения участников, что началось формирование 1-й польской дивизии им. Т. Костюшко 41.
16 мая 1943 г. был проведен чехословацкий радиомитинг, целью которого «являлось призвать чехословацкий народ к активизации вооруженной борьбы против оккупантов». На митинге выступила военнослужащая чехословацкой воинской части Мария Пишлова, словак Стефан Тучек, добровольно перешедший на советскую сторону и сражавшийся в рядах белорусских партизан, а также подпоручик чехословацкой части Антонин Сохор 42, который заявил, что «чехословацкая армия живет и борется». Митинг неоднократно транслировался по радио. Его материалы перепечатали многие зарубежные газеты, издававшиеся на чешском и словацком языках 43.
23–24 февраля 1944 г. в Москве состоялся митинг славян-воинов 44, обращенный в том числе к «славянам-солдатам, офицерам и генералам, борющимся на советско-германском фронте», и «славянам, насильно мобилизованным в гитлеровскую армию и посланным […] на советско-германский фронт или против своих братьев на родине, в частности к солдатам Болгарской армии». В митинге приняли участие военнослужащие польского, чехословацкого и югославского воинских формирований, созданных на территории СССР, в том числе их командиры – З. Берлинг, Л. Свобода и М. Месич. Только от чехословацкой бригады присутствовали 100 военнослужащих. Митинг транслировался по радио на Европу, Северную и Южную Америку и Австралию, а его материалы готовились для издания на польском, сербском, чешском и английском языках 45.
14 марта 1944 г. состоялся митинг, посвященный пятой годовщине оккупации немецкими войсками Чехословакии, 5 апреля 1944 г. – митинг с участием А. С. Гундорова и П. Ковача – офицера 1-го югославского батальона, посвященный трехлетней годовщине начала освободительной борьбы народов Югославии 46.
Лидеры Всеславянского комитета высоко оценивали свою работу. Так, З. Неедлы, выступая на заседании комитета в 1943 г., отметил, что деятельность последнего повлияла на то, что в 1-й чехословацкой бригаде, «славянское сознание […] прекрасное». По мнению лидеров комитета, участие иностранных воинских частей в битвах на советско-германском фронте показало, «что боевое содружество славянских народов стало серьезным военным и политическим фактором» 47. Тем не менее, по мнению В. В. Марьиной, пропагандистскую деятельность Всеславянского комитета не стоит ни абсолютизировать, ни переоценивать [Марьина 1997, 174].
Однако Комитет все же сыграл важную роль в мобилизации славянских народов всего мира на поддержку Советского Союза в борьбе с гитлеровской Германией, в том числе вместе с Коминтерном способствовал созданию на территории СССР польской, чехословацкой и югославской воинских частей. К концу войны славянский фактор получил новое, более важное значение во всей международной политике 48. Так, в 1944 г. многие иностранные дипломаты, находившиеся в Москве, волновались «по поводу возможности объединения славянских народов в союз с СССР и […] объединения балканских славян под главенством новой Югославии». По мнению югославского посла в Советском Союзе С. Симича, этот вопрос был из числа «наиболее жгучих в дипломатическом мире» 49. Из-за опасений негативной реакции со стороны западных союзников [Марьина 2014, 189], советскому руководству даже приходилось сдерживать славянские и просоветские тенденции (в частности, отраженные в проекте программы нового чехословацкого правительства 50), подчеркивая отсутствие панславистских намерений в своей политике [Малышев 1997, 128; Марьина 2000, 46].
После войны Всеславянский комитет способствовал сохранению памяти об участии в войне на стороне СССР иностранных воинских формирований. В 1945– 1946 гг. руководство комитета направило письма в Управление пропаганды и агитации и Отдел внешней политики ЦК ВКП(б), в которых отметило, что «в Великой Отечественной войне совместно с Красной армией сражались польские и чехословацкие воинские соединения, которые оставили немало могил на полях Украины и Белоруссии. Постройка памятников погибшим воинам этих соединений, приглашение на их открытие представителей славянских армий и делегаций от их народов может иметь большое политическое значение» 51. Места «боевого крещения» этих воинских частей были мемориализованы. В 1958 г. в с. Соколово Харьковской обл. открыли музей советско-чехословацкой дружбы и в 1972 г. установили памятник, в 1968 г. в Могилевской обл. ‒ музей советско-польского боевого содружества и памятник польским воинам.
Таким образом, Коминтерн и Всеславянский антифашистский комитет в сотрудничестве с советскими партийными и военными инстанциями сыграли одну из главных ролей в создании иностранных воинских формирований на территории СССР в годы Великой Отечественной войны.
Деятельность этих общественно-политических структур имела несколько направлений, включая подготовительно-пропагандистскую работу, ориентированную на формирование мотивации к переходу военнослужащих вражеских армий на советскую сторону и к вступлению военнопленных в ряды иностранных воинских частей, созданных в СССР, непосредственное участие в создании этих формирований и их дальнейшее политико-пропагандистское сопровождение. Эта деятельность осуществлялась на общей идеологической платформе, соответствовавшей установкам советской политики.
Сферы деятельности Коминтерна и Всеславянского комитета имели некоторые различия, связанные прежде всего с тем, что охват работы первого затрагивал представителей всех национальностей, тогда как деятельность комитета была направлена только на поляков, чехов, словаков, народы Югославии и представителей других славянских этносов. Кроме того, Коминтерн был в намного большей степени вовлечен в работу с военнопленными. Однако в связи с его роспуском в мае 1943 г. основные функции по идеологическому обеспечению создания в СССР иностранных воинских формирований легли на плечи Всеславянского комитета, который активно осуществлял работу до конца войны и многие годы после нее. Созданные в СССР польская армия, чехословацкий армейский корпус и другие воинские формирования стали основой для новых вооруженных сил соответствующих стран.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АВП РФ – Архив внешней политики Российской Федерации.
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации.
ГУПВИ – Главное управление по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР.
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел.
РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической истории.
РГВА – Российский государственный военный архив.
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия.
ЦК ВКП(б) – Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).
POW – Prisoner of War (военнопленный).
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
АВП РФ. Ф. 06. Оп. 6. П. 58. Д. 795. Л. 99–100.
Военнопленные в СССР. 1939–1956. Документы и материалы. М., 2000. 1120 с.
ГАРФ. Ф. 6646, 8581, 9564.
ГУПВИ. 1941–1952: Отчетно-информационные документы и материалы. Волгоград, 2004. Т. 4. 1111 с.
Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. М., 1981. Т. 4. Кн. 1. 424 с.
Коммунистический Интернационал. 1941. № 6–8.
РГАСПИ. Ф. 17, 495.
РГВА. Ф. 4п., 88п.
Славяне. 1943. № 1, 5, 6, 10.
Славяне. 1944. № 2, 5, 10.
1 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 18. Д. 1335. Л. 3а-3в.
2 См.: Коммунистический Интернационал. 1941. № 6–7. С. 40; Там же. 1941. № 8. С. 21–27, 43.
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 775. Л. 3.
4 ГАРФ. Ф. 6646. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 121. Л. 9–16.
5 ГАРФ. Ф. 6646. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–2.
6 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 272. Д. 6. Л. 4; Там же. Оп. 277. Д. 1. Л. 39; Там же. Д. 29. Папка № 1. Л. 113; Там же. Папка № 3. Л. 31.
7 РГВА. Ф. 4п. Оп. 3. Д. 1. Л. 125–126.
8 РГВА. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 1. Л. 9–10.
9 РГВА. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 1. Л. 19.
10 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 158. Л. 2–3.
11 Военнопленные в СССР, 38.
12 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 138. Л. 91; РГВА. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 1. Л. 21.
13 ГУПВИ, 62.
14 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 158. Л. 5.
15 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 158. Л. 5; Там же. Ф. 495. Оп. 277. Д. 29. Папка № 2. Л. 69.
16 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 158. Л. 5.
17 К этому отделу, заведующим которым был назначен Г. Димитров, перешли многие функции Исполкома Коминтерна.
18 В июле 1943 г. курсы получили статус школы, однако в документах продолжали именоваться «курсами». См.: [Крупенников 2001, 89].
19 РГВА. Ф. 88п. Оп. 3. Д. 5. Т. 4. Л. 1.
20 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 158. Л. 5.
21 Военнопленные в СССР, 30.
22 РГВА. Ф. 4п. Оп. 2. Д. 3. Л. 33.
23 РГВА. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 1. Л. 6, 12.
24 ГУПВИ, 61.
25 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 158. Л. 149.
26 РГВА. Ф. 4п. Оп. 2а. Д. 3. Л. 41–42.
27 РГВА. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 1. Л. 20.
28 ГУПВИ, 59.
29 РГВА. Ф. 4п. Оп. 2. Д. 3. Л. 41–42.
30 РГВА. Ф. 88п. Оп. 3. Д. 5. Т. 4. Л. 198.
31 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 158. Л. 2.
32 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 277. Д. 29. Папка № 2. Л. 64.
33 С июня 1943 г. – Отдела международной информации ЦК ВКП(б).
34 История Коммунистического интернационала, 243.
35 ГАРФ. Ф. 6646. Оп. 1. Д. 4. Л. 25; Там же. Д. 23. Л. 25–26; Там же. Ф. 9564. Оп. 1. Д. 95. Л. 9.
36 В. Неедлы скончался в январе 1945 г. от последствий брюшного тифа, которым заболел во время тяжелых боев на Дуклинском перевале. Как писал А. С. Гундоров, «это была тяжелая утрата не только для Зденека Романовича, но и для Чехословакии, ибо Вит Неедлы был крупным и очень способным композитором». См.: ГАРФ. Ф. 9564. Оп. 1. Д. 95. Л. 9.
37 ГУПВИ, 59.
38 РГВА. Ф. 4п. Оп. 3. Д. 1. Л. 125–126.
39 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 74. Д. 610. Л. 99.
40 ГАРФ. Ф. 6646. Оп. 1. Д. 4. Л. 25; Там же. Ф. 8581. Оп. 2. Д. 151. Л. 6; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 215. Л. 175, 190; Там же. Ф. 495. Оп. 74. Д. 554. Л. 69; Там же. Д. 610. Л. 16, 18; Славяне. 1943. № 1. С. 8; Там же. 1943. № 5. С. 43; Там же. 1943. № 6. С. 9–11; Там же. 1943. № 10. С. 46; Там же. 1944. № 2. С. 18; Там же. 1944. № 5. С. 29; Там же. 1944. № 10. С. 24; Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. С. 227–228, 283.
41 ГАРФ. Ф. 6646. Оп. 1. Д. 1. Л. 6; Там же. Д. 19. Л. 17, 37; Там же. Д. 20. Л. 15; Там же. Д. 28. Л. 34.
42 В декабре 1943 г. А. Сохор получил звание Героя Советского Союза.
43 ГАРФ. Ф. 6646. Оп. 1. Д. 4. Л. 27–28; Славяне. 1943. № 5. С. 42.
44 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 246. Л. 26.
45 ГАРФ. Ф. 6646. Оп. 1. Д. 56. Л. 6, 22, 55, 60–61; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 246. Л. 28.
46 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 74. Д. 610. Л. 7–8, 10; ГАРФ. Ф. 6646. Оп. 1. Д. 4. Л. 28.
47 ГАРФ. Ф. 6646. Оп. 1. Д. 4. Л. 25; Там же. Д. 23. Л. 28.
48 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 775. Л. 25.
49 АВП РФ. Ф. 06. Оп. 6. П. 58. Д. 795. Л. 99–100.
50 См.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 775. Л. 3–5, 25.
51 ГАРФ. Ф. 6646. Оп. 1. Д. 111. Л. 1–6; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 733. Л. 328.
Авторлар туралы
Fedor Sinitsyn
Institute of World History Russian Academy of Sciences
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: permcavt@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-2299-204X
DSc. (History), Leading Research Fellow
Ресей, MoscowӘдебиет тізімі
- Adibekov G. M. Komintern posle formal’nogo rospuska (1943–1944 gg.). Voprosy istorii, 1997, no. 8, pp. 28– 41. (In Russ.)
- Baierliain B. «Predatel’ – ty, Stalin!»: Komintern i kommunisticheskije partii v nachale Vtoroi mirovoi voiny (1939–1941): utrachennaia solidarnost’ levykh sil. Moscow, ROSSPEN Publ., 2011, 679 p. (In Russ.)
- Dostal’ M. Iu. «Novoje slavianskoje dvizhenije» v SSSR i Vseslavianskii komitet v Moskve v gody voiny. Slavianskii al’manakh. Moscow, 2000, pp. 175–188. (In Russ.)
- Firsov F. I. Arkhivy Kominterna i vneshniaia politika SSSR. Novaia i noveishaia istoriia, 1992, no. 6, pp. 12– 35. (In Russ.)
- Istoriia Kommunisticheskogo internatsionala, 1919–1943: dokumental’nyje ocherki, ed. A. O. Chubar’ian. Moscow, Nauka Publ., 2002, 412 p. (In Russ.)
- Korbel Josef. The Communist Subversion of Czechoslovakia, 1938–1948: The Failure of Coexistence. Princeton, Princeton University Press, 1965, 258 p.
- Krupennikov A. A. Tiazhkaia nosha plena: stat’ji, 1993–2000. Moscow, Reittar Publ., 2001, 205 p. (In Russ.)
- Lebedeva N. Komintern i Pol’sha. 1939–1943 gody. Mezhdunarodnaia zhizn’, 1993, no. 8, pp. 147–157. (In Russ.)
- Malyshev V. A. «Proidet desiatok let i eti vstrechi uzhe ne vosstanovish’ v pamiati»: Dnevnik narcoma. Istochnik, 1997, no. 5, pp. 103–147. (In Russ.)
- Mar’jina V. V. Slavianskaia ideia v gody Vtoroi mirovoi voiny (K voprosu o politicheskoi funktsii). Slavianskii vopros: vekhi istorii. Moscow, Institute of Slavic and Balkan Studies of the Russian Academy of Sciences Publ., 1997, pp. 169–181. (In Russ.)
- Mar’jina V. V. Dnevnik G. Dimitrova. Voprosy istorii, 2000, no. 7, pp. 32–55. (In Russ.)
- Mar’jina V. V. Slavianskaia ideia v SSSR nakanune, vo vremia i posle Velikoi Otechestvennoi voiny 1941– 1945 gg. Sotsial’nyje posledstviia voin i konfliktov XX veka: istoricheskaia pamiat’. Moscow, St. Petersburg, Nestor-Istoriia Publ., 2014, pp. 180–194. (In Russ.)
- Tolmachev Je. P. Sovremennyi vzgliad na istoriiu Kominterna (1924–1943). Moscow, Moscow State University Publ., 1992, 127 p. (In Russ.)
- Vsevolodov V. A. «Srok khraneniia – postoianno!»: Kratkaia istoriia lageria vojennoplennykh i internirovannykh UPVI NKVD – MVD SSSR № 27. Moscow, Memorial Museum of German Anti-Fascists Publ., 2003, 271 p. (In Russ.)
- Vsevolodov V. A. Tsentral’naia antifashistskaia shkola dlia vojennoplennykh v Krasnogorske (1943–1950 gg.). Krasnogor’je, 2005, no. 9, pp. 115–130. (In Russ.)