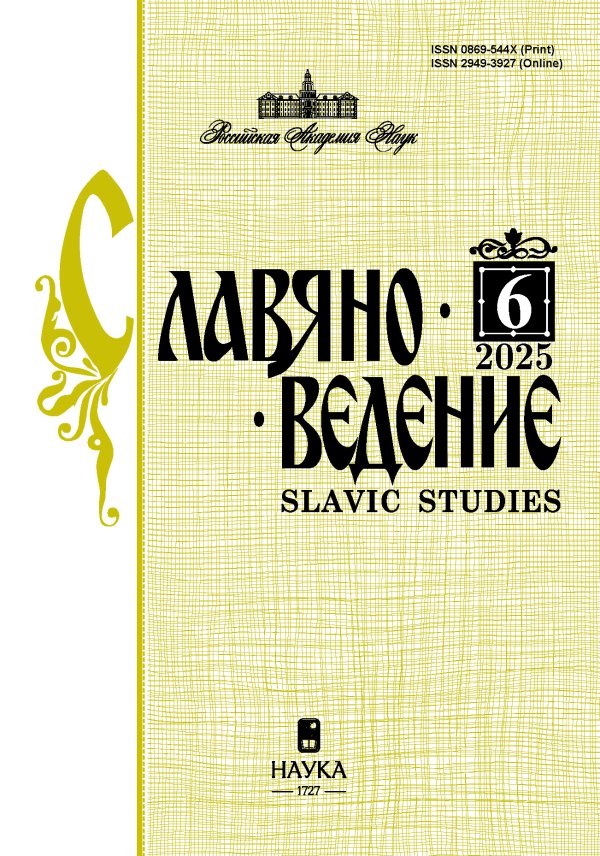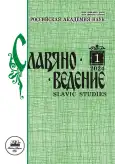К истории создания Института славяноведения в Советском Союзе: «Пражский» проект. 1926–1928
- Авторы: Станков Н.Н.1
-
Учреждения:
- Институт славяноведения Российской академии наук
- Выпуск: № 1 (2024)
- Страницы: 115-129
- Раздел: Из истории славистики
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/255410
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24010087
- ID: 255410
Полный текст
Аннотация
В статье на основе архивных материалов рассматривается международный контекст, в котором появился проект учреждения в СССР Института славяноведения, подготовленный в советском полпредстве в Праге в 1926 г. Документы полпредства свидетельствуют, что создание Института славяноведения, призванного готовить специалистов для работы в славянских государствах и вести научно-исследовательскую работу во всех областях славяноведения, было одним из начинаний в обширной программе развития научных и культурных связей СССР с Чехословакией, Болгарией, Югославией и Польшей, интеграции советской славистики в мировое славяноведение. По замыслу полномочного представителя СССР в Чехословакии В. А. Антонова-Овсеенко и заведующего бюро печати полпредства Р. О. Якобсона, осуществление данной программы способствовало бы повышению эффективности внешней политики Москвы в отношении славянских государств.
Полный текст
12 декабря 1927 г. советский полномочный представитель в Чехословакии В. И. Антонов-Овсеенко направил в Москву в Народный комиссариат иностранных дел «Проект учреждения Института славяноведения в СССР». Это была уже вторая попытка полпреда подвигнуть советское руководство на организацию института, который бы готовил квалифицированные кадры для работы в советских представительствах в славянских странах. Полпред даже не изменил в проекте первоначальную дату – 31 июля 1926 г. 1
Следует отметить, что впервые исследованием проекта 1926 г. занимались А. Н. Горяинов и В. А. Бахтина. Они обнаружили этот документ в ЦГАЛИ (ныне – РГАЛИ) в фонде известных ученых-фольклористов Б.М. и Ю. М. Соколовых. В 1993 г. В. А. Бахтина в приложении к своему докладу на ХI Международном съезде славистов (Братислава, сентябрь 1993 г.) опубликовала полный текст «Проекта учреждения Института славяноведения в СССР» [Бахтина 1993, 307–309]. Поскольку найденный экземпляр не был подписан, то в определении авторства документа мнения исследователей разошлись. А. Н. Горяинов предположил, что его составил заведующий кафедрой славянской филологии этнологического факультета Первого Московского государственного университета профессор А. М. Селищев [Горяинов 1989a, 56], а В. А. Бахтина считала, что авторами проекта были сотрудники советского полпредства в Чехословацкой республике Р. О. Якобсон и П. Г. Богатырев [Бахтина 1993, 304–305].
Подтверждение своей версии В. А. Бахтина нашла в переписке П. Г. Богатырева и Р. О. Якобсона с Б.М. и Ю. М. Соколовыми. В одном из писем Ю. М. Соколову Богатырев писал, что еще осенью 1923 г. Якобсон представил тогдашнему советскому полпреду в ЧСР К. К. Юреневу доклад «о необходимости учреждения в Москве Института славяноведения для изучения современных славянских народов и государств и для подготовки квалифицированных работников в области дипломатических, экономических, культурных и прочих сношений с[о] славянскими странами». Но проект «был признан преждевременным». Летом 1926 г., по словам Богатырева, Якобсон вновь поставил этот вопрос перед полпредом В. А. Антоновым-Овсеенко, который с большим интересом отнесся к данному предложению и попросил Якобсона составить подробную докладную записку с указанием задач института и наброском учебного плана. Богатырев и Якобсон в самые короткие сроки составили такую записку 2.
В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть весь комплекс документов советского полпредства в ЧСР, относящихся к проекту создания в СССР Института славяноведения в 1926–1928 гг., сохранившихся в Архиве внешней политики Российской Федерации.
***
Вопрос о создании в СССР Института славяноведения в «частном порядке» обсуждался на совещании в полпредстве 17 июля 1926 г. В совещании участвовали сотрудники полпредства Н. М. Калюжный, А. К. Гасперский, Р. О. Якобсон, прибывшие из Советского Союза академик Е. Ф. Карский, директор славянского отдела библиотеки Академии наук профессор А. И. Лященко, доцент Ленинградского государственного университета В. Г. Чернобаев и представитель министерства иностранных дел ЧСР Я. Папоушек. Все высказались в пользу создания Института предпочтительно в Ленинграде, где имелось достаточное количество квалифицированных специалистов для преподавания 3, и, как отмечалось выше, 31 июля Антонов-Овсеенко направил «Проект учреждения Института славяноведения в СССР» в Народный комиссариат иностранных дел.
Проект начинался с развернутого обоснования необходимости создания Института. Первая же фраза «в близком будущем предстоит несомненно расширение дипломатических, экономических и прочих сношений СССР с славянскими странами» была не случайной 4. Министр иностранных дел ЧСР Э. Бенеш и югославский посланник в Праге Л. Нешич, с которыми Антонов-Овсеенко часто встречался, уверяли полпреда, что признание Советского Союза их правительствами и установление полноценных дипломатических отношений произойдет со дня на день. Вопрос о признании СССР и установлении дипломатических отношений Антонов-Овсеенко обсуждал и с болгарским посланником в ЧСР Д. Михалчевым 5. Но в Советском Союзе не было достаточного количества кадров, «подготовленных к обслуживанию этих сношений». Причину такого положения составители проекта видели в том, что «после революции реакция против царистского панславизма вызвала и психологическую реакцию против славяноведения вообще». И в то время как в изучении восточных соседей СССР были значительные достижения, «в области славянских стран и народов было сделано очень мало». В результате налицо был дефицит специалистов, владевших славянскими языками, знакомых с историей и культурой славянских народов, способных работать в новых государствах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, что неблагоприятно сказывалось на деятельности экономических организаций СССР в условиях развития внешнеторговых связей и на слабой осведомленности советской прессы об этих странах 6.
Авторы проекта подчеркивали, насколько большое внимание уделялось в то время в Западной Европе: во Франции, Германии, Великобритании, Италии изучению славянских стран и подготовке лиц для работы в этих странах. По их мнению, и в СССР нужно изучать славянские народы и государства и готовить специалистов в области дипломатии, экономики и культуры, чего можно достичь созданием Института славяноведения (по образцу Института востоковедения), который бы действовал при поддержке и под контролем Народных комиссариатов иностранных дел, внешней торговли и просвещения (в соответствии с тремя выше намеченными категориями работников, которых надлежит выпускать Институту) 7.
В документе была сформулирована учебная и научная программа Института. Он должен был готовить специалистов не только по Польше, Чехословакии, Югославии и Болгарии, но и по Украине и Белоруссии. При изучении славянских языков предполагалось наряду с государственными изучать и языки других национальностей, проживавших в этих странах (например, словацкий и словенский языки). Большое внимание учебная программа уделяла изучению географии (особенно – экономической), политической жизни, законодательства, современных социальных и национальных отношений, этнографии, истории культуры этих государств. При изучении истории рекомендовалось особое внимание уделять отношениям данной страны с Россией 8.
Научная программа предусматривала подготовку и публикацию монографий и популярных книг о социальной, экономической и политической жизни современных славянских народов и государств, учебников, словарей и т. д. Предполагалось издание документов, статистических и этнографических материалов, которые могли бы иметь актуальное политическое и практическое значение. Авторы проекта предлагали также создать научный журнал 9.
Коллегия НКИД, обсудив проект, признала целесообразность учреждения Института славяноведения и передала дело на рассмотрение Наркомпроса. 7 сентября 1926 г. на специальном заседании подсекции высших учебных заведений Государственного ученого совета (ГУС) под председательством М. Н. Покровского был заслушан вопрос об организации Института славяноведения и создана специальная комиссия в составе В. П. Волгина, С. М. Дубровского и представителя НКИД, которая должна была подготовить необходимые обоснования. 12 октября подсекция Вузов ГУСа, заслушав доклад декана этнологического факультета Первого Московского государственного университета В. П. Волгина «О проекте Института славяноведения», признала организацию Института «безусловно необходимой», но «в настоящее время невозможной». Вместо создания Института было предложено усилить преподавание славянских языков, этнографии и истории на этнологическом факультете 1-го МГУ 10. Через месяц, 12 ноября, на заседании деканата этнологического факультета было принято решение наряду с существовавшим восточнославянским циклом учредить цикл южных и западных славян. Вместе с тем было признано, что с образованием данного цикла задача преподавания славяноведения решена лишь частично, и были поставлены вопросы об учреждении самостоятельного отделения славяноведения и создания кабинета славяноведения на этнологическом факультете 11. На заседании был также представлен учебный план цикла южных и западных славян 12, обсуждение которого в подсекции Вузов ГУСа, в специальной комиссии и в деканате этнологического факультета продолжалось до конца апреля 1927 г. (подробнее см.: [Горяинов 1989a, 57–58]) 13. Только 22 апреля на объединенном заседании этнографического отделения и предметной комиссии по этнографии был утвержден учебный план и распределение курсов между преподавателями. Руководитель цикла А. М. Селищев должен был читать «Введение в славяноведение», «Старославянский язык» и вести специальный семинар по славяноведению. «Историю русского языка» должен был преподавать проф. Д. Н. Ушаков, «Историю России (до XIX в.)» – проф. М. К. Любавский. Для чтения курса «Государственное устройство славянских стран» было решено обратиться к известному специалисту по конституционному праву зарубежных государств проф. В. Н. Дурденевскому. Курс «Новой и новейшей истории Австро-Венгрии» поручили сверхштатному доценту С. Д. Сказкину. Возникли проблемы с преподаванием «Экономической географии славянских стран», «Истории литературы южных и западных славян», современных славянских языков. Поэтому на заседании было принято решение в ближайшее время открыть новые преподавательские должности и поручить Д. Н. Ушакову и А. М. Селищеву позаботиться о подборе кандидатур 14.
Богатырев и Якобсон, зная из переписки с преподавателями МГУ о ситуации, сложившейся с организацией цикла южных и западных славян, обратились с просьбой к секретарю этнографического отделения Ю. М. Соколову предоставить им возможность «академической работы». Они даже прислали в Москву списки своих печатных и готовых к печати научных трудов 15. Но когда Ю. М. Соколов предложил руководителю цикла Селищеву кандидатуры Богатырева и Якобсона, тот «со всей яростью» их отверг [Горяинов 1989a, 60]. Тем не менее на объединенном заседании совета этнографического отделения и предметной комиссии по этнографии 9 июня 1927 г. кандидатура Якобсона как преподавателя чешского языка была утверждена 16. По словам проф. Г. А. Ильинского, Якобсону было направлено приглашение занять «лектуру чеш[ского] яз[ыка], но он на него не ответил» (цит. по: [Робинсон 2004, 211]).
Тем временем советское полпредство в Праге продолжало в различных направлениях работу по развитию отношений с Чехословакией, поддерживало связи с посольствами Болгарии и Югославии, исподволь наращивая аргументацию в пользу учреждения Института славяноведения в СССР. Антонов-Овсеенко и служащие полпредства встречались с политическими и общественными деятелями, представителями деловых кругов, журналистами.
21 января 1927 г. Якобсон был принят президентом ЧСР Т. Г. Масариком. Прием президентом республики заведующего бюро печати зарубежного представительства – явление исключительное. Даже советские полпреды нечасто удостаивались такой аудиенции. Масарик и Якобсон обсуждали проблемы советско-чехословацких отношений, во время беседы президент подчеркнул: «Мне кажется, нынешняя Россия выпускает из виду важный момент. Она не сумела благожелательной линией расположить в свою пользу мелкие славянские государства. Она, пользующаяся умело национальными моментами, не сумела использовать славизм, который при отсутствии серьезных расхождений между Россией с одной стороны и Чехословакией и Балканскими славянскими государствами с другой и при наличии ряда общих интересов дает возможность использовать эти государства как своего рода аванпосты в активной политике России в Европе. Они, в свою очередь, нуждаются в ориентации на Россию» 17.
Вопрос о роли СССР в славянском мире обсуждал и болгарский посланник Д. Михалчев в разговоре с Якобсоном 8 февраля 1927 г. Он подчеркнул, что «Прага не в состоянии играть роль славянского культурного центра», поскольку все славянские вопросы она рассматривает «сквозь призму Парижских мирных договоров». По его мнению, только в Москве «жгучие славянские национальные вопросы» могли бы получить объективное освещение. По словам Якобсона, Михалчев убеждал его, что «широкая постановка в Москве изучения славянских народов […] имела бы громадное пропагандистское влияние на интеллигенцию славянских государств» 18.
Эту идею Михалчев развил в беседе с Антоновым-Овсеенко 6 марта 1927 г. во время их поездки в Кутну Гору. Полпред записал в дневнике: «Михалчев горячо ратует за организацию у нас института славяноведения – “Ведь существует у вас институт народов Востока! Ведь и в Германии, и во Франции делается так много для сближения с[о] славянством. Вы напрасно пренебрегаете интеллигенцией славянских народов. Вы б[ы] легко могли снискать себе ее симпатии. Институт славяноведения, конференции славяноведов и т. п. в Москве стали бы центром тяготения этой интеллигенции” и т. д.» 19. Следует отметить компетентность Михалчева в данном вопросе – к тому времени он был уже известным философом, поддерживал связи со многими русскими и европейскими учеными, с 1913 г. был лично знаком с Масариком, до поступления на дипломатическую службу занимал должность декана историко-филологического факультета Софийского университета (см.: [Мангачев 2020, 10–12]). «Университетский уклон» болгарского посланника отметил и Антонов-Овсеенко. Он ответил Михалчеву, будто вопрос о создании Института славяноведения уже решен, а со следующего года откроется факультет славянских языков в Московском университете, очевидно, имея в виду цикл южных и западных славян, о котором говорилось выше 20.
Советское полпредство в Праге стремилось использовать в интересах СССР дебаты о «славянской политике», проходившие в клубе «Přítomnost» («Современность») весной 1927 г. Принять в них участие Антонову-Овсеенко предложили сами руководители клуба. Но полпред поставил условия: приглашение может быть принято только в том случае, если будет снят доклад сотрудника чрезвычайной дипломатической миссии Украинской народной республики О. Бочковского «Славянская политика и украинцы» и если к прениям не будут допущены российские эмигранты. Организаторы пошли на уступки 21.
Дебаты открыл 23 марта 1927 г. известный чешский журналист и политик из окружения президента ЧСР Я. Гербен вступительным докладом, построенном на трудах Масарика. И в своем докладе, и в ходе дискуссий Гербен подчеркивал, что «надо следовать заветам Масарика и проводить слав[янскую] политику прежде всего у себя дома» 22.
На заседаниях клуба, где присутствовали представители МИД ЧСР, иностранных дипломатических миссий и известные журналисты, неоднократно подчеркивалась необходимость «славянской политики». «Славянская политика и возможна, и необходима, – говорил Папоушек в ходе дискуссии о «славянской политике» ЧСР, – существует особое взаимное тяготение славян, с которым не может не считаться государственная политика». Он подчеркивал, что необходимо «не только экономическое сближение», но «и культурное взаимодействие» 23.
От советской миссии с сообщением выступил 30 марта Якобсон. Как отметил Антонов-Овсеенко, «Якобсон выступил с большим успехом». К сожалению, автору этой статьи не удалось обнаружить текст выступления, и поэтому здесь приводится только запись в дневнике Антонова-Овсеенко: «Согласившись с Гербеном, что славянскую политику следует проводить прежде всего у себя “дома”, Якобсон рассказал, каковы взаимоот[ношения] между славян[скими] народами у нас и какая культ[урная] работа среди них ведется, затем, оговорившись, что сов[етское] пра[вительство] никакой расовой славянской политики не ведет, кратко охарактеризовал отнош[ения] между СССР и славянскими государствами и перешел к недочетам наших культурных взаимоотношений» 24.
На заседаниях обсуждались и спорные вопросы взаимоотношений между славянскими странами. 6 апреля разгорелась острая дискуссия по докладу П. Максы «Славянская политика и Польша», в ходе которой подверглась критике внутренняя и внешняя политика современной Польши. Один из участников дискуссии заявил о невозможности сближения ЧСР с Польшей, пока последняя «не сблизится с Москвой, не откажется от “несправедливостей Рижского договора” и не будет считаться с настроениями своих нац[иональных] меньшинств, которые чувствуют себя лишь принудительно связанными с нею» 25.
13 апреля 1927 г. представители югославского и болгарского посольства выступили с сообщениями по македонскому вопросу, который был камнем преткновения в отношениях двух государств, и оба дипломата заявили, что здесь необходимо искать компромисс 26. В своих выступлениях они также отметили, что в их странах среди населения преобладают русофильские настроения 27.
Сообщая 25 апреля Литвинову о дискуссиях в клубе «Přítomnost», Антонов-Овсеенко подчеркивал, что большинство выступлений были «на пользу СССР». «Я продолжаю думать, что Москва совершенно зря не использует того тяготения к нам извест[ных] кругов в “славянских” государствах Центр[альной] Европы и Балкан, кот[орое] несомненно усилилось за последние три года, – писал полпред. – Даже со “славянским институтом” все еще ничего не выходит…» 28.
Антонов-Овсеенко вновь поставил вопрос о создании в СССР Института славяноведения в связи с переменами в польско-чехословацких отношениях. С начала 1927 г. в дипломатических кругах стали появляться слухи о том, что Польша «усиленно старается сблизиться» с ЧСР, предлагает расширение политического договора и военный союз, «причем готова гарантировать Чехословакии даже военную помощь против Венгрии» 29. Бенеш опровергал эти слухи как «злоумышленные выдумки журналистов» 30. Тем не менее советское полпредство насторожила поездка французского маршала Л.-Ф. Франше д’Э спре в ноябре 1927 г. в Польшу и ЧСР. Антонов-Овсеенко подозревал, что французский генерал «работал над сближением генштабов обеих стран и их военной промышленности» 31. Тем более что до этого полпред уже получал информацию о контактах между генеральными штабами Войска Польского и чехословацкой армии и о том, что аэропланные заводы ЧСР «завалены» военными заказами из Польши 32. Антонов-Овсеенко считал, что Прагу к сотрудничеству с Варшавой подталкивали страх перед усилившейся Германией и угроза аншлюса, укрепление внешнеполитических позиций Венгрии в связи с подписанием союзного договора с Италией (5 апреля 1927 г.), кампания за ревизию Трианонского мирного договора, развязанная летом 1927 г. британским медиа-магнатом, владельцем популярной газеты Daily Mail лордом Ротермиром 33.
В письме Литвинову от 12 декабря 1927 г. Антонов-Овсеенко указывал на оживление чехословацко-польских экономических и культурных связей, на активность общества польско-чешского сближения, на постоянный обмен научными делегациями, на торжественное открытие с участием президента Масарика польской художественной выставки в Праге. Полпред отмечал и «усиленную деятельность» польско-чешской «антанты печати» во главе с В. Швиговским по развитию сотрудничества в области информации и культуры, подготовку издания в Вене на немецком языке большого журнала по вопросам славянства под руководством чехословацких и польских политиков, попытки поляков закрепить свое влияние в создаваемом в Праге Славянском институте. Антонов-Овсеенко особо указывал на содействие чехословацкого правительства работе поляков среди украинской эмиграции. Поляки успешно вербовали возвращенцев в Галицию, в результате чего среди украинцев-эмигрантов количество желающих уехать в Советскую Украину резко сократилось. Если прежде в советское консульство ежедневно обращалось 30–40 эмигрантов, то в последние месяцы – три-четыре человека. По словам полпреда, противодействие польскому влиянию оказывали только немецкие круги в ЧСР и германское посольство. Антонов-Овсеенко считал, что СССР должен «усилить свое противодействие этой работе по сближению Польши с ЧСР и вообще усилить свою работу в славянских государствах». В этой связи он напоминал о своей записке от 31 июля 1926 г. относительно учреждения Института славяноведения в СССР. «Вместо этого Института в Москве создали нечто ублюдочное, не могущее дать сколько-нибудь серьезных результатов, – писал Антонов-Овсеенко. – Вопрос надо поставить во всю ширь» 34.
В заключение письма полпред настаивал на необходимости оставить в Праге для работы в полпредстве Якобсона. Последнее обращение было не случайным, поскольку руководство ВКП(б) потребовало заменить в советских представительствах за границей всех беспартийных заведующих отделами печати коммунистами, и 16 сентября 1927 г. секретариат ЦК ВКП(б) принял решение о замене беспартийного Якобсона на коммуниста С. В. Гириниса, который в то время был заместителем заведующего организационным отделом Профинтерна [Генис 2008, 121]. Но, несмотря на решение столь высокой инстанции, Антонов-Овсеенко продолжал отстаивать Якобсона, доказывая его незаменимость для работы полпредства как высококвалифицированного славяноведа, и, пользуясь случаем, напоминал о необходимости учреждения Института славяноведения для подготовки соответствующих кадров, а также направил в НКИД доклад Якобсона «О польской пропаганде в ЧСР» 35. Этот доклад автору настоящей статьи обнаружить не удалось. Но достаточно полное представление о его содержании можно составить из рассматриваемой ниже записки Якобсона о противодействии польской пропаганде в ЧСР, которая представляет собой расширенный вариант упомянутого доклада.
На просьбу Антонова-Овсеенко о Якобсоне 24 декабря 1927 г. Литвинов ответил, что до приезда Гириниса тот может продолжать работать на своем прежнем месте, но «оставление Якобсона в составе полпредства после приезда его заместителя было бы недопустимо». Вместе с тем Литвинов писал: «НКИД не имеет решительно никаких возражений против оставления т. Якобсона в том или ином качестве на работе в Праге, но лишь в пределах постановлений инстанции» 36.
По существу, Наркомат иностранных дел, как и высшая партийная инстанция (секретариат ЦК ВКП(б)), не возражал против предложения Антонова-Овсеенко «сохранить Р. Якобсона для использования нашим полпредством», в частности, для работы «по инспирации славянской печати в тех или иных вопросах, для сношений с устраиваемым в Праге Славянским институтом, для работ в затеваемых здесь журналах на немецком языке, посвященных славянским вопросам и пр.» 37.
Доклад же Якобсона «О польской работе в ЧСР» в Центральноевропейском отделе НКИД получил весьма критическую оценку. Заместитель заведующего отдела В. Л. Лоренц, не оспаривая информационного значения доклада, подверг резкой критике рекомендации и выводы Якобсона, который упустил из виду «различие социально-политических структур СССР и ЧСР», не учел, что «ряд отраслей польской работы в ЧСР пока что для нас недоступны в силу отсутствия у нас молодых советских научно-подготовленных кадров, способных с успехом проводить наше влияние по отмеченным запиской каналам», в то время как старые кадры для такой работы непригодны, поскольку, попадая «в обстановку западных славянских стран – быстро там ассимилируются и очень редко обнаруживают способность стать проводниками советского влияния в буржуазной и мелкобуржуазной общественности и политических кругах» этих стран. Якобсон обвинялся и в односторонней оценке «влияния элементов славянства и славянофильских настроений на польскую и нашу работу в ЧСР», в то время как в этой среде «далеко еще не расстались с мыслью о возможности реставрации буржуазной России». Лоренц рекомендовал продолжить поиски «иных, более для нас подходящих, более экономных, путей» 38.
Получив ответ Лоренца, Антонов-Овсеенко, по его собственному признанию, был обескуражен. «Вместо практического подхода, общие рассуждения», – писал он Литвинову 20 февраля 1928 г. Полпред направил в НКИД очередное письмо «О польской работе в ЧСР» с приложением новой записки Якобсона, поддерживая все его предложения 39.
Новый документ, составленный Якобсоном, представлял собой детализацию предыдущего доклада. В разделе «Пропаганда политическая» автор отмечал, что главным образом для давления на чехословацкую прессу Польша использует пражский комитет по печати Малой Антанты. Но Якобсон считал, что через чешских журналистов, которые в него входят, в том числе и В. Швиговского, несложно будет добиться нейтрализации польского влияния в комитете. Все они с симпатией относились к России, часто посещали советское полпредство, и с ними можно было вести работу, когда было «налицо явное расхождение польских и советских интересов». Сложнее обстояло дело с журналистами из ряда пражских газет, которые находились в постоянном контакте с польским посольством и регулярно оттуда получали информацию. В данном случае Якобсон предполагал использовать свои связи с редакторами отдельных изданий, прибегать к помощи отдела печати МИД ЧСР, если позволят обстоятельства, или применить другие средства. Например, редактора отдела культуры Prager Presse («Пражская пресса») А. Магра, который вел «интенсивную польскую культурную пропаганду», Якобсон предлагал «под тем или иным соусом» пригласить на две-три недели в СССР и «завербовать для совместной культурной пропаганды». «Делает он эту работу прекрасно», – подчеркивал автор записки. Добиться нейтрализации польского влияния в чешской католической печати Якобсон рассчитывал с помощью известного публициста А. Фухса и главного редактора католической газеты Lidové listy («Народная газета») Й. Долежала, с которыми у него установились тесные связи. Но для этого необходимо было из Москвы регулярно получать информацию об отношении советского правительства к Католической церкви и «о польской политической работе, компрометирующей интересы Католической церкви в СССР». Пропольскую пропаганду в прессе чехословацкой аграрной партии, по мнению Якобсона, можно было ослабить «путем сближения полпредства с авторитетными деятелями Зеленого Интернационала и идеологами “славянского аграризма”» 40.
Большое внимание автор записки уделил работе в Словакии, где польская пропаганда была особенно интенсивной. Он предлагал, чтобы Словакию посещали все советские деятели культуры, которые приезжали в Прагу. Якобсон считал крайне желательным иметь в Братиславе «своего наблюдателя, который поддерживал бы контакт с политической и культурной общественностью Словакии и информировал бы о Словакии пражское полпредство». Такой наблюдатель мог бы находиться в Братиславе в качестве корреспондента ТАСС 41.
Раздел «Пропаганда культурная» предусматривал значительное расширение научных и культурных связей СССР и Чехословакии. В первую очередь речь шла об участии советских делегаций в международных съездах, проходивших на территории ЧСР, в частности, в Международном съезде деятелей графического искусства с соответствующей выставкой в Праге летом 1928 г. Оргкомитет съезда направил приглашение во Всесоюзное общество культурной связи с заграницей, но из Москвы ответа не последовало, в то время как в данном случае представлялась возможность для «успешной и эффективной пропаганды». Якобсон настойчиво предлагал направить делегации РСФСР, Украины и Белоруссии на международный съезд славистов в Прагу в 1929 г., где предполагалось участие выдающихся ученых из Польши, Югославии, Болгарии, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов и Скандинавских стран. Информация о предстоявшем съезде уже была направлена в соответствующие советские научные учреждения и отдельным ученым. Якобсон составил целый список ученых-славистов из Ленинграда, Москвы, Харькова, Киева, Минска (Л. В. Щерба, Д. В. Бубрих, М. Г. Долодко, Н. С. Державин, В. В. Виноградов, Д. К. Зеленин, Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум, Л. П. Якубинский, Д. Н. Ушаков, Б.М. и Ю. М. Соколовы, М. Н. Петерсон, Н. Н. Дурново, П. А. Бузук, В. М. Ганцов, Л. А. Булаховский, Б. И. Ярхо и др.), которые могли бы достойно представлять советскую науку на съезде, где «несомненно, будет сделана большая работа, как по вопросам организации и разработки отдельных дисциплин славистики, так и по установлению целого ряда связей, служащих делу культурной пропаганды» 42.
Якобсон предлагал регулярно направлять в Чехословакию советских деятелей науки и культуры для чтения лекций, организовывать выставки, гастроли и т. п. Каждая такая поездка должна быть максимально использована – расширение и углубление связей, публичные выступления, установление организационных отношений между культурными институциями СССР и ЧСР, пропаганда в прессе и т. д. В то же время следовало поощрять поездки в СССР ученых, писателей, журналистов, деятелей культуры из Чехословакии. Якобсон называл даже конкретные лица, которые уже обратились за содействием в полпредство 43.
Значительное внимание в записке уделялось вопросам систематического снабжения чехословацких журналов информационными статьями и материалами об СССР, о событиях в научной и культурной жизни. Полпредство располагало связями с редакциями таких журналов, но ощущало недостаток, во-первых, в самих информационных материалах (поскольку материалы бюрократического происхождения были наименее пригодны для такой цели), а во-вторых, в сотрудниках, способных обрабатывать и переводить информацию и снабжать ею редакции журналов. «Если бы на эту работу были ассигнованы самые скромные средства, которые ни в какое сравнение не идут с польскими расходами по этой статье, – отмечал Якобсон, – работа могла бы вестись весьма продуктивно, и это было бы наиболее плодотворной формой культурной пропаганды среди интеллигенции Чехословакии». Он также ставил вопрос о снабжении советской хроникой и статьями об СССР пражских или инспирируемых из Праги международных журналов, посвященных современным славянским народам. Речь шла о журнале Slovanský přehled («Славянское обозрение»), о французском Le monde slave («Мир славян») и о журнале о культурной жизни современных славянских народов на немецком языке Slavische Rundschau («Славянское обозрение»), который предполагали издавать с сентября 1928 г. немецкие профессора Пражского университета Ф. Шпина (занимавший в то время также пост министра общественных работ в правительстве ЧСР) и Г. Геземанн, пригласившие Якобсона возглавить отдел о СССР 44.
Как и Антонов-Овсеенко, Якобсон вновь обращал внимание НКИД на необходимость квалифицированных сотрудников для осуществления вышеизложенной программы, для поддержания постоянных активных связей с культурными институциями ЧСР, со Славянским институтом в Праге и др., в связи с чем вновь поднимался вопрос об учреждении в СССР Института славяноведения. Якобсон подчеркивал, что те минимальные требования, которые были изложены в записке об учреждении Института, не нашли осуществления в цикле южных и западных славян, организованном в рамках этнологического факультета МГУ, поскольку там «по-прежнему интересы исторические и археологические превалируют над проблемами актуальными и практическими» 45.
Ответ на эти предложения Центральноевропейского отдела НКИД за подписью Лоренца от 5 марта 1928 г. оставлял мало надежд на их осуществление. Отдельные вопросы выносились на рассмотрение Коллегии НКИД или передавались на согласование с другими ведомствами. Но почти в каждом пункте ответа имелись оговорки о «запоздалой информации», о несвоевременности, о «жесткости валютного режима», об отсутствии средств, о больших затруднениях и т. д. Относительно создания Института славяноведения Лоренц ссылался на предыдущее решение Наркомпроса: это «непосильная пока задача и по бюджетным соображениям и, главным образом, в силу отсутствия в СССР минимального количества подходящих профессорских и преподавательских сил». Он выражал сомнение, что «эти серьезные препятствия могут быть преодолены», хотя и обещал предпринять новую попытку продвижения вопроса об Институте славяноведения 46.
Очевидно, в связи повторным предложением «пражского» полпредства о создании Института славяноведения, руководитель цикла южных и западных славян А. М. Селищев в феврале 1928 г. обратился в деканат этнологического факультета МГУ с предложением внести изменения в учебный план, добавить несколько новых предметов, которые «ближе поставили бы наших слушателей к работе по Комиссариатам иностранных дел и торговли», ввести специализацию для студентов третьего и четвертого курсов и преобразовать возглавляемый им цикл в отделение. По замыслу Селищева, эти меры должны были стать «подготовительной стадией» к организации Института славяноведения [Горяинов 1989b, 20–21].
Учебный план на 1928/1929 год предусматривал подготовку специалистов не только для музеев, библиотек и исследовательских учреждений, но и для Народных комиссариатов иностранных дел и торговли [Лагно 2013, 119–120] 47. Наряду с основными историческими и филологическими дисциплинами в учебный план были включены «Введение в славяноведение», «Старославянский язык», «Славянские древности», «История южных и западных славян», «Этнография южных и западных славян», «Этнография восточных славян», «История литературы южных и западных славян», «Сравнительная грамматика славянских языков», болгарский, сербский, польский и чешский языки (словенский и словацкий языки в программе отсутствовали). Кроме того, учебный план предусматривал следующие курсы: «Государственное устройство славянских стран», «Экономическая география славянских стран», «Семинар по истории взаимоотношений славянских стран с Россией», «Политические отношения СССР к славянским странам», «Консульское право» 48. Исторические дисциплины вели такие выдающиеся историки, как С. В. Бахрушин, Ю. В. Готье, М. К. Любавский. В то же время возникли серьезные проблемы с преподаванием новейшей истории южных и западных славян. Из-за отсутствия литературы С. Д. Сказкин вынужден был отказаться от чтения новейшей истории западных славян (см.: [Горяинов 2007, 56–57]). «Семинар по истории взаимоотношений славянских стран с Россией», который он вел, охватывал период от русско-славянских отношений во время этнографической выставки 1867 г. до славянского вопроса накануне Первой мировой войны 49.
А. Н. Горяинов, досконально изучивший по архивным материалам организацию учебного процесса и преподавательский состав цикла южных и западных славян, отмечал, что «не удалось обеспечить и преподавание экономических дисциплин в ракурсе славянских стран» [Горяинов 2007, 57]. Эти вопросы рассматривались в курсах экономической географии проф. М. А. Селищенского и «Экономические и политические отношения СССР со славянскими странами», которые читали правоведы проф. В. Н. Дурденевский и доцент К. А. Архипов. Среди преподавателей цикла южных и западных славян А. Н. Горяинов упоминает сотрудников НКИД: заведующий Центральноевропейским отделом Б. Е. Штейн читал лекции об экономических и политических отношениях СССР со славянскими странами, а заведующий экономико-правовым отделом А. В. Сабанин преподавал «Консульское право» [Горяинов 2007, 57–58; Горяинов 1989b, 15].
Руководство факультета придавало большое значение преподаванию общественно-политических дисциплин: «История ВКП(б) и основы ленинизма», «Исторический материализм», «Основы советской конституции в связи с марксистским учением о государстве и праве», «Политическая экономия», «Советское хозяйство и экономическая политика СССР». Выпускники этнологического факультета должны быть «всецело проникнуты марксистско-ленинским мировоззрением» 50.
Несмотря на все усилия Селищева, ему не удалось преобразовать цикл южных и западных славян в отделение и тем самым сделать еще один шаг на пути создания Института славяноведения. Более того, в связи с разногласиями и трудностями в организации учебного процесса и с общей неблагоприятной обстановкой на факультете и в университете цикл южных и западных славян с 1929 г. начал сворачиваться, а спустя год и вовсе прекратил свое существование (подробнее см.: [Горяинов 1989b, 28–29]).
Таким образом, составленный в советском полпредстве в Праге в 1926 г. проект учреждения в СССР Института славяноведения исходил из необходимости развития дипломатических, экономических, научных и культурных связей с зарубежными славянскими государствами. Согласно проекту, Институт должен был осуществлять на современном уровне подготовку квалифицированных специалистов для службы за границей и вести научно-исследовательскую работу в различных областях славяноведения. Однако на пути осуществления данного проекта с самого начала возникло множество препятствий. Вместо учреждения Института славяноведения Народный комиссариат просвещения принял решение вести подготовку специалистов указанного профиля на базе МГУ, не располагавшего в то время необходимыми кадрами, способными обеспечить преподавание дисциплин, предусмотренных «пражским» проектом. Разработка многих учебных курсов, как и проведение исследований, были затруднены в связи с отсутствием в советских библиотеках новейшей зарубежной научной литературы и периодических изданий. Очевидно, не отвечал поставленным задачам и уровень подготовки студентов: в 1929 г. со всего цикла южных и западных славян НКИД на практику принял лишь одного человека [Горяинов 1989b, 25]. Не способствовала успеху развитию указанного цикла в МГУ, преобразованию его в самостоятельное отделение, а затем в Институт и общая обстановка в университете и в целом в системе высшего образования в СССР: бесконечные реорганизации, усиление влияния партийных органов, сопровождавшееся различными кампаниями и проработками.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АВП РФ – Архив внешней политики Российской Федерации, Москва.
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков).
ГУС – Государственный ученый совет.
ДМИСЧО – Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений.
МГУ – Московский государственный университет.
НКИД – Народный комиссариат иностранных дел.
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства, Москва.
ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза.
ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва.
ЦГА Москвы – Центральный государственный архив города Москвы, Москва.
ЦК – Центральный комитет.
ЧСР – Чехословацкая республика.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
АВП РФ. Ф. 05. Оп. 6, 7, 8.
Бахтина В. А. Прага – Москва. Письма П. Г. Богатырева и Р. О. Якобсона к Б.М. и Ю. М. Соколовым // Функционально-структуральный метод П. Г. Богатырева в современных исследованиях фольклора: Сборник статей и материалов / отв. ред. С. П. Сорокина и Л. Ф. Фадеева. М.: Государственный институт искусствознания, 2015. С. 318–386.
ДМИСЧО. М.: Наука, 1977. Т. 2. 636 с.
ЦГА Москвы. Ф. Р 1609. Оп. 1.
Этнологический факультет 1 МГУ. Учебный план, программы и пособия. М.: Изд-во 1 Московского государственного университета, 1929. 192 с.
1 АВП РФ. Ф. 05. Оп. 7. П. 28. Д. 43. Л. 185–187.
2 Бахтина 2015, 341, письмо № 5.
3 ДМИСЧО, 249–250, док. 205.
4 АВП РФ. Ф. 05. Оп. 7. П. 28. Д. 43. Л. 185.
5 См., например: АВП РФ. Ф. 05. Оп. 6 П. 15. Д. 55. Л. 181–182, 380–385; ДМИСЧО, 213–215, док. 175.
6 АВП РФ. Ф. 05. Оп. 7. П. 28. Д. 43. Л. 185.
7 Там же. Л. 185–186.
8 Там же. Л. 186–187.
9 Там же. Л. 187.
10 Бахтина 2015, 342, прим. 2.
11 ЦГА Москвы. Д. 1063. Л. 45об.
12 Там же. Л. 49–49об.
13 Бахтина 2015, 342, прим. 2.
14 ЦГА Москвы. Д. 1063. Л. 180.
15 Бахтина 2015, 342–344, письмо № 5.
16 ЦГА Москвы. Д. 1168. Л. 11об.
17 АВП РФ. Ф. 05. Оп. 7. П. 28. Д. 42. Л. 72.
18 Там же. Л.118.
19 Там же. Л. 223.
20 Там же.
21 Там же. Л. 257–258.
22 Там же. Л. 258.
23 Там же. Д. 43. Л. 31.
24 Там же. Л. 13.
25 Там же. Л. 15.
26 Там же. Л. 37–38.
27 Там же.
28 Там же. Л. 44.
29 Там же. Д. 42. Л. 154.
30 Там же. Л. 195.
31 Там же. Д. 43. Л. 181.
32 Там же. Д. 42. Л. 168.
33 См.: Там же. Л. 45, 137, 139; Там же. Д. 43. Л. 181.
34 См.: Там же. Д. 43. Л. 181–184.
35 Там же. Л. 184.
36 Там же. Д. 44. Л. 49.
37 Там же. Д. 43. Л. 189.
38 Там же. Оп. 8. П. 38. Д. 38. Л. 5–6.
39 Там же. Д. 37. Л. 93–94.
40 Там же. Л. 95–97.
41 Там же. Л. 97.
42 Там же. Л. 98.
43 Там же. Л. 98–99, 101.
44 Там же. Л. 99–100.
45 Там же. Л. 100–101.
46 Там же. Д. 38. Л. 20–20об.
47 Этнологический факультет 1 МГУ, 4.
48 Там же, 16–17.
49 Там же, 164.
50 Там же, 3.
Об авторах
Николай Николаевич Станков
Институт славяноведения Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: stankovnn@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-5248-1027
доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Россия, г. МоскваСписок литературы
- Бахтина В. А. Славистические связи русской фольклористики 20-х годов (П. Богатырев, Р. Якобсон, Ю. Соколов) // История, культура, этнография и фольклор славянских народов / отв. ред. Г. Г. Литаврин. М.: Наука, 1993. С. 297–309.
- Генис В. Л. «Якобсон, конечно, возмутится…» // Вопросы истории. 2008. № 12. С. 120–125.
- Горяинов А. Н. Славяноведение в Московском университете (1917–1927): из истории преподавания славистических дисциплин и организации цикла южных и западных славян // Советское славяноведение. 1989a. № 4. С. 51–61.
- Горяинов А. Н. Цикл южных и западных славян МГУ (1927–1930) // 50 лет исторической славистики в Московском государственном университете. Сб. ст. / под ред. В. Г. Карасева. М.: Изд-во Московского университета, 1989b. С. 13–33.
- Горяинов А. Н. Преподаватели цикла истории южных и западных славян в Московском университете (1927–1930) // Славяноведение в России в XIX–XXI веках. К 170-летию университетских кафедр славистики. Сб. ст. / отв. ред. К. В. Никифоров. М.: Институт славяноведения РАН, 2007. С. 53–58.
- Лагно А. Р. Вячеслав Петрович Волгин. М.: Изд-во Московского университета, 2013. 248 с.
- Мангачев П. Акад. Димитър Михалчев – между философията и дипломацията. София: Офис стандарт, 2020. 135 с.
- Робинсон М. А. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 – начало 1930-х годов). М.: Индрик, 2004. 432 с.