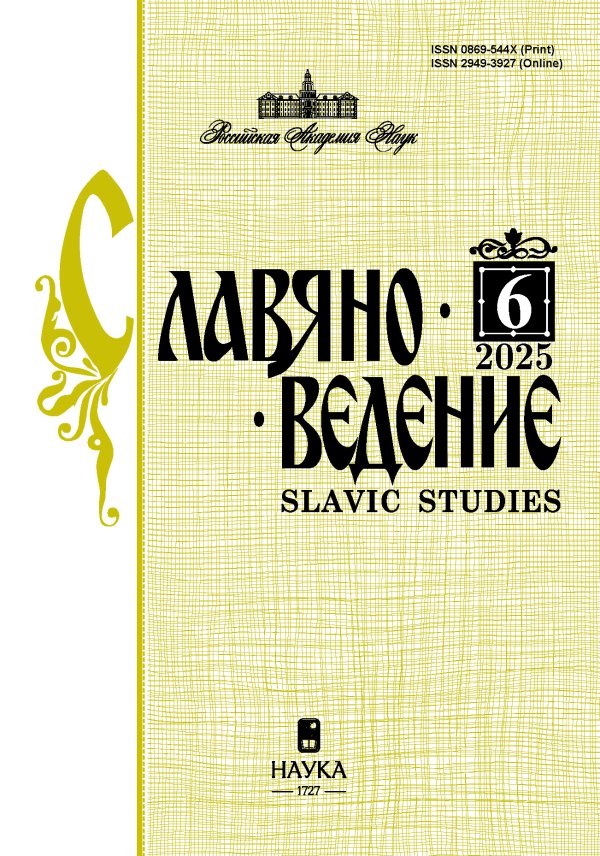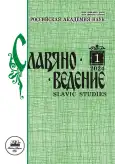Б. Шеллкросс. Холокост: вещи. Репрезентация Холокоста в польской и польско-еврейской культуре / пер. с английского и польского М. Крисань. Бостон; Санкт-Петербург: Academic Studies Press, Библиороссика, 2023. 247 с.
- Авторы: Адельгейм И.Е.1
-
Учреждения:
- Институт славяноведения Российской академии наук
- Выпуск: № 1 (2024)
- Страницы: 130-135
- Раздел: Рецензии
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/255411
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24010098
- ID: 255411
Полный текст
Полный текст
Книга Божены Шеллкросс, профессора польской и польско-еврейской культурологии на факультете славистики Чикагского университета, вышедшая почти одновременно на английском и польском языках, а теперь переведенная на русский, – попытка прочтения нескольких фрагментов польской военной и послевоенной литературы о Холокосте с точки зрения антропологии вещей. Предметы, являющиеся своего рода депозиториями частных историй, обрастающие на протяжении своей жизни различными контекстами, трасформирующиеся в знаки, легко становятся метонимией тех или иных событий большой Истории. За этим, не в последнюю очередь, стоит логика психологии, которой подчинена, например, динамика развития польской прозы о травматическом пространстве Возвращенных территорий в 1990–2000-е годы: через задействующее работу воображения эмпатическое описание бывших немецких вещей – к эмпатическому повествованию об изгнанных немцах. Предмет – уцелевший, сохранивший память о своем владельце и его трагедии – с одной стороны, наглядно отсылает к исторической катастрофе, с другой – позволяет сохранить дистанцию, словно бы не соприкоснуться с этой катастрофой непосредственно (а в ситуации, связанной с чувством исторической вины перед Другим, дает возможность сосредоточиться на эстетизации собственных чувств). В польской литературе применительно к Холокосту не было такой четкой периодизации, да и тема в послевоенный период не замалчивалась полностью, лишь делались попытки обойти болезненные проблемы. Еще для прозы второй половины 1980– 1990-х годов была характерна художественная «меланхолизация» польско-еврейской истории, элиминировавшая или сглаживавшая чувство вины. Это позволяло вписать уничтожение еврейского социума в национальный траурный ритуал таким образом, чтобы подлинным объектом траура оказался не Другой, а сам поляк, в силу сугубо внешних обстоятельств утративший привычного соседа. Как мы увидим, пытается обойти проблему польской вины и автор рецензируемого труда, мотивируя это тем, что сосредоточен на предметном мире, что как будто бы дает возможность не затрагивать нежелательные вопросы.
К тому чтобы вещи стали главной метонимией Холокоста, подталкивал масштаб катастрофы. Он, во-первых, невиданно усилил репрезентативную силу «материальных остатков» (с. 8) геноцида (горы повседневных предметов, каждый из которых неразрывно связан с жизнью, но вынужден свидетельствовать о смерти), во-вторых, сделал наглядым изменение функций вещей в ситуации программного уничтожения человека. Исследовательница тщательно воспроизводит идеологический, юридический, экономический контекст этого процесса в Третьем рейхе, анализируя понятийные изменения, к которым приводили конкретные шаги властей: смешение понятий коллекционирования и накопления, идентичности и собственности, деэссенциализацию в процессе переработки вещей, но прежде всего – фетишизацию насильственно фрагментированного предметного мира и овеществление человека.
Шеллкросс рассматривает связанные с бытованием предметного мира в пограничной ситуации тексты-свидетельства, понимая их также как материальные, физические объекты, подвергавшиеся риску быть уничтоженными и подвергавшие риску своих владельцев, поскольку «во время Холокоста главной ценностью любого письменного свидетельства, в том числе и литературного, было проговаривание им обвинения в геноциде» (с. 14). Таким образом, одним из критериев отбора текстов для анализа становится задача описания «онтологии и статуса текста Холокоста как материальной вещи и письменного документа» (с. 16) – исследовательницу интересует «статус объекта текста Холокоста и инверсия этого явления – текст Холокоста как объект» (с. 25), а также то, как воплощался в них опыт взаимодействия с предметным миром. С этой целью автор монографии вводит термин «прекарий», в котором соединяет первоначальный юридический смысл этого понятия («…описывает хранение предметов, которые должны быть возвращены владельцам при положительном изменении ситуации») и значение «неустойчивого статуса», «точно отражающего блуждание и угрозу существования текста Холокоста, то, как он переходил из рук в руки, как менял места при различных случайных обстоятельствах». «Прекариумный объект постоянно колеблется между существованием и уничтожением» (с. 16), наглядно демонстрирует хрупкость и уязвимость как человеческой жизни, так и свидетельствующего о ней запечатленного слова: «В контексте массового геноцида художественный текст попадает в сферу противоречия: одновременно он является свидетельством как смерти своего автора, так и своего собственного случайного спасения» (с. 33). Проводя параллель с другими историческими ситуациями, активизирующими личную память как инструмент спасения текста в надежде на то, что рано или поздно выжившее слово сможет свидетельствовать против Зла, Шеллкросс отмечает, что в случае Холокоста сама массовость геноцида подрывала надежность подобных – опробованных в советской, польской, еврейской истории – «нематериальных» методов. Интересны замечания исследовательницы, связанные с фактом переоценки мусора и превращения случайной поверхности в носитель (бес)ценного послания будущему, а также ее трактовка процесса создания и сохранения текста Холокоста как потенциального поля коммуникации, в котором задействованы вещи, слова и люди, как изменчивой сети дистанций, аберраций, психологических механизмов, мотиваций.
Итак, Шеллкросс исследует ряд текстов, созданных во время оккупации и, будучи свидетельствами геноцида, самим своим существованием представлявших опасность для жизни своих авторов или других временных хранителей рукописей (стихи Владислава Шленгеля, Зузанны Гинчанки, Чеслава Милоша, повесть Ежи Анджеевского), а также те, что были написаны вскоре после войны (рассказы Тадеуша Боровского, репортаж Зофьи Налковской). В последних двух случаях, затрагивая безусловно значимые для понимания отношений человека и предмета, вещности и человечности и проблемы, исследовательница отступает от декларируемого критерия, связанного с прекарием, хотя биография обоих писателей в целом и включает подобный опыт («тайный», уничтоженный во время оккупации дневник Налковской и писавшиеся в лагере стихи Боровского). Заметим также, что во всех главах Шеллкросс воспроизводит по мере необходимости биографически-психологический и литературный контекст. Выбранные произведения призваны продемонстрировать «основные модели репрезентации, с помощью которых польские и польско-еврейские писатели передавали опыт взаимодействия с вещами, полученный во время или вскоре после Холокоста» (с. 26). Возможные стратегии Шеллкроссс объединяет в ряд базовых парадигм: миметическую, метонимическую, агальматическую и трансформационную.
В первых двух главах, посвященных соответственно «певцу Варшавского гетто» Владиславу Шленгелю («Денди и еврейский хлам») и скрывавшейся «на арийской стороне» Зузанне Гинчанке («Материальная буква Е»), речь идет об авторах – польских евреях, подвергавшихся смертельной опасности и гибели не избежавших. Шеллкросс рассматривает связанные с предметным миром приемы (натюрморт, перечисление, вычитание, противопоставление единичного предмета массе вещей, концепция непредсказуемости, маскарад у Шленгеля; акцентирование через утаивание, перечисление, визуализация у Гинчанки) и осмысляет функции предметности (стремление «придать слову о Холокосте наивысшую степень текстуальной осязаемости и исторической актуальности» (с. 34) – показать разрушение повседневной жизни, уменьшение человеческого присутствия, неумолимое «сжимание» границ гетто у Шленгеля; обвинение предателей, достижение осязаемости переживания трагического опыта у Гинчанки).
Два «предметно ориентированных» (с. 64) стихотворения Шленгеля и Гинчанки воспроизводят воображаемый трагический финал (Шленгель – спровоцированное им убийство, по сути, самоубийство, Гинчанка – погром и убийство). В этих сценах три участника – палач, жертва и ее имущество: в «Цилиндре» Шленгеля – наряд денди, шокирующий нацистского жандарма; в [«Non omnis moriar…»] Гинчанки – атрибуты женского бытия, которые «наследуют» написавшие донос соседи – «…вотчины моей гордость / Луга скатертей моих, шкафов неприступных крепость, / простыней просторы, постель драгоценная / И платья, светлые платья останутся после меня» (с. 64). У Шленгеля символическая (художественно и психологически, т. е. автопсихотерапевтически) «трансформация лирического героя, его бесстрастная поза и торжественный вечерний наряд способствуют проработке сцены инсценированного самоубийства с точки зрения перформативной роли денди. […] По контрасту с реальностью Варшавского гетто, он представляет свою смерть в виде элегантной мечты о небытии, осмысляя себя через присущий денди язык одежды, поверхностей и внешнего вида. […] самоконструкция биографического героя Шленгеля восстанавливает его прежнее “я” […]. […] суицид во время Холокоста восстанавливает свободу и самостоятельность человека. Фактически он функционирует как единственное средство, с помощью которого человек может вернуть себе утраченную человечность» (с. 45–47, 55). Гинчанка также достигает парадоксального превосходства над палачом – и также через иронию: «Очевидно, что объектное желание грабителей переносит их в мир фантазий, и пока они будут праздновать свои новые трофеи на месте преступления, произойдет пародия на преображение: скоты превратятся в крылатых, “ангельских” существ» (с. 77).
В этом месте невозможно не сказать о том, что уже раньше обращает на себя внимание читателя и подтверждается при прочтении дальнейших разделов книги: автор монографии явно пытается уйти от болезненной проблемы польско-еврейских отношений. Так, например, о довоенном антисемитизме говорится при помощи намеков (с. 71), а о послевоенном – как главной причине молчания выживших и источнике новой травмы для них и их потомков – умалчивается вовсе: Шеллкросс упоминает лишь стремление справиться с тяжелыми воспоминаниями путем их подавления (с. 216). Причины сложностей с реституцией еврейской собственности в Польше также остаются «за кадром» (с. 11). Соседи, доносившие во время оккупации на евреев и убивавшие их, предстают исключением и никогда не называются поляками (иногда фигурируют определения «нееврей», «нееврейский»). Формулировка «масштабы разрушений, произведенных под командованием Штропа, были таковы, что после войны территория бывшего гетто не подлежала восстановлению» (с. 127) не противоречит действительности (масштабы действительно «были таковы»), однако «северный район» после войны перестал быть еврейским и был застроен (причем проектировать застройку начали еще до разрушения гетто [Chomątowska 2012; Sznajderman 2016, 210]) как пустое место по другой причине (подробнее см. [Адельгейм 2023]). Все это вызывает удивление хотя бы потому, что за последние десятилетия в Польше появилась огромная научная литература (избранная библиография [Там же, 38]), подтверждающая соучастие поляков в Холокосте. И как ни болезненен процесс принятия фактов и собственной травмы, т. е. вины, стыда, страха, усиленных долгим замалчиванием, – уклончиво и осторожно именовать происходившее во время войны «активизацией традиционных польско-еврейских противоречий и обид» (с. 170), а послевоенные погромы – «антисемитскими выступлениями» (с. 155) для серьезного ученого, занимающегося проблемой Холокоста, по меньшей мере странно.
Недоумение вызывает анализ стихов Гинчанки и Милоша. Так, при рассмотрении текста Гинчанки, казалось бы, невозможно не увидеть в сцене воображаемой развязки очевидной символики белого (пух – закрепившаяся метонимия погрома) и красного (кровь жертвы): «Туч и распоротых подушек и облака перин / К рукам их прильнут и превратят их в крылья; / А кровь моя свежая паклю с пухом склеит / И окрыленных внезапно превратит в ангелов» (с. 64). Бело-красный – указание на польскость, дополнительно подчеркнутое и саркастическим эпитетом «близкие», и прямым обращением к написавшей донос (польской) соседке, и ироническим упоминанием неискоренимой памяти об инаковости еврейского соседа: «…пусть вещи е твоя рука ухватит, / Хоминова, львовянка, шустрая жена шпика, / Доносчица скорая, мамаша фольксдойча. / Тебе, твоим пусть они служат, все-таки не чужим. / Близкие вы мои – и это так, не пустое слово, / Помнила я о вас, вы же, когда шли полицаи, / Тоже помнили обо мне» (с. 64) 1. Нельзя не согласиться с Боженой Уминьской, называющей иронию Гинчанки «кровавой»: «Эта кровавая ирония, эта картина – как соседи роются в еврейских вещах после того, как обрекли на смерть их хозяйку – голос поэтессы Зузанны Гинчанки из стихотворения “Non omnis moriar”. Гинчанка погибла в Кракове в 1944 г. в возрасте 28 лет; война почти закончилась, она могла уцелеть, но добрый сосед не выдержал и донес на нее в гестапо. С таким лицом, как у нее, выжить было невозможно. Она была красивой совершенно экзотической, смуглой красотой. “В этом стихотворении, – пишет автор точного и осторожного анализа жизни и творчества Гинчанки Агата Арашкевич, – еврейка заявляет о своей инаковости, о своей непохожести, но делает это изнутри – изнутри модели польской романтической поэзии”. Ну да, ведь стихотворение Гинчанки перекликается с “Моим завещанием” Словацкого; это, можно сказать, дуэт двух поэтов, слова схожи, а смысл совершенно разный, даже противоположный. О том, как трудно было быть ассимилированной еврейкой в довоенной Польше, насколько жестокой была та реальность и как защищалась от нее Гинчанка, имеет смысл прочитать в книге “Я рассказываю вам свою жизнь. Меланхолия Зузанны Гинчанки”» [Umińska 2023, 2]; «То, что делает Зузанна Гинчанка в этом потрясающем стихотворении, можно назвать саркастической деструкцией и деконструкцией мифов, которую она осуществила перед лицом деконструировавшей ее реальности. […] В ее стихотворении кровавая ирония является кровавой в прямом смысле слова. Она истекает ее собственной кровью. […] Деконструируя польские мифы, она деконструировала и себя, такую, какой была до того мгновения. Взорвала привычность мифа собственной инаковостью. Высмеяла его и уничтожила» [Umińska 2001, 359]. По словам же польского поэта Юлиана Пшибося, опубликовавшего в 1946 г. чудом уцелевшее стихотворение Гинчанки, этот «непревзойденный парафраз […] причиняет боль, как незатянувшаяся рана» [Przyboś 1946]. В своем подробном анализе стихотворения Шеллкросс избегает этой очевидной интерпретации, в сноске (также уклончиво, обходя суть высказывания коллеги) замечает, что «не считает утверждение Уминьской достаточно убедительным» (с. 77).
Подобная ситуация – с анализом двух знаменитых и многократно интерпретировавшихся стихотворений Чеслава Милоша – «Campo di Fiori» и «Бедный христианин смотрит на гетто», написанных во время восстания в Варшавском гетто в 1943 г. (глава «Посмертная вина плоти»). Используемая поэтом параллель с казнью Джордано Бруно акцентирует молчание (в этическом смысле) и безразличие свидетелей гибели еврейских соседей: «Я вспомнил Кампо ди Фьори / В Варшаве, у карусели, / В погожий весенний вечер, / Под звуки польки лихой. / Залпы за стенами гетто / Глушила лихая полька, / И подлетали пары / В весеннюю теплую синь. // А ветер с домов горящих / Сносил голубкaми хлопья, / И едущие на карусели / Ловили их на лету. / Трепал он девушкам юбки, / Тот ветер с домов горящих, / Смеялись веселые толпы / В варшавский праздничный день» (с. 145–146). Шеллкросс же утверждает, что речь в стихотворении идет о молчании жертв и о «равнодушии будущего читателя (курсив мой. – И.А.) к смерти и страданиям Другого, забвении и бренности» (с. 123). Исследовательница также замечает, что это стихотворение «принадлежит к небольшому числу текстов, написанных нееврейскими писателями во время восстания в гетто (и даже Холокоста в целом), которые, насколько я знаю, сделали первую попытку текстуализации невыразимости Холокоста» (с. 124– 125). Однако смысл – очевидный, как и в случае с Гинчанкой – стихотворения совсем не в этом, и не это заставило – добавим – А. Сандауэра назвать «Campo di Fiori» текстом, «спасшим честь польской литературы» [Sandauer 1982, 44] (справедливости ради отметим, что уже перейдя к анализу второго стихотворения Шеллкросс все же мельком упоминает факт изображения поэтом в «Campo di Fiori» «равнодушного населения Варшавы» (с. 127). Стихотворение «Бедный христианин смотрит на гетто» рассматривается исключительно подробно, с привлечением интереснейших аллюзий, параллелей, сопровождается анализом философии Милоша, нюансов его перспективы и всевозможных влияний – и лишь походя и уклончиво констатируется главное: речь идет о страхе и чувстве вины. В своем эссе 1987 г., ставшем очередным болезненным шагом в поныне не законченной общественной дискуссии о (со)участии поляков в Холокосте, Ян Блоньский отталкивается именно от анализа этих двух стихотворений Милоша, в первую очередь – от второго, к которому демонстративно отсылает название («Бедные поляки смотрят на гетто»). Именно страх («Роя туннель, медленно движется крот-охранник / С маленькой красной мигалкой на лбу. / Обследует закопанные тела, считает, пробирается дальше. […] / Боюсь, очень боюсь жандарма-крота. […] / Мой изувеченный труп откроется его взору, Дав повод числить меня среди прислужников смерти…»(с. 148), как показывает Блоньский, и является источником польской «мании собственной невиновности»: «Страх, что нас посчитают пособниками смерти. Он столь ужасен, что мы делаем все, чтобы его отогнать, скрыть от самих себя […]. Мы ведь чувствуем – что-то получилось не так, как надо. […] и сознательно или неосознанно – боимся, что нас обвинят. Боимся, что напомнит о себе жандарм-крот и скажет, заглянув в свою книгу: ага, вы тоже служили смерти? Вы тоже помогали убивать? Или, по крайней мере: вы спокойно смотрели, как умирали евреи? […] Давайте признаем честно: такой вопрос не может не возникнуть. Его обязан задать каждый, кто задумывается о польско-еврейском прошлом, вне зависимости от того, к какому ответу в результате придет. Мы отгоняем его от себя, считая чудовищным, скандальным. Ведь мы не были на стороне убийц. Ведь в очереди в печь мы сами были следующими. Ведь мы с этими евреями сосуществовали – не идеально, но все же. […] Приходится постоянно всем об этом напоминать. Иначе – что другие о нас подумают? Что мы сами о себе подумаем? Что станется с добрым именем нашей страны, нашего общества? Эта забота о “добром имени” неизменно стоит за частными – и в еще большей степени публичными – высказываниями. Иначе говоря, размышляя о прошлом, мы хотим получить моральную выгоду. Даже осуждая, сами хотим оказаться над – или вне – осуждения. Хотим быть абсолютно вне осуждения, хотим остаться совершенно чистыми. Хотим сами быть жертвами – и только… Однако за этим стремлением ощущается подспудный страх – как в стихотворении Милоша – и этот страх искажает, деформирует наши мысли о прошлом. […] Мы не хотим иметь ничего общего с чудовищным преступлением. Однако чувствуем, что оно нас как-то пятнает, “бесчестит”. Поэтому предпочитаем обо всем этом не говорить. Или говорить только затем, чтобы опровергнуть осуждение. Осуждение как таковое звучит редко, но оно словно бы витает в воздухе» [Błoński 1987]. Блоньский призвал «очистить самих себя», «то есть увидеть себя по правде», предостерегая, что «без этого дом, земля, мы сами останемся запятнанными» [Ibidem]. Имя Блоньского упоминается исследовательницей дважды – ибо не может не быть упомянуто. При первом упоминании Шеллкросс незаметно искажает смысл текста Блоньского («Жуткая образность и неумолимое осуждение, сквозящие в лирике Милоша, заставляют […] Блоньского называть это стихотворение “ужасающим” и “полным страха”» (с. 139), при втором лаконично замечает: «…попытка интерпретировать стихотворение в свете польско-еврейского сосуществования уже была предпринята Блоньским. В моем исследовании, посвященном материальному миру в литературе Холокоста, нет возможности следовать предлагаемому Блоньским пути» (с. 141–142).
Немало ценных наблюдений относительно функций предметного мира в связи с системой персонажей и сверхзадачей произведения содержится в главе «Рукопись, утерянная в Варшаве», которая посвящена повести Ежи Анджеевского «Страстная неделя» (написанной во время оккупации, впервые опубликованной в 1945 г., позже переработанной). Шеллкросс подробно исследует интерьер символический и функциональный, связь вещей с репрезентацией мужского и женского начал и национальной идентичностью и пр.
Два (три, если считать своеобразное заключение, озаглавленное «Кода: объект после Холокоста» и затрагивающее поэтический цикл Тадеуша Ружевича «Ножик профессора», 2001) раздела книги посвящены, как уже говорилось, произведениям, созданным после войны. Написанные с разной перспективы рассказы Тадеуша Боровского (который провел более двух лет в Аушвице и Дахау) и «Медальоны» Зофьи Налковской (которая помимо своей литературной деятельности активно занималась социально-политическими вопросами, в том числе была членом Главной комиссии по расследованию немецких преступлений в Польше), объединяют сверхзадача свидетельствования и тема овеществления человека в лагере. Шеллкросс значительно обогащает анализ достаточно хорошо изученных рассказов Боровского, рассматривая их с перспективы семантики осязания, функций языка предметов и чувств. Находящийся в центре главы «История производства мыла во время Холокоста» рассказ-репортаж Налковской «Профессор Шпаннер», который открывает ее сборник «Медальоны» (1946), посвящен проблеме радикальной трансформации тела жертвы нацистами и радикальной его дегуманизации. Шеллкросс анализирует философию текстовой и внетекстовой реальности, динамику повествования, связанную с балансированием между чуткостью и беспристрастностью, знанием и незнанием, исследует используемые Налковской контекстуальные и интертекстуальные отсылки. «Кода» представляет собой рефлексии по поводу послевоенного бытования предметов Холокоста и их перспектив.
Книга Б. Шеллкросс со всеми ее бесспорными достоинствами и печально объяснимыми недоговоренностями еще раз показывает, что урок вещей – как и любой урок истории – зависит от того, сколько знания о себе мы готовы принять на том или ином этапе (истории своей собственной, личной, и Истории большой). Но касаясь любого аспекта Холокоста, следует помнить, что это всегда двойная перспектива и двойная ответственность: перед памятью жертв и – перед нашим собственным будущим.
1 В качестве (весьма показательного) курьеза приведем наивно-восторженный комментарий читателя в Интернете, с легкостью считавшего бело-красную символику: «Трудно более прекрасно выразить веру в польскость в такой драматической ситуации, на пороге смерти, когда тебя предали многие поляки. В самом деле – non omnis moriar. Это стихотворение для Зузанны Гинчанки – ворота в вечность, навеки бело-красную» [Dobre wiersze 2023].
Об авторах
Ирина Евгеньевна Адельгейм
Институт славяноведения Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: adelgejm@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-5208-0848
доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
Россия, г. МоскваСписок литературы
- Адельгейм И. Е. Топос варшавского Муранова в польской прозе «внуков Холокоста» // Топос города в синхронии и диахронии: литературная парадигма Центральной и Юго-Восточной Европы. Коллективная монография. М.: Институт славяноведения Российской академии наук, 2023. С. 15–87.
- Błoński J. Biedni Polacy patrzą na getto // Tygodnik Powszechny. 1987. № 2. S. 42–46.
- Chomątowska B. Stacja Muranów. Wołowiec: Czarne, 2012. 461 s.
- Dobre wiersze. URL: http://dobre-wiersze.blogspot.com/2015/01/zuzaznna-ginczanka-non-omnis- moriar.html (дата обращения: 23.09.2023).
- Przyboś J. Ostatni wiersz Ginczanki // Odrodzenie. 1946. № 12. S. 5.
- Sandauer A. O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. (Rzecz, którą nie ja powinienem był napisać…). Warszawa: Czytelnik, 1982. 96 s.
- Sznajderman M. Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna. Wołowiec: Czarne, 2016. 288 s.
- Umińska B. Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze od końca XIX wieku do 1939 roku. Warszawa: Sic!, 2001. 374 s.
- Umińska B. Kino i zaginieni Żydzi. tygodnikprzeglad.pl 31.08.2003 URL: https://www.tygodnikprzeglad.pl/kino-zaginieni-zydzi/ (дата обращения: 23.09.2023).