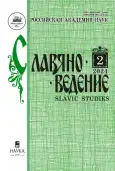А brief outline of polish folk demonology. II
- 作者: Tolstaya S.M.1
-
隶属关系:
- Institute of Slavic Studies of Russian Academy of Sciences
- 期: 编号 2 (2024)
- 页面: 65-77
- 栏目: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/258408
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24020064
- EDN: https://elibrary.ru/dopljc
- ID: 258408
全文:
详细
The article is a continuation of the essay on Polish folk demonology, which was published in the journal Slavic Studies. 2023. No. 6. The first part includs a general description of the Polish system of mythological characters and a description of nature spirits. The second part published below describes the home spirits, the demons of the dead, personified images of illness and death, the central mythological character – the devil, as well as half-demons (witches, sorcerer, wolfman).
全文:
4. Домовые духи
Среди домовых духов выделяется несколько автономных категорий: почитаемые души предков; домовой уж, летающий змей, домовые духи-обогатители. Воплощением домового духа могла считаться также птица и даже домашняя метла.
Древнеславянский культ умерших предков, который сохраняется во многих обрядовых (прежде всего погребальных и поминальных) и повседневных формах поведения и верованиях, сравнительно слабо отражен в представлениях об их прямом покровительстве потомкам. Еще в XVII–XVIII вв. вера в домашних духов (domowe duszki, ubożęta) была живой частью традиции: им оставляли еду в углу дома или стодолы, а в стене или на потолке делали отверстие для того, чтобы они могли входить и выходить [Baranowski 1971, 200– 201]. Но постепенно, под влиянием церковной идеологии эти мифологические персонажи (далее – МП) оказались причисленными к разряду дьявольской рати и нечистой силы, а иногда объединенными с другими демонами, например с атмосферным лятавцем (см. [Толстая 2023, 25]), что превращало их из покровителей семьи в демонов, наделенных как опекунскими, так и опасными свойствами, а их опекунская функция была передана ангелам-хранителям. Одновременно с этим в польскую культуру проникли заимствованные от соседних народов МП, имеющие разные наименования: в Вармии и Мазурах choboldy (koboldy), kłobuki (kołbuki); в Поморье karzełki и skrzaty, в Великопольше skrzaty (skrzaki), smoki, в Силезии skrzaciki и inkluzy, в Серадзско-Калишском регионе plonki, в Подлясье domowiki, в Жешовском воеводстве żmije; к ним в некоторых районах были добавлены западноевропейские (немецкие) карлики krasnoludki.
Часто это разные наименования одних и тех же или близких по своим характеристикам МП. Их описание содержится уже в региональных томах О. Кольберга [Kolberg 1961–1974], например: в Калишском районе plonek – это маленький чертенок в виде черного петушка; в Поморье krasnoludki – живущие в норах, ямах, пещерах существа в красных шапочках, которых называют также podziemki; в Познаньском воеводстве skrzat выглядит как цыпленок, он живет главным образом в стодолах и приносит хозяевам зерно; в Поморье chobołd появляется в чулане в виде черной курицы или кошки (если кошку убить, все хозяйство погибнет); все эти существа приносят своим хозяевам достаток, но, по некоторым поверьям, они при этом становятся владельцами душ этих людей.
Лучше всего верования о демонах-опекунах сохраняются в восточных районах страны, где они также носят разные имена: в Жешовском воеводстве duchy domowe, duchy nocne, czarownice, krasnoludki, węże domowe, в Люблинском – dieduszki, domowniki, domowoje, szporychy, в Белостоцком – domowoje, hoduny, nieczyste siły, złe duchy. Люди, у которых в хозяйстве дела шли успешно (особенно пчеловоды, садоводы, коневоды и др.), подозревались в связи с нечистой силой и с ними опасались иметь дело [Pełka 1987, 134–138].
Домовые духи, по поверьям, могли иметь не только вид маленьких животных (курицы, цыпленка, кошки, крысы, хомяка, ужа, жабы, утки, вороны и др.), но и представляться в образе маленьких человечков с большими ступнями в сапогах с голенищами, или в виде черных человечков с рожками на голове, с хвостом и с копытами, или же в образе женщин в белом одеянии, людей в черном, или в каком-то неопределенном облике, или же считались невидимыми, обитающими в человеке, и др.; они могли переходить или быть переданными от одного владельца к другому. Происхождение этих МП объяснялось по-разному: они были душами умерших, душами убийц или людей, умерших без исповеди, грешников, отбывающих наказание и т. п., наконец, они могли сами родиться в расщелинах скал или же быть взращенными самими владельцами: надо было взять яйцо черной курицы, носить его неделю (девять дней) под мышкой слева, не мыться и не молиться все это время, после чего из яйца вылупится цыпленок (или какой-то уродец), а из него чертенок, которого надо было растить и кормить; такие взращенные духи назывались chowańce [Bartmiński et al. 2015, 213–215].
Люди, владеющие такими духами-помощниками и опекунами, обязаны были соблюдать по отношению к ним установленные правила, кормить их, причем определенным видом еды (например, молочной пшенной или гречневой кашей без соли, хлебом и свежим маслом), заботиться о них (хозяин должен был лично приносить домовому еду на чердак, в противном случае домовой сердился и мог швырнуть в хозяина горшок с едой), за нанесенную им обиду и плохой уход домовые духи могли отомстить и уничтожить все хозяйство.
Поверья о домовой змее, известные всем славянам [СД 2, 339–341], в польской традиции связаны в основном с ужом, который носит названия smok, ćmok, ćmuk, gad, gad domowy, domowy przyjaciel, gospodarz-wąż, кашуб. gaʒёna, gadzón, gadzôk. Верили, что уж живет в углу каждого дома, о нем следовало заботиться, кормить его и не обижать. Уж сосал молоко у коровы, и это было добрым знаком, предвещало благополучие хозяйства, дома и семьи. Ужа запрещалось убивать, прогонять и наносить ему какой бы то ни было вред – это грозило несчастьем всему дому и хозяйству. У кашубов gaʒёna – злой дух, появляющийся в облике змеи, которая не только высасывает молоко у коровы, но и может войти в ребенка. Такой ребенок имеет непреодолимое желание уснуть на берегу водоема, потому что сидящий в нем дух хочет искупаться: если мать успеет в это время унести ребенка, тогда он избавится от этой гадины, а она вселится в другого ребенка [Sychta 1, 294–295]. В Подгалье считали, что из ужа вырастает огромный smok – чудовищных размеров змея, способная нападать на домашних животных и даже на людей, а также насылать дождь [Kąś III, 383; X, 204–206].
5. Демоны-покойники (упырь и стрига, стригонь)
К кругу безусловно дохристианских верований, известных всем славянам и другим европейским народам и отраженных в литературе, относится образ «ходячего покойника», т. е. встающего из могилы мертвеца, который пьет кровь у людей и животных и особенно опасен для своих родственников [Krzyżanowski 1963, 416]. В польской традиции этот демон носит название upiór, wypiór, wąpierz, wampierz или strzyga, strzygoń и наделяется устойчивыми характеристиками, хотя в некоторых регионах описание упыря, вампира и стригоня могут различаться. Он наиболее известен в южных и восточных районах Польши [Baranowski 1981, 50–64; Pełka 1987, 163–172].
Считалось, что будущий упырь родится с двумя душами, но если одна из них получила крещение, то превращения в упыря после смерти не происходит. Верили также, что упырем станет ребенок, родившийся с двумя сердцами (из которых умирает лишь одно), родившийся с зубами. Упырем считался человек с двумя рядами зубов, с синеватым лицом, со сросшимися бровями и другими нестандартными чертами. Наконец, считалось, что упырем (вампиром) становится любой самоубийца или даже умерший от несчастного случая, человек, умерший без исповеди, грешник, ведьма или колдун, всякий злой человек и т. п., а также покойник, тело которого сохраняет свежий вид или, наоборот, чрезмерно распухает (в таком случае в гроб клали нож и связку веток с колючками).
Когда возникало подозрение, что кто-то из недавно погребенных стал упырем, то его могилу раскапывали и если обнаруживали, что у трупа красная голова или кровь на губах, то отрезали голову и клали ее между ног или же пробивали труп осиновым колом или зубом от бороны, пробивали голову железным гвоздем или переворачивали труп лицом вниз («чтобы он грыз землю»), клали мертвецу под язык карточку с его именем и т. п. Считалось также, что упыря можно испугать и не дать ему выйти из могилы, если закопать в могилу терновник с колючками или воткнуть нож, гвоздь или кусок железа острием кверху, если проделать в могиле отверстие и налить туда освященной воды, если бросить на нее горсть мака, наконец, если заказать в костеле панихиду.
По поверьям, упырь выходил из могилы в своем собственном виде и даже в той же одежде, в которой его положили в гроб, однако иногда говорили, что у упыря не было спины и были сзади открыты внутренности (известный мотив в народной демонологии [Moszyński 1967, 614–616]), или же он был в виде скелета или какого-то неопределенного существа, тени, в виде животного: собаки, волка, кошки, коня, барана, козла, огромной птицы; если же он оставался невидимым, то его присутствие можно было обнаружить по исходящему от него могильному холоду и трупному запаху, а также можно было слышать хруст костей скелета. Считалось, что упырь выходит из могилы в определенное время, например, при свете луны, в пятницу, в тот день недели, в который он умер, при сильном ветре, в день, когда в окрестности кто-то повесился, в еврейский праздник и т. п.
Стригонь мог вести себя по-разному: ходить ночью вокруг своего дома или дальше от дома, никому не причиняя зла, но мог и нападать на людей и животных, душить их и сосать у них кровь и нередко умерщвлял их. Случаи внезапной смерти объясняли нападением упыря или стригоня, даже если человек скончался среди бела дня. Особенно досаждали они своим родственникам: упырь приходил к жене и другим членам семьи, они могли не видеть его, а только чувствовать холодное прикосновение или поцелуй мертвеца.
В польских Бескидах считали, что стригонь нападал на людей главным образом ночью, когда люди спали. Он выходил из могилы, оставлял на ней свою рубашку и отправлялся в село душить людей, однако кровь он не пил. Когда выслеживали могилу стригоня, выкапывали труп и отрезали у него руки, ноги и голову; затем укладывали их в обратном порядке: ноги на место рук, руки на место ног, голову к задней части тела. Или же не расчленяли труп, а только связывали члены, а покойника переворачивали на живот. После этого стригонь больше не ходил [Lehr 1984, 231]. В тех же краях известен еще один опасный демон, очень близкий к стриге, но отличающийся от нее тем, что при жизни он был зморой (см. ниже). Демон этот назывался sotona; это мог быть невидимый дух, но мог появляться в виде девушки или парня, либо в виде животных – куницы, теленка или лягушки, а также оборачиваться предметами – шнурком или стеблем соломы, тогда был слышен шелест при его движении. Сотона нападала на людей, которые ее чем-либо обидели, или на тех, кто спал ничком, или на тех, кто не прочел перед сном молитвы. Она могла ограничиться тем, что насылала на спящего страшные сны, а могла пить кровь у своих жертв (при этом на разных частях тела оставались следы), и такие люди выглядели анемичными. Существовали разные способы защититься от сотоны (помогали нож, ножницы, а также запачканная пеленка младенца) и прекратить ее приходы [Ibid., 232–234].
Нередко, однако, упырь или стригонь оказывал услуги семье (как бы продолжая быть членом семьи): чистил лошадей, выносил навоз из хлева, косил траву, рубил дрова и т. п. Известны рассказы о том, как умершая мать приходит ночью кормить грудью своего ребенка или целовать, ласкать детей, чинить их одежду и т. п. Таких ходячих покойников или вообще не причисляли к упырям-стригоням, или считали их «добрыми» или «милосердными» стригонями [Baranowski 1981, 64].
На севере Польши существовали поверья об упыре по имени wieszczy или wieszcz, который по ночам выходил из могилы и тянул за веревку костельного колокола – кто из его близких слышал такой звон, должен был вскоре умереть. Или он поднимался на башню костела и громким голосом выкрикивал имена людей – того, кто услышал свое имя, ожидала близкая смерть. Кое-где считали, что он может взглядом убить своего ровесника [Ibid., 63].
6. Персонификация болезней и смерти
Болезнь вообще, так же как и отдельные болезни, особенно эпидемические, персонифицировалась в народной традиции всех славян и других европейских народов чаще всего в образе женщины или девушки. В формулах проклятий упоминается обобщенный МП chorobnik (Bodaj cię chorobnik porwał! ‘Чтоб тебя хоробник унес!’), который понимается как злой дух болезни вообще.
В центральной Польше, по описаниям XVIII в., демоны болезни – безобразные худые женщины в белых одеждах, которые приходили и приезжали (на специальных черных повозках) «рассевать» заразу. Во время эпидемии чумы в XVIII в. было убито, утоплено или сожжено немало женщин, обвиненных в том, что они «рассевали» болезнь [Baranowski 1971, 218]. Еще в XIX в. фиксировались такие случаи, причем нередко в распространении эпидемий обвиняли евреев [Ibid., 251–253].
В Познаньском регионе болезнь представлялась как воздушное видение, сопровождаемое сонмом демонических существ, при появлении которого у пастуха разбегалось стадо, собака скулила и ложилась у его ног, вол смотрел в землю и бился рогами, куры убегали и кричали петушьим хриплым голосом. По другим данным, это была высокая дeвушка, вся в белом, с растрепанными волосами [Pełka 1987, 173–174].
Любая болезнь имела, по поверьям, свою антропоморфную демоническую ипостась, к ней обращались (в заговорах) как к живому существу, с просьбами, укорами, вопросами, ср., например, заговор от рожи: «O różo, różo! Strasznieś bolesno, z czego sie ty obraziła? Czy z jedzenio? Czy ze spanio? Prosze cię bardzo: ustąp za przyczyną Jezusa i Maryi!» (О рожа, рожа! Страшная болезнь! На что ты обиделась? На еду? На спанье? Очень тебя прошу: уйди ради Иисуса и Марии!) [Kotula 1976, 258]. Демоны отдельных болезней могли представляться в других видах, например, дух детской болезни – в виде маленького ребенка с мертвецкими глазами; демон сухотки (чахотки) – в образе крошечного человечка, демон тифа – в виде высокого худого старика с красным лицом и бледными глазами, одетого в черный городской костюм, белую рубаху и красный галстук. Демоны других болезней представлялись в зооморфном или антропо-зооморфном облике (например, имели вид червяков, теленка, жеребенка или человека с коровьими рогами) или же считались невидимыми существами. Верования в демонов болезни дольше всего сохранялись в восточном Мазовше и Подлясье, где духа эпидемии представляли в образе худой высокой старухи с огромными оскаленными зубами, одетой в белое или черное полотняное платье. Подробнее о трактовке болезни в польской народной культуре см. [Marczewska 2012], об именах эпидемических болезней – [Dźwigoł 2004, 36–39].
Самым популярным представлением персонифицированной Смерти (Śmierć) является образ сухой костлявой женщины с бледным лицом в белых одеждах или же скелета в таком же одеянии с косой в руке. Это образ христианской демонологии, усвоенный также ярмарочной городской культурой и сравнительно поздно перешедший в народную традицию. От дохристианских представлений о смерти сохранились лишь слабые следы, часто вплетенные в христианский образ. Так, белый цвет одежд Смерти, по предположению К. Мошиньского, возможно, связан с древним обычаем белого траура у славян [Moszyński 1967, 701]. По некоторым свидетельствам из разных мест, Смерть не может переплыть текучую воду, по другим – она почти ничего не весит и потому не может утонуть. Широко известен фольклорный сюжет: Смерть приходит к одру умирающего, и если она становится в ногах, то больной может еще выздороветь; желая перехитрить Смерть, человек переворачивает свою кровать так, чтобы Смерть всегда оказывалась у него в ногах [Baranowski 1981, 272–273].
Как и другие МП, Смерть могла иметь в народных представлениях разный облик – от антропоморфного до звериного и предметного. Она могла воображаться молодой девушкой, евреем, ксендзом в стихаре, доктором в цилиндре, кем-то из знакомых умерших, каменной фигурой Богоматери, столбом тумана, белой вороной, гусем, кошкой, собакой, конским черепом на коротких ногах и т. п. В некоторых районах Польши Смерть наделялась именем собственным: в Мазовше и Подлясье ее звали Basia, в Великопольше – Kasia, в Малопольше Jagusia или Zosia.
7. Черт
Представления о главном и самом популярном МП славянской низшей мифологии – черте – в значительной степени сформировались под влиянием христианской демонологии, популярной литературы и иконографии, в духе которых были переработаны остатки архаических дохристианских верований о вредоносных духах [СД 5, 519–527]. Основным названием черта в польском языке является djabeł или zły duch; помимо них используется множество эвфемизмов и задабривающих имен: bies, czart, szatan, antychryst, kucy, kusal, kusiciel, kusielec, kusy panek, kusy Bartek, pan Michał, lichy, zielony panek, кашуб. kudjåbeł, ten kusi, kulavi, kulavi zajc, rogati, coś, ten, ten rogati, ten z ogoną [Dźwigoł 2004, 86–136]. На представления о местах обитания черта указывают такие названия, как кашуб. ṕeḱelńik, силез. pieklorz (житель пекла, т. е. ада), rokita, rokiciarz, Rokicki (обитатель болотных зарослей), borowy, borowiec, boruta (лесной, боровой житель), błotnik (болотный черт). Особенно многочисленны и разнообразны номинации черта в кашубских говорах [Syhta 1957].
Черти считались сброшенными с неба падшими ангелами, воспротивившимися Богу и в наказание сброшенными им в пекло (ад). Не долетевшие туда в течение 40 дней ангелы остались на земле и стали чертями [Lehr 1985, 107].
Черти, согласно поверьям и быличкам, могут иметь самый разнообразный вид – чаще всего они появляются в народных рассказах в образе мужчины в городской, часто немецкой одежде, в шляпе или цилиндре, иногда в образе духовного лица, однако их непременным атрибутом были рога и хвост, в которых якобы заключалась их магическая сила. На внешний вид черта указывают его локальные наименования (ср. czort kulawy, kusy panek, ten rogaty и т. п.), поговорки: «poznał, że to djabeł: po kozich nogach, po wielkich rogach, po kurtkach niemieckich, po słowach zdradzieckich» (узнал дьявола по его козьим ногам, по огромным рогам, по курткам немецким, по коварным словам) [Kolberg 60, 106], шутливые песенки: «Jedno portka cérwono, druga portkа zielono, kapeliusik na głowie, oba my se swagrowie» (Одна штанина красная, другая зеленая, шапочка на голове, мы с тобой свояки) [Dźwigoł 2004, 99]. Широко распространено представление, что у черта нет дырок в носу, что он хромает, так как на одной ноге (или на обеих) у него копыто; у черта буйная шевелюра (иногда рыжая), которая скрывает рога, он низкого или, наоборот, огромного роста. На юге Польши, в Бескидах, черт мог выглядеть как малый ребенок, голый и запачканный, или как взрослый мужчина с огромными когтями и пышущим огнем ртом, либо появлялся как существо с рогами, либо в образе козы, собаки, бычка [Lehr 1985, 107–108]. На Люблинщине рассказывали о черте в виде белого или гнедого коня, собаки, кота, зайца и даже в виде движущейся по дороге белой подушки или перины, в виде плачущего ребенка, но чаще всего он представлялся немцем в парике и треугольной шапке, с козлиными или куриными ногами, орлиным носом, почти всегда в красных штанах и черном фраке.
Местами обитания черта были болота, трясины, балки, буераки, пустоши, леса и овраги, а также перекрестки дорог. По ночам он кричит, пугает людей, пищит, ломает ветки. Обычно черти привязаны к своей деревне и окрестностям, за ее границы они боятся выходить, потому что там хозяйничают другие черти. Считалось, что черт боится молнии, и если она в него попадает, гибнет, но в то же время ему иногда приписывается способность вызывать бури и грозы. Кое-где верили, что дьявол может сдвигать и переносить горы, но не может открыть малейшего заткнутого отверстия. Одна хитрая женщина заманила его в мышиную нору и засыпала ее песком, так что черт не смог оттуда выбраться. Различными заклятиями черта можно было «приковать» к какому-то месту, с которого он не мог сойти. Локальные разновидности образа черта могли быть отражением представлений о «чужих» – прежде всего немцах, но также и других, например, о татарах в Подлясье или о литовцах в Сувалках.
Главными злокозненными действиями черта были устрашение людей и подстрекание их на разнообразные «злые» дела (ср. его названия: pokuśnik, pokusiciel, pokusa ‘искуситель’, opętaniec ‘одержимый’), но он любил также сравнительно безобидные проделки, подшучивания и розыгрыши. Иногда он мог выступать и как блюститель нравственности и справедливости, наказывая людей неблагочестивого поведения и грешников. В большинстве же рассказов он представлялся ограниченным, наивным и глуповатым, его легко можно было обмануть и перехитрить. В одном популярном рассказе черт съедает у бедного мужика последний кусок хлеба и за это попадает к нему в услужение, а потом, благодаря своему трудолюбию и усердию, приносит своему хозяину богатство.
Универсальными средствами против черта считались закрещивание, ношение нательного креста, кропление освященной водой и молитва, а также специальные формулы, например: «Abraham prosił i uprosił, a ja nie mogę uprosić» (Авраам просил и упросил, а я не могу упросить) [Ibid., 108]. Помогала защититься от черта также освященная можжевеловая палка, для чего специально выращивали кусты можжевельника и поливали их освященной водой.
Черт как универсальный тип МП мог заменять собой любых других демонов, которые считались его воплощением, поэтому его собственный образ остается недостаточно определенным, размытым. Черт является популярным персонажем народной литературы, сказок, анекдотов и других жанров фольклора [Krzyżanowski 1963, 81–83].
8. Полудемоны (ведьма, колдун, змора, волколак)
Демоническими свойствами могут обладать не только прирожденные МП или превратившиеся в демонов «нечистые» покойники, но и обыкновенные живые люди. Главным персонажем полудемонической природы в польской народной культуре является ведьма, которую называют, помимо общераспространенного czarownica, также wiedźma, wróżka, znachorka, paskudnica, paskudziarka, zjadarka, zjadarska baba, baba, babucha, кашуб. bab́ica, starёcha; ciota, cietka, ciotucha, baba ciota, djabla ciotka, ęga, ędza, baba jędza, dziadówka, кашуб. pura, в Подгалье и на Ораве strzyga и многими другими локальными названиями; менее употребительны имена соответствующих МП мужского рода: czarownik, wiedźmar, ciot, кашуб. paskudńik, prorok, kutin; guślar, czarajt и т. п. (подробнее см. [Dźwigoł 2004, 71–85]).
Образ ведьмы имеет двоякое происхождение: он сохраняет немало черт дохристианских верований о нечистой силе, но, как и многие другие МП и даже более чем другие, отражает сильное влияние религиозных представлений о живом существе (прежде всего женщине), находящемся во власти дьявола и действующем по его указке. Этот последний образ особенно укрепился в XVII–XVIII вв., в период развернувшихся в Польше «ведовских процессов» [Baranowski 1952; Baranowski 1981, 210–221; Bystroń 1976, 281–293; Nietolerancja i zabobon 1987, 119–187].
В крестьянском обществе ведьма чаще всего представлялась в образе старой, невзрачной, с длинными нечесаными волосами, иногда убогой, одетой в темные длинные одежды, одинокой и нелюдимой женщины из своего села, отличающейся странностями поведения (например, способностью часами смотреть на солнце [Sychta I, 154]), но часто о ней говорили как о самой обыкновенной, ничем не примечательной женщине. Ведьме приписывались как положительные магические свойства (главным образом лечебные), так и злокозненные: отбирание молока у коров, насылание болезней на людей и скот, противодействие хозяйственной деятельности (изготовлению масла, варке пива, ткачеству и др.), вызывание погодных бедствий (дождя, грома, града, ветра и т. п.), неурожая и т. п. По общему представлению, ведьмы умирали долго и мучительно.
В Подгалье ведьмы (называемые также babrośka, babrula – от глагола babrać ‘портить’) в своих действиях были сосредоточены главным образом на отбирании и порче молока у коров и вредительстве при сбивании масла. «Если чаровница кого-нибудь невзлюбила, она делала так, что корова не давала молока или ее молоко было тягучим, темным, с кровью и т. п. Она могла вызвать болезни у человека или скотины, могла испортить пищу, погасить огонь в печи. У нее в помощниках был дьявол, который обращался в кота, делался невидимым, превращал ее в жабу, а жаба влезала в хлев. Ей служили также planetnice, utopce, dzikie baby, boginki. В нашей местности чаровницы не имели такой власти, они в основном отнимали молоко и переносили его к себе. У Марины в стену был воткнут ясеневый колышек, она его вынимала, и молоко лилось. Или же чаровница незаметно крала с забора кувшин или иной сосуд, в который доили корову, несла его к ручью, полоскала его, воду выливала в ручей, и молоко уплывало вместе с водой; с этого момента корова становилась «сухой». Или била чужую корову по хребту обожженной палкой, тогда у коровы тут же происходил выкидыш. Могла наслать на человека алкоголизм, для чего давала ему выпить водку, пролитую через утиный клюв» [Kąś II, 25]. По другим свидетельствам, ведьма выходила на луга, где паслись коровы, перед Ивановым днем в полночь, она была нагой, держала в руках палочку и ведерко, переходила через девять межей и на каждой чертила палочкой круги, рвала траву в ведерко и произносила: «bierzę pożytek, ale nie wszystek» (Беру выгоду, но не всю) или «póć roseczka do dzboneczka» (Иди, росичка, в кувшинчик). Затем она шла домой и давала сорванную траву своей корове, после чего ее корова целый год давала много молока, а у коров соседей было молоко с кровью или вообще его не было. Еще один известный способ – ведьма выходила на пастбище голой накануне праздников св. Яна, св. Ежи и св. Томаша и протягивала по росистой траве платок [Lehr 1984, 240]. Ведьма могла использовать с той же целью веревку, на которой вели или привязывали корову: если украсть такую веревку, то с нее, как из вымени, будет течь молоко, а корова, у которой похитили веревку, перестанет доиться; то же делали с помощью конской узды [Kotula 1989, 86–87].
Широко распространены поверья о способах распознавания ведьмы, некоторые из них носят универсальный характер и встречаются в разных традициях, например: взять у гробовщика доску с отверстием от сука и через это отверстие посмотреть на рождественскую процессию у костела или в костеле, тогда можно увидеть всех чаровниц. Или надо было стать на стульчик, который изготовляли от Люции до Рождества, тогда увидишь на службе чаровниц – они стоят спиной к алтарю. Или: взять льняную цедилку, молча кипятить ее в воде в железном горшке, купленном в Великую среду, в течение трех дней, воткнув в цедилку иголки или шпильки, тогда придет чаровница вся исколотая, красная, дрожащая и скажет, что у нее болит голова [Kąś II, 26] (ср. [Kotula 1989, 88; СД 4, 401–406]).
По кашубским поверьям, ведьмы могут «засушить молоко» у коровы, уничтожить урожай на полях и лугах, перевернуть свадебную повозку, «посадить» на человека колтун, похитить у матери ребенка. В кашубских сказках ведьмы могут летать по воздуху, решетами «перелить» озеро или выпить из него всю воду, перенести горы с места на место, вырвать с корнями деревья, вызвать с неба снег посреди жаркого дня, превратить себя или других в тучи на небе, обернуться животным, птицей и т. п. Несколько раз в год, а именно в каждое полнолуние (прежде всего в канун св. Яна) ведьмы слетаются на свой шабаш на Лысые горы [Sychta 2, 154–155].
Еще одной заметной фигурой полудемонической природы является змора – МП, главная функция которого наваливаться на людей во сне и душить их. Основные названия этого духа в польской народной культуре: zmora, mora, mara, kikimora, gniotek, gnieciuch, siodło, siodełko, dusiołek, nocnica. Многие из этих названий закреплены за отдельными ареалами в качестве исключительных или предпочтительных, например, в Великопольше употребляется преимущественно mora, в центральной Польше – zmora, в Малопольше – gniotek.
Змору обычно представляют себе в виде высокой худой бледной женщины с маленькими припухшими или запавшими глазами, с толстыми или отвисшими губами; иногда голой; она обладает большим весом (тяжела, как мельничный камень), огромной силой; может представляться бесформенной или скелетом. Она жестока, мстительна, безжалостна, но в то же время ее можно подкупить.
Зморами становятся: младшая из семи дочек; женщина или мужчина, душа которых может выходить из тела; ребенок, родители которого на крещении вместо слова wiara произнесли mara; люди, родившиеся с двумя душами, но при крещении получившие одно имя; вдовы и др. Зморой может быть только живой человек и никогда не бывает умерший.
Обычно змора действует в одиночку, но иногда их бывает две или три, тогда одна из них душит людей, другая – деревья, а третья – коней. Бывает, что действуют сразу пять сестер-змор. Ее главное действие – душить людей во сне, но, по некоторым поверьям, змора может высасывать кровь из людей и животных, «душить» деревья, заплетать лошадям гривы. Если удается змору поймать, она просит ее отпустить и клянется больше не досаждать; при этом она может принять человеческий образ, а если ее перекрестить, она может избавиться от своих демонических способностей, но она может принять и облик животного (собаки, кошки, мыши, змеи и т. п.). Схваченную змору бьют метлой или сажают в новый горшок и запирают там, могут убить, а иногда могут и отпустить.
Чтобы предотвратить нападение зморы ночью, рекомендовали спать на правом боку, спать ногами к изголовью, шевелить средним пальцем ноги, класть на порог топор и метлу крест-накрест, забить в двери отверстие от сучка, положить рядом с собой косу, нож или топор; можно задобрить змору, пригласив ее завтракать, произнести заклинание, трижды осенить себя крестом и т. п. (см. [Czyżewski 1988]).
К разряду полудемонов принято относить и волколаков (wilkołak, wilkołek) – людей, наделенных магической способностью обращаться в волка по своему желанию или по воле другого человека, а затем снова принимать человеческий облик. Поверья о таких людях фиксировались с древних времен в разных частях Европы; в Польше они распространены главным образом в восточных регионах. По свидетельству XVI в., относящемуся к северо-восточной Польше, волколак превращался в волка два раза в год – на Рождество и в день Иоанна Крестителя; на какое-то время он уходил в лес и жил в волчьей стае. Народные представления о волколаках подразделяются на три типа: 1) человек сам способен превращаться в волка; 2) человек может быть навсегда или на время превращенным в волка каким-то другим человеком-демоном; 3) волколаки – это души умерших, отбывающих наказание в облике волка. В первом случае по существу имеется в виду ведьма (или колдун), способная превращаться в волка (обычно в определенные дни года), для этого она шла в лес и по семь раз обегала пять определенных деревьев, произнося заклинания, и постепенно обрастала шерстью, становилась волком и обретала волчьи повадки – нападала на скот своих соседей. Существовали и другие магические приемы, например, по поверьям гуралей, человек находил пень от срубленного дерева, вставал на него, прыгал вверх и в полете превращался в волка [Kąś XI, 435]. Это может быть также человек, родившийся с двумя душами, одна из которых осталась некрещеной, эта языческая («волчья») душа и заставляла его превращаться время от времени в волка.
Во втором случае чаще всего речь идет о ведьмаре, который способен превратить в волков всех участников свадьбы, обидевшись на то, что его не пригласили на свадьбу; рассказы с этим сюжетом широко распространены на востоке Польши и в соседних восточнославянских районах Полесья. К этому типу относятся и поверья о том, что из-за вражды или обиды отдельные люди могли превращать своих родственников, соседей или односельчан в волков с помощью определенных магических приемов.
Но особенно опасными считались волколаки третьего типа, т. е. грешники, отбывающие наказание в волчьем виде. Такой волк отличался от других своим большим размером, огромной головой, иногда двумя парами глаз; он мог в некоторых случаях издавать человеческий голос; его нельзя было убить обычной пулей. Предводителем как настоящих волков, так и волколаков считался св. Николай, он же, по поверьям, защищал людей от волков и волколаков.
9. Заключение
Польская народная демонология, несмотря на сильное влияние религиозной культуры и католической церкви, сохранила немало архаических элементов дохристианских представлений о мире нечистой силы, объединяющих ее с другими славянскими традициями – западнославянской, восточнославянской и карпатской. В разных частях Польши (кашубы, Подгалье, Подлясье) они фиксировались в разной степени практически до конца XX в., а кое-где отмечались и в наши дни. В настоящем очерке сделан акцент именно на эти архаические элементы, которые могут служить основой будущей типологической классификации МП всех славян. Можно предположить, что наиболее значимыми признаками для типологического представления окажутся не целостные образы персонажей и не сферы их обитания (как это принято в традиционных описаниях), а прежде всего их функции (т. е. характерные действия, направленные на человека), подобно тому, как в типологии сказки В. Я. Проппа именно функции героев оказались наиболее значимыми. Многие из таких функций (отбирание молока у коров, кража и подмена детей, вызывание стихийных бедствий и болезней, приношение достатка и др.) характеризуют не индивидуальных МП, а оказываются общими для целого класса персонажей, различающихся по другим признакам (внешнему виду, местам обитания, происхождению, привычным занятиям и т. д.). Схематичные карты, составленные еще в 30-е годы прошлого века К. Мошинским, содержат пять карт, посвященных демонологическим верованиям: карта 20: Демоны и демонические души, в которых бьет молния; карта 21: Ареал поверий о русалке и козитке; карта 22: Ареал поверий о полуднице; карта 23: Демоны, похищающие и подменивающие ребенка (1) boginka, bogina itp., 2) mamuna, mamona, 3) sibela и т. п., 4) paniuńca, 5) odmienica и т. п., odmieniec, 6) dziwożona, dzika baba, 7) lisiwka, 8) diablica, czartica, 9) złe, zły duch, diabeł и т. п., 10) kraśnię, kraśnolud т. п.); карта 24: Демон, приумножающий достаток (1) chobołd, kobołd, 2) kołbuk, kłobuk, 3) atwor, aitvaras, 4) latawiec itp,. 5) skrzat, skrzak, 6) plonek, 7) chowaniec и т. п., 8) domovik, 9) jaucier, 10) diabeł, zły duch и т. п., 11) inkluz, ankluz 12) sporysz, szporych, 13) źmiej, 14) другие) [Moszyński 1967, 736–740] (следует при этом учитывать, что на картах-схемах Мошиньского территория Польши представлена в ее предвоенных границах, т. е. с включением западных районов Белоруссии, Украины и Литвы). Как карты Мошиньского, так и Комментарии к «Польскому этнографическому атласу», где демонологические верования тоже представлены очень скупо и избирательно (поверья о смоке, вихре) [Lebeda 2002], тем не менее показывают, сколь резкие региональные и локальные явления и границы характеризуют польскую народную демонологию.
Таким образом, при всем обилии частных исследований по польской народной демонологии и наличии общих этнографических описаний, в которых демонологические поверья занимают немалое место, а также обобщающих трудов А. Брюкнера [Brückner 1920], Б. Барановского [Baranowski 1981] и Л. Пелки [Pełka 1987], полное системное представление этой сферы польской народной культуры остается делом будущего, особенно в отношении репрезентации региональных типов и различий [Поветкина 2022].
作者简介
Svetlana Tolstaya
Institute of Slavic Studies of Russian Academy of Sciences
编辑信件的主要联系方式.
Email: smtolstaya@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-4531-0024
DSc. (Philology), Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, Head of the Department
俄罗斯联邦, Moscow参考
- Baranowski B. Kultura ludowa XVII–XVIII wieku na ziemiach Polski środkowej, Łódź, 1971.
- Baranowski B. W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź, Wyd. Łódzkie Publ., 1981.
- Bartmiński J., Kielak O., Niebrzegowska-Bartmińska S. Dlaczego wąż nie ma nóg? Zwierzęta w ludowych przekazach ustnych, Lublin, UMCS Publ., 2015.
- Brückner A. Mitologia polska, Kraków, 1920.
- Czyżewski F. ‘Zmora’. Etnolingwistyka, 1, 1988, pp. 133–143.
- Dźwigoł R. Polskie ludowe słownictwo mitologiczne, Kraków, Wyd. naukowe Akademii Pedagogicznej Publ., 2004.
- Kąś J. Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej, Bukowina Tatrzańska, Nowy Sącz, 2015–2019, t. 1–12.
- Kolberg O. Dziela wszystkie, t. 1–60, Wrocław, Poznań, 1961–1974.
- Kotula F. Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci, Warszawa, LSW Publ., 1976.
- Krzyżanowski J. Słownik folkloru polskiego, pod. red. J. Krzyżanowskiego, Warszawa, Wiedza powszechna Publ., 1963, pp. 81–83.
- Lebeda А. Wiedza i wierzenia ludowe, komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 6, Wrocław, Cieszyn, PTL Publ., 2002.
- Lehr U. Wierzenia w istoty nadzmysłowe. Etnografia Polska, t. XXVIII, z. 1, 1984, pp. 223–250.
- Lehr U. Wierzenia demonologiczne. Studia z kultury ludowej Beskidu Sądeckiego, red. A. Kowalska-Lewicka, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, 1985, pp. 91–116.
- Marczewska M. Ja cię zamawiam, ja cię wypędzam… Choroba. Studium językowo-kulturowe, Kielce, 2012.
- Moszyński K. Kultura ludowa Słowian, t. II, kultura duchowa, cz. 1, Warszawa, Książka i wiedza, 1967, wyd. 2.
- Pełka L. Polska demonologia ludowa, Warszawa, Iskry, 1987.
- Povetkina P. B. Problema areal’nykh issledovanii mifologicheskikh predstavlenii; pol’skaia zona na obshcheslavyanskom fone. Slověne, 2022/1 (v. 11), pp. 65–85. (In Russ.)
- SD – Slavyanskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar’, pod obshchei red. N. I. Tolstogo, Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniia Publ., 1995–2012, t. 1–5. (In Russ.)
- Sychta B. Kaszubskie nazwy djabła. Język polski, 1957, no. 1, pp. 28–44.
- Sychta B. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław, Warszawa, Kraków, 1967–1976, t. 1–7.
- Tolstaya S. M. Ocherk pol’skoi narodnoi demonologii I. Slavyanovedenie, 2023, no. 6, pp. 14–29. (In Russ.)