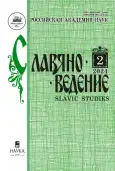In search of Megleno-Romanians: an ethnolinguistic field research in Macedonia
- 作者: Kazakov I.I.1, Chivarzina A.I.1
-
隶属关系:
- Institute of Slavic Studies of Russian Academy of Sciences
- 期: 编号 2 (2024)
- 页面: 124-131
- 栏目: Essays
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/258415
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24020113
- EDN: https://elibrary.ru/zcwosf
- ID: 258415
全文:
详细
The review highlights the general results of the field ethnolinguistic expedition in the city of Gevgelija and in the village of Uma (North Macedonia) in 2023. These are the only settlements on the territory of North Macedonia where the last speakers of the Megleno-Romanian language can be found. Close intensive contacts of the Romanian population with the Slavs led to the cultural and linguistic assimilation. However, during the carried survey, we found several people who spoke this Balkan-Romanian idiom to some extent. This made it possible to collect the necessary material on the main expedition task on funeral and memorial rituals, mythological ideas and terminology of this fragment of folk tradition.
全文:
Мегленорумыны или меглениты, наряду с арумынами составляют юго-восточное романство, а их идиом представляет разновидность балканороманской речи [Алисова 2007, 49]. Контактные народы (южные славяне и греки) называют мегленорумын влахами [Kahl 2002]. Отметим, что термин влах относится как к романским народам Южной Славии, так и к восточному романству в целом [Русаков 2006]. Термины мегленорумын и мегленорумынский были созданы научным сообществом по модели дакорумынский, истрорумынский, т. е. на основе географического распространения той или иной группы носителей балканороманской речи и не используется носителями мегленорумынского языка [Weigand 1892; Черняк 1991, 221].
Мегленорумынское население сгруппировано в долине Меглен, к северу от Салоникского залива, на правом берегу реки Вардар. В этом преимущественно славяноязычном регионе некогда компактно располагались мегленорумынские поселения: Нотия, Лунгуца, Бирислав, Ошаны, Лумница, Црнарека (на территории современной Греции, в дальнейшем были переименованы); Ума, Серменин и Конско (на территории современной Северной Македонии). Сравнительно большое число мегленорумын отмечается в г. Гевгелия (Северная Македония), а также в Салониках, Аридее, Аксьюполисе (Греция) [Capidan 1925, 6; Kahl 2002; Κουκούδης 2001].
Статус языка мегленорумын имеет спорный характер. Как и в случае с другими балканороманскими языками, он зависит от лингвистической традиции, в рамках которой проводится анализ идиома. Большинство румынских лингвистов склоняется к мнению, что мегленорумынский является диалектом проторумынского языка 1, в российской лингвистике мегленорумынский зачастую описывается как малый балканороманский язык [Guia 2014, 184; Черняк 1990, 221]. В любом случае мегленорумынская речь так или иначе рассматривается как отдельная от арумынской. Такому подходу лингвистика обязана исследованиям Г. Вейганда, открывателю языка мегленорумын [Weigand 1892]. Однако несмотря на то, что в науке разграничиваются понятия «арумыны» и «мегленорумыны», «арумынский» и «мегленорумынский», для носителей исследуемого идиома данное разграничение нерелеватно. По свидетельствам самих мегленцев, мегленорумынский и арумынский воспринимаются как диалекты одного языка – влашского, распространенного по всем Балканам и, в частности, по всей Македонии: Nói̯ im armă′nị-machedónị. Armă´nị! Македонски власи. «Мы арумыны-македонцы. Арумыны! Македонские влахи» [ВТ]; По штипски знаш? То е наш диjалект. То е друг диjалект, ние сме два диjалекта. Инаку и ние сме влашки. А они съ друго говорат, диjалект. «По-штипски <арумынский диалект в г. Штипе>? Это наш диалект. Это другой диалект, нас два диалекта. А так мы все по-влашски. А они говорят по-другому, диалект» [МД].
Количество носителей мегленорумынского идиома на сегодняшний день точно указать нельзя в связи с отсутствием соответствующих статистических данных. По оценкам научного сообщества, общее число носителей не превышает 5000 человек, и экспедиционные данные свидетельствуют, что язык может исчезнуть уже в ближайшие годы [Guia 2014, 186]. По материалам последней переписи 2021 г. в Гевгелии проживает 260 человек, записанных влахами [2]. Этнонима мегленец, мегленорумын или иного для идентификации этой группы населения в списке не прилагалось, поэтому, принимая во внимание мнение информантов 3, заключим, что все указанные люди мегленорумыны. В 1950-х годах жители мегленорумынских сел Ума, Конско и Серменин были организовано переселены в Гевгелию [Стамков 2018, 27–29]. Насильственная урбанизация привела к ускоренному распаду языка. В настоящее время на постоянной основе в Уме проживает четыре человека, три из которых числятся влахами [4]. Во время этнолингвистического обследования г. Гевгелия и с. Ума были опрошены пять информантов мегленорумынского происхождения, однако только один из них владел языком на достаточном уровне для ведения беседы, не прибегая к использованию македонского языка 5.
Село Ума (или Хума) на сегодняшний день является единственным мегленорумынским селом на территории Северной Македонии. Имя селу дала глинистая почва, распространенная в этих краях (мак. ума «белая глина»): Има тука земjа ума, од што се правили подници за печенье леб. «Здесь есть земля ума, которую использовали для изготовления подносов для выпекания хлеба» [МД]; Има специјална земја ума, што се употребува за лек. «Есть такая особая земля ума, которую используют в качестве лекарства» [МС].
Есть свидетельства, что первоначально село называли Шаптифрац (ср. мегл. Shaptifrats «семь братьев»), что связано с легендой о семерых братьях-основателях [Стамков 2019, 11]. Поселение располагается на склонах горы Кожув, а его жители испокон веков занимались овцеводством. По дошедшим историческим сведениям, именно из небольшого пастушеского поселения мак. Селиште или мегл. Catunishte (< cãtun ‘село’) разрослась Ума. Старые топонимы, сохранившиеся в селе или зафиксированные в документах, отражают доминирование восточнороманского идиома в данной местности: Bel di Vernia (название места археологических раскопок древнего влашского поселения вблизи Умы), Porta al Vanti (южные ворота), Vinjori (виноградники), Crutsi (крест, место, где совершались церковные ритуалы), Rãpantsa Pata (вбитый камнь), Scãrca di Shtana (известняковый рудник), Scãrca di Palja (стога), Brego Alba (белый берег; место где добывалась белая глина), Trapo di Lunji (место, где растет фундук), Castela (сторожевая башня), Trapo di Nutsi (орешник), Trapo al Masa (место, где по легенде одна молодая девушка по имени Мария (мегл. Masa) спрыгнула со скалы), Biserca al Tanas (место, где некогда была церковь Св. Афанасия) и др. [Стамков 2019, 13, 16, 22, 29]. Многих из указанных локаций более не существует, и местные жители не могут вспомнить, где они некогда находились. Так, неизвестно, почему церковь была посвящена св. Афанасию, неизвестно, вследствие чего она была разрушена и почему ее не восстановили. Новый храм посвящен Рождеству Пресвятой Богородицы, однако патроном села считается Св. Пантелеймон. Церковно-книжный агиографический образ св. Пантелеймона переплетается с народными представлениями, отраженными в следующих умских легендах.
В Bel di Vernia, первое влашское поселение в этой области, повадился прилетать змей и уносить молодых девушек. Тогда Св. Пантелеймон явился во сне жителям и подсказал в качестве жертвы отдать чудовищу овцу. Вторая легенда связана с эпидемией чумы или иной болезни, от которой в Уме массово умирали дети. По мифологическим представлениям, Чума являлась по ночам в виде страшной злой старухи и душила детей. Святой подсказал жителям переселить новорожденого в дом соседей, а на место младенца положить ягненка, которого Чума по ошибке и убьет [Стамков 2019, 20, 123]. В память о легендарных избавлениях на день памяти Св. Пантелеймона готовится курбан-манџа ‘жертвенный обед’ и угощаются все гости.
Несмотря на то, что престольным праздником является Мала Богородица, именно на день Св. Пантелеймона 9 августа устраивается большое празднование в селе. Согласно общебалканской традиции, люди съезжаются со всей округи, возвращаются в родные места издалека, даже из-за границы, чтобы почтить сельский панагир: И тогаш се дава рочок, се колат овци, овци давамо, то е традицијата. «И тогда дают обед, закалываются бараны, баранину подаем, это традиция» [МД]. Также местные жители вспоминают, что в конце прошлого века панагир Св. Пантелеймону справляли прямо на кладбище, расположенном у церкви: Таму ручахме за панагирот, на гробиштата ќе седнехме на земјата и там ручахме. Е како сега по тањирите, така седнахме със наште фамилии, мајка, татко, седнехме на гробиштата тамо јадехме. На гробишта. Кога панагирот се празнувахме. «Мы там обедали на сельский праздник, на кладбище сядем на землю и там обедаем. Вот как сейчас с тарелочками, так садились мы со своими, мать, отец, сядем на кладбище и там едим. На кладбище. Когда праздновали панагир» [МД].
В Уме нет постоянного священника, поэтому богослужения ведутся редко. Известно, что некогда уроженец Умы, священник Никола Андонов, чье время служения пришлось на период Балканских войн и Первой мировой, вел богослужения на влашском языке [Стамков 2019, 32–33]. Более этот язык не использовался в литургии.
Ума привлекает людей со всей округи еще и чудодейственным камнем с отверстием, расположенным в нескольких километрах от села. Это большая скала получила название Дупен камен, букв. «дырявый камень». Считается, что если женщина, страдающая бесплодием (неротка), пролезет через отверстие этого камня, то она исцелится. Также приносят детей од уплав «от испуга»: Дупен Камен е некоj лековит камен што се од уплав, и нешто лекува ако нема деци. <…> карпа дупена и да поминеш през него. «Дупен камень – это такой целебный камень от испуга, и может исцелить, если нет детей. <…> Это скала с отверстием, и нужно пройти через него» [МД].
Ввиду быстро исчезающего количества носителей мегленорумынского языка при полевом обследовании г. Гевгелии и с. Умы было принято решение в беседах с информантами затронуть все темы, разработанные в этнолингвистическом вопроснике А. А. Плотниковой [Плотникова 2009]. Однако основной темой исследовательского проекта была терминология похоронно-поминальной обрядности и экстралингвистические контексты, отражающие фрагменты народного календаря и мифологические представления. В рамках настоящего обзора обратимся к краткой характеристике лексики, которую удалось зафиксировать при описании похоронно-поминальной традиции на мегленорумынском языке.
Большая часть зафиксированных лексем имеет общероманский характер и встречается по всем разновидностям балканороманской речи: muri’ [6] (покойник) [МД], plãndzi (оплакивание) [МД], ãngropare (похороны) [ДС]. Некоторые лексемы совпадают с дакорумынскими вариантами, отсутствуя при этом в арумынском: sicarã (пшеница, коливо) [ДС] (ср. с рум secară; арум. gãrnu), luminare (свеча) [ДС] (ср. с рум. lumânare; арум. tsearã). В одном случае информант сформировал понятие с помощью и мегленорумынского, и македонского языков tsel svet (тот свет).
На бóльшую часть пунктов анкеты информанты либо давали соответствие на македонском языке, либо, пытаясь вспомнить эквивалент на мегленорумынском, приводили некоторые сопровождающие пояснения. Например, на вопрос о лексеме для обозначения душ умерших предков информант сообщил, что при их упоминании говорится sã im ние (мак.) sãnãtoshi (букв. да будем же мы здоровы) [МД]. Или, в поисках лексемы для обозначения предсмертного состояния человека, агонии, приводили описание самого состояния: nu poti… lumu se mãnceshti (не может… человек мучается) [МД]. Отметим, что одному из информантов все же удалось подобрать лексему с соответствующим значением – mãncos [ВТ].
Для обозначения поминок информанты использовали лексему parastas и уточняли, что они совершаются со следующей периодичностью: nouă dzãli, patãrdzãts, shasi mesh, un an … primu an, la doilea shi la treilea (девять дней, сорок, шесть месяцев, год… первый год, на второй и на третий) [ДС].
Более развернутые тексты на интересующую тему, а также названия праздников, связанных с поминовением предков, записать не удалось, поскольку информанты не владели в полной мере мегленорумынским идиомом и переходили на родной македонский язык, который обслуживает церковную и ритуальную жизнь. Тем не менее элементы романского влияния нашли отражение в архаических обрядах традиционной народной культуры, некоторые примеры которых мы приведем ниже.
Элементы поминального обряда свидетельствуют о потребности души в материальной пище и питье [Седакова 2004, 64]. У мегленорумын, как и в других балканороманских традициях 7, распространено представление о жажде на том свете. Поэтому на праздник Св. Троицы (Духове) могилы предков поливают водой и вином, чтобы напоить тех: Идеш приjе исчистиш. А на задушница оди поп, пее, прелее со вино. Вино и вода. <Зошто?> Па да пиjат вода! што знам? И вино, и водичка е важно. «Идешь сначала почистишь. А на поминальный день приходит священник, служит, поливает вином. Вином и водой. <Зачем?> Чтобы воды попили! Откуда я знаю? И вино, и водичка нужны» [МК]. Жажду, которую испытывают предки, ретроспективно можно рассматривать как засуху, дефицит влаги, отсутствие дождя [Агапкина 2002, 319]. Предков не только поят, но и создают им тень, устилая могилы листьями грецкого ореха: <…> Одат со вода и клаат листот од ореа за да им сенка на умрените, за да не jа излеат болката. «Приходят с водой и кладут листву грецкого ореха, чтобы в мертвых была тень, чтобы не выливали свою боль» [МК].
Обязательный атрибут поминального дня – раздача пищи, что является косвенным проявлением «кормления предков». «Семантика и назначение акта ритуального кормления раскрывается в сопровождающих его приговорах, нередко прямо указывающих объекты-адресаты действия» – за да се наjде на умрените «Чтобы было перед умершими» [Виноградова, Толстая 1999а, 601]. Коливо и хлеб остаются основными продуктами, которые должны присутствовать на поминальном столе и на раздаче: Наjважно пченка и лебот се носат. И на в црква, и на гробишта, дека сакаш там. На пример, в црква тука не оди никоj па jас одам доле дек шо има продавница. Се собераме таму сите и таму давам па на сите им давам. Доле има направено цела маса поставено. Сите jадеа, пиеjа. «Самое главное, чтобы принесли пшеницу и хлеб. И в церковь, и на кладбище, если хочешь туда. Например, в церковь здесь никто не ходит, поэтому я иду вниз туда, где магазин. Мы собираемся там все и там раздаем, я всем раздаю. Внизу ставят целый стол. Все ели, пили» [МД].
Как на самих похоронах, так и на других поминках в течение года на могилах зажигают свечи: Се палат свеќи, се пали кандило на гробиштата. Бог да го прости. Сегде се пали свеќе на секој. «Зажигают свечи, зажигают лампаду на кладбище. Прости его Бог. Везде зажигают свечи каждому». [МД]; Кандилотото мора да гори 9 дена или до 40 дена на пример. Кандилото мора да горе дома. «Лампада должна гореть 9 дней или до 40 дней, на пример. Лампада должна гореть дома» [МД]. Исследователи отмечают, что зажигание свечи и лампады обусловлено представлениями, что покойники могут видеть только тот свет, который они получают от нее. «Поэтому обязательным элементом обрядов задушниц (календарных поминальных дней), кроме молитв за души умерших, является возжигание свечей в домах и на могилах» [Виноградова, Толстая 1999b, 248]. Свечи зажигают со словами: Да е светол. Да му свети, да не му е темно. «Пусть будет светлым. Пусть ему светит, пусть не будет ему темно» [МД].
Культ предков, с одной стороны, и сепарация от обитателей «того» света, несущего опасность миру живых, проявляется в свадебной традиции приглашения предков: Пред свадбата одат на гробиштата и се покануваат умрените. <…> Имаме свадба, те каниме на свабда да доjдеш ама од страна ќе гледаш а не на свадба да бидеш присутен. Три пати ќе му кажеш и си одиш. «Перед свадьбой приходят на кладбище и приглашают предков. <…> У нас свадьба, мы тебя приглашаем, приходи (посмотреть) на свадьбу, но смотри со стороны, а на свадьбу саму не приходи. Так три раза скажешь ему и уходишь» [МК].
Таким образом, практически вся основная лексика, связанная с терминологией похоронно-поминального обряда, в мегленорумынском оказалась утрачена. Мегленорумынский идиом в целом на сегодняшний день оказался практически поглощен македонским языком. Однако именно сохранившиеся обряды традиционной народной культуры и, в частности, обряды похоронно-поминального комплекса как ее наиболее архаической части позволяют проследить общность с другими балканороманскими анклавами Южной Славии.
СПИСОК ИНФОРМАНТОВ
МД – Мариjана Доjранлиева, г. р. 1953, Ума.
МК – Марика Кочева, г. р. 1952, Ума.
ДС – Димитриjа Стоjчевски, г. р. 1953, Ума.
ВТ – Владо Танов, г. р. 1941, Ума.
1 Ряд исследователей, в том числе О. Денсушяну, П. Атанасова, считает, что мегленорумыны имеют северодунайское происхождение, тогда мегленорумынский идиом следует рассматривать как более архаичную стадию дакорумынского диалекта [Guia 2014, 185].
2 https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Popisi__Popis2021__NaselenieVkupno__PodatociNaselenie/T1503P21.px/table/tableViewLayout2/
3 Активист и глава мегленорумынского общества в Гевгелии «Здружение на Власите од општина Гевгелија» Проше Стойчевский утверждает, что в городе и округе из представителей восточного романства проживают исключительно мегленорумыны.
4 https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Popisi__Popis2021__NaselenieVkupno__PodatociNaselenie/T1503P21.px/table/tableViewLayout2/
5 Вопросы информантам задавались на македонском и румынском языках. Между собой жители говорят по-македонски.
6 В то же время, во всех балканороманских языках лексема для обозначения покойника восходит к лат. mortuus (рум. mort, арум. mortu). В мегленорумынском лексема происходит от причастия глагола muriri.
7 Ср. поминальную традицию влахов восточной Сербии: [Голант, Струтинский 2023].
作者简介
Ivan Kazakov
Institute of Slavic Studies of Russian Academy of Sciences
编辑信件的主要联系方式.
Email: ivan.kazakov.1999@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-7601-3287
Junior Researcher
俄罗斯联邦, MoscowAlexandra Chivarzina
Institute of Slavic Studies of Russian Academy of Sciences
Email: mss-vah@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-0365-3723
Junior Researcher
俄罗斯联邦, Moscow参考
- Agapkina T. A. Mifopoeticheskije osnovy slavianskogo narodnogo kalendaria. Vesenne-letnii tsikl. Moscow, Indrik Publ., 2002, 812 p. (In Russ.)
- Alisova T. B. Vvedenije v romanskuiu filologiiu: Textbook, eds. T. B. Alisova, T. A. Repina, M. A. Tariverdijeva. Moscow, Vyshaya shkola Publ., 2007, 453 p. (In Russ.)
- Capidan T. Meglenoromânii, vol. I. Istoria și graiul lor, București, Cultura Națională Publ., 1925, 225 p. (In Rom.)
- Chernyak A. B. Meglenorumynskij jazyk. Osnovy balkanskogo jazykoznanija. Jazyki balkanskogo regiona. Chast’ 1. (Novogrecheskij, albanskij, romanskie jazyki). Leningrad, Nauka, 1990, p. 221. (In Russ.)
- Golant N. G., Strutinskii I. M. Pogrebal’naia obriadnost’ vlakhov (rumyn) doliny Timoka. Obzor ekspeditsii v Vostochnuiu Serbiiu. Slavianovedenie, 2023, no. 2, pp. 125–135. (In Russ.)
- Guia S. Elemente de dialectologia română. Iași, Vasiliana’98 Publ., 2014, 382 p. (In Rom.)
- Kahl T. Meglenskite Vlasi (Meglenoromani) I Islamot: Seloto Noti (N’oti / Notija) vo Meglen I Notijcite vo denešna Turcija. Zbornik na trudovi od Medjunarodniot naučen simpozium «Vlasite na Balkanot», održan na 09–10 noemvri 2001 vo Skopјe. Skopјe, Uniјa za Kultura na Vlasite od Makedoniјa, Institut za nacionalna istoriјa, p. 56–82. (In Mac.)
- Koukoudis Asterios I. Oi Olympioi Vlachoi kai ta Vlachomoglena. Meletes gia tous Vlachous – 3os tomos. Thessaloniki, Zitros Publ., 2001, 408 p. (In Greek.)
- Plotnikova A. A. Etnolingvisticheskie materialy iz s. Teovo v Makedonii (oblast’ Velesa, region Azot). Issledovaniia po slavianskoi dialektologii. Vol. 12. Areal’nye aspekty izucheniia slavianskoi leksiki. Moscow, Institute of Slavic Studies RAS Publ., 2006, pp. 192–227. (In Russ.)
- Rusakov A. Yu. Vlakhi. Bol’shaia Rossiiskaia entsiklopediia [in 35 vol.], vol. 5, 2006. URL: https://old.bigenc.ru/ethnology/text/1918705 (Accessed: 11.09.2023). (In Russ.)
- Sedakova O. A. Poetika obriada. Pogrebal’naia obriadnost’ vostochnykh I iuzhnykh slavian. Moscow, Indrik Publ., 2004, 319 p. (In Russ.)
- Stamkov R. Seloto Uma od postanokot do iseluvanjeto na negovite žiteli. Bogdanci, Sofia Publ., 2019, 216 p. (In Mac.)
- Vinogradova L. N., Tolstaia S. M. Zadushnitsa. Slavianskije drevnosti: etnolingvisticheskii slovar’, ed. N. I. Tolstoy. Moscow, Mezhdunarodnyje otnosheniia Publ., 1999а, v. 2 (D–K), pp. 248–250. (In Russ.)
- Vinogradova L. N., Tolstaia S. M. Kormlenije ritual’noje. Slavianskije drevnosti: etnolingvisticheskii slovar’, ed. N. I. Tolstoy. Moscow, Mezhdunarodnyje otnosheniia Publ., 1999b, v. 2 (D–K), pp. 601–606. (In Russ.)
- Wiegand G. Vlacho-Meglen. Eine ethnographisch-philologische Untersuchung. Leipzig, J. Barth, 1892, 78 p. (In Germ.)