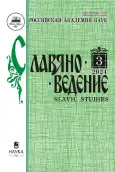Residents of the Volga Region in the 35th Infantry Division of the Ruschuk Detachment in Bulgaria during the Russian-Turkish war of 1877–1878
- 作者: Anshakov Y.P.1
-
隶属关系:
- Samara Federal Research Center of Russian Academy of Sciences
- 期: 编号 3 (2024)
- 页面: 18-29
- 栏目: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/262792
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24030025
- EDN: https://elibrary.ru/WZFSJO
- ID: 262792
全文:
详细
The article is devoted to the combat operations of the regiments formed in the Upper Volga region as part of the 35th Infantry Division of the Ruschuk (Eastern) Detachment in Bulgaria during the Russian-Turkish war of 1877–1878. In Soviet and contemporary Russian historiography, the actions of the Ruschuk Detachment and its military units, with rare exceptions, remained beyond the interest of researchers who focused their attention on the main events of the Russian-Turkish war. The author analyzes the mistakes and miscalculations of the leadership of the Rushchuk detachment, which led to defeats in the battles of Ayazlar and Kara-Khasan-Kioi, as well as the victories of the Russian troops at Chayir-Kioi and Mechka-Trastenik. Attention is drawn to the difficulties in the relationship between Grand Duke Alexander Alexandrovich, who led the Rushchuk detachment, and the leadership of the Danube Army in the person of Commander-in-Chief Nikolai Nikolaevich (senior) and the army headquarters.
全文:
Расквартированная в верхневолжских Ярославской и Тверской губерниях 35-я пехотная дивизия включала 137-й Нежинский, 138-й Болховский, 139-й Моршанский и 140-й Зарайский пехотные полки. 12 апреля 1877 г.1 Александр II в Кишиневе подписал манифест о войне России с Османской империей, и в тот же день русская армия вступила в пределы союзной Румынии2. Продвигаясь по румынской территории, Болховский полк прибыл в г. Пло- эшты, где тогда размещалась Главная квартира (Ставка) Александра II3.
16 июня Болховский полк переправился через Дунай и остановился под Систово (совр. Свиштов), это первый болгарский город, освобожденный русскими войсками, здесь к нему присоединился 137-й Нежинский полк. Продвигаясь походным маршем, Болховский и Нежинский полки 23-го июня прибыли в д. Овчу-Могилу, где к ним присоединились 139-й Моршанский и 140-й Зарайский полки. И здесь в тот же день они получили приказ о формировании Рущукского отряда, куда влилась и 35-я пехотная дивизия, которой предстояло в Болгарии вступить в бои с турками.
Рущукский (с января 1878 г. – Восточный) отряд сначала возглавил великий князь, генерал от инфантерии, Александр Александрович (будущий император Александр III), а после пленения Османа-паши и падения Плевны (28 ноября 1877 г.) – герой обороны Севастополя в Крымскую войну и организатор блокады Плевны генерал-адъютант Э. И. Тотлебен. В состав отряда вошли XII и XIII армейские корпуса. XII корпусом командовал великий князь Владимир Александрович, младший брат наследника престола. XIII корпусом, куда входила и 35-я пехотная дивизия, командовал генерал-лейтенант А. Ф. Ган, а затем генерал-адъютант князь А. М. Дондуков-Корсаков.
В задачу Рущукского отряда входило обеспечение безопасности левого фланга Дунайской армии со стороны четырехугольника, образуемого турецкими крепостями Рущук (совр. Русе), Шумлы (совр. Шумен), Силистрия (совр. Силистра) и Варна, а также защита подступов к занятым русскими войсками городам Беле (совр. Бяла) и Тырново. Общая численность турецких войск, расквартированных в этих крепостях, составляла 99,1 тыс. человек при 360 орудиях [История русской армии 2006, 644], из них более половины могли действовать вне их, как полевые войска. Первоначально роль Рущукского отряда, самого многочисленного по сравнению с Передовым и Западным, в наступательных действиях была велика. С построением железной дороги до Варны возросло и значение самого Рущука. Здесь размещались арсеналы и склады, а также дислоцировалась турецкая флотилия. Сама крепость была обустроена по последнему слову фортификационной науки, ее гарнизон насчитывал до 30 тыс. человек [Фролова 2022, 321]. Рущук в начале войны являлся ближайшей целью русских войск. 10 июля кавалерия Рущукского отряда произвела «общее наступательное движение» в сторону Рущука, и войскам было приказано «во исполнение намерений» главнокомандующего Дунайской армией Николая Николаевича (старшего) приступить «к обложению Рущука»4. Однако уже 12 июля последовало иное распоряжение: до разъяснения положения при Плевне прежнюю задачу по осаде Рущука следует отменить и в случае нападения турок приступить к оборонительным действиям5. Рущукский отряд насчитывал в августе 55 847 человек пехоты и кавалерии при 224 орудиях и занимал в июле – августе линию фронта протяженностью 55 верст между долинами рек Янтра, Лом и Кара-Лом (Черни Лом) [История русской армии 2006, 645; Фролова 2022, 321]6. Противостоящая Рущукскому отряду Восточнодунайская полевая армия была поделена на две армейские группы – превосходящую по численности пехоты и артиллерии Разградскую и Эски-Джумскую. Первоначально они вместе насчитывали 40,5 тыс. человек пехоты и кавалерии при 96 орудиях. Однако уже в десятых числах июля возглавлявший Восточнодунайскую армию мушир (фельдмаршал) Мехмед-Али-паша (принявший еще в юности ислам, онемеченный француз Карл Детруа) сумел увеличить войска до 59,5 тыс. человек при 144 орудиях. При этом их линия фронта составляла не более 25 верст [История русской армии 2006, 644–645; Фролова 2022, 321].
Проведя ряд разведывательных боев, Мехмед-Али-паша сосредоточил силы восточнее реки Кара-Лом, а 13 июля 1877 г. сильный турецкий отряд Разградской армии, возглавляемый Азис-пашой, появился вблизи расположенной по скатам оврага большой (350 дворов) турецко-болгарской деревни Езерджи (совр. Езерче), угрожая тем самым русским позициям под селом Костандец. Турецкий отряд состоял из трех пехотных полков при шести орудиях и шести сотен кавалерии. Он в три раза превосходил численность русских войск, занимавших оборонительные позиции [Михеев 1903, 82–83]. Здесь, под д. Езерджи, и приняли боевое крещение Болховский и Нежинский полки 35-й пехотной дивизии, прибывшие в Болгарию из Ярославской губернии. На военном совещании было принято решение, что при обнаружении противника его следует немедленно атаковать пехотой при поддержке кавалерии. В сражении при Езерджи участвовали: 11 рот 137-го Нежинского полка, шесть рот 138-го Болховского полка, 5-я батарея 35-й артиллерийской бригады и три эскадрона кавалерии гусар Ахтырского полка и донских казаков7.
Рано утром 14 июля на русские передовые посты у д. Костандец стали наступать турецкая кавалерия и пехота, а в полдень с турецких позиций у д. Езержди открыла огонь турецкая артиллерия. Поначалу дело ограничилось стычкой казаков с турецкой кавалерией, после чего турки отступили. Прибывший в Костандец в 2 ч. дня генерал-адъютант, генерал от кавалерии И. И. Воронцов-Дашков, инициатор этой военной операции, командовавший всей кавалерией Рущукского отряда, возглавил действия против турок и приказал ротам Нежинского и Болховского полков вслед за кавалерией начать фронтальное наступление на Езерджи. Продвижению пехоты и кавалерии мешали пахотные земли, овраги, затруднявшие спуски и подъемы, а также густые заросли колючих кустов. В таких условиях шедшие впереди цепи солдат плохо видели друг друга и вынуждены были перекликаться между собой, чтобы не разойтись. Единственным для всех указателем направления стала турецкая батарея, на выстрелы которой продвигалась пехота [Скворцов 1896, 94]. В этих условиях офицеры не могли руководить действиями рот, и судьба сражения перешла в руки солдат, по которым турки вели сплошной огонь. В свою очередь русская конная артиллерия начала обстреливать Езерджи, хотя из-за дальности расстояния картечные гранаты не достигали цели. Болховцы и нежинцы шли почти без выстрелов в одиночку или малыми группами «опрокидывая штыками попадавшегося на пути неприятеля» [Михеев 1903, 76]. С этого времени бой стал исключительно пехотным. Выйдя на окраину леса, роты стали группироваться для атаки, но неожиданно со стороны деревни на них двинулись «толпы черных турецких пехотинцев (арабы) и бегом по поляне бросились к лесу»8. Воодушевляемые Азисом-пашой, они три раза бросались в атаку, но каждый раз отступали, неся большие потери, и, наконец, «высказали намерение бросить позицию». Бесстрашно разъезжавший вдоль цепи Азис-паша старался остановить бегущих. «“Стреляй в генерала!” – послышалось у нас. И через несколько секунд храбрый паша упал с лошади тяжело раненный». Однако даже лежа на земле и увидев командира Нежинского полка Тинькова, Азис-паша «навел на него дуло револьвера». Спасая своего командира, рядовой этого полка Стратонов кинулся к паше и нанес ему смертельный удар штыком [Михеев 1903, 78–79]9. Убит был и другой турецкий военачальник Фезли-паша [Скворцов 1896, 95]. Нежинцы ворвались в деревню, и «началась работа штыком». Сады, канавы, улицы и дворы были завалены телами убитых турок10. В 8:30 вечера бой закончился, а ахтырские гусары стали преследовать отступающих турок, но из-за темноты прекратили погоню.
Бой за Езерджи закончился победой русских полков, но все могло сложиться и иначе, причем практически сразу же. Поздним вечером, восстанавливая после боя порядок в ротах, командир нежинцев, полковник Тиньков, увидел на гребне высоты к юго-востоку от д. Езерджи силуэты густых колонн турецкой пехоты. Как потом полковник рассказывал капитану Н.А. фон-Фохту, тогда он счел себя погибшим, поскольку теперь ничто не мешало туркам обстрелять артиллерией Езерджи, а затем атаковать пехотой и «вырвать из рук наших столь дорого купленную победу»11. Однако турки, вероятно, предполагая, что у русских есть еще в запасе значительные резервы (хотя они были минимальные), предпочли отступить в сторону Разграда. Общие потери русских войск составили 254 человека, из них убитыми два офицера, 79 рядовых, ранеными четыре офицера и 169 рядовых. Болховский полк потерял в этом бою 141 человека, из них убит 41 рядовой. Наибольшие потери понесла 2-я стрелковая рота этого полка – 52 человека, поскольку именно она была «в пекле неприятельского огня». Турецкие потери, а в бою участвовала в основном гвардия, составили убитыми 249 человек (эта цифра включает только тех, чьи тела были подобраны на поле боя), среди них был и Азис-паша, а также один английский офицер. 16 турок попали в плен [Михеев 1903, 81–82].
По поводу этого сражения великий князь Сергей Александрович отметил в дневнике: «Наши молодцы отогнали турок, один паша убит – Азис- паша и полковой командир», но тут же заметил, что начальник штаба Рущукского отряда П. С. Ванновский «не доволен этим делом, оно было совсем лишним, [это] трата людей»12. Более того, «все недовольны аванпостным делом Воронцова»13, поскольку предписанная главнокомандующим Дунайской армией Николаем Николаевичем (старшим) тактика сугубо пассивной обороны фактически не позволяла вести наступательные действия.
После окончания боя кавалерийские части сводного отряда направились в Костандец, а пехота, взяв раненых и только часть погибших, вышла 15 июля в д. Соленик, где состоялась панихида по погибшим, а их тела преданы земле в двух братских могилах. В тот же день, 15 июля, XIII корпусу было велено закрепиться на линии Кара-Вербовка, Еренджик, Осиково, поэтому 1-я бригада 35-й дивизии 16 июля выдвинулась из Соленика в д. Кара-Вербовка14.
10 августа во время начала боев на Шипке великий князь Сергей Александрович, находившийся в Рущукском отряде при старшем брате, узнав об атаке турок в районе деревни Попкиой (сов. Попово), записал в дневнике: «Больно как-то, Попкиой у меня не выходит из головы. Господи, не оставь нас, помоги нам!» 15Однако молить Бога великому князю надо было не за и так хорошо укрепленную и обустроенную позицию вокруг Попкиоя, а за другую, маленькую, болгарскую деревушку Аяслар (совр. Светлен), поскольку вокруг нее в этот день начались напряженные бои, повлиявшие на дальнейшие действия Рущукского отряда. Первый удар 10 августа принял на себя малочисленный дежурный 2-й батальон 137-го Нежинского пехотного полка. Находясь на правом высоком берегу р. Кара-Лом, он был атакован восемью таборами (батальонами) турецких войск и отступил с горы Киричен-баир на левый берег этой реки, где концентрировались основные русские войска. Так, вблизи д. Аяслар и у высоты Киричен-баир 10–11 августа и начались бои с участием полков 35-й пехотной дивизии.
Занимаемые турками высоты правого берега р. Кара-Лом были еще ранее мощно укреплены и создавали возможность перейти в дальнейшем к наступательным действиям. Для возвращения расположенных впереди д. Аяслар Кириченских высот и главной горы Киричен-баир генерал Прохоров изначально выделил два батальона 1-го пехотного Невского полка, 2-й пехотный Софийский полк, артиллерию и сотню донских казаков. Так как дневная атака труднодоступной горы могла привести к большим людским потерям, было решено штурмовать эту высоту лишь с наступлением темноты. С этой целью войска, назначенные к атаке, сконцентрировались вечером 10 августа на правом берегу Кара-Лома у подножья горы Киричен-баир. В качестве резерва этим воинским частям предавались два батальона Болховского полка, которые в 8:30 вечера заняли позицию в роще на левом берегу Кара-Лома. Отсюда, находясь на расстоянии немногим более версты, болховцы поначалу только наблюдали за ходом боя, начавшегося в 9 ч. вечера. «Луна сильно светила и озаряла гору; за которой уже шел бой. Снизу горы виднелась линия огней – наша цепь, а сверху более густая линия огней – турецкая цепь. Обе цепи перемещались: софийцы и невцы шли в атаку» [Михеев 1903, 94; Гаршин 2007, 358].
Молча, почти не отвечая на интенсивный огонь турок, войска поднимались на высоту Киричен-баир, метко сбивая турецких стрелков. При этом 3-м батальоном Софийского полка был взят редут, а 5-я и 6-я роты этого полка захватили южный отрог Киричен-баира. Затем мощным штыковым ударом софийцев турки были опрокинуты, и в 11 ч. 40 мин. ночи высота Киричен-баир была взята, а турки, прекратив огонь, отступили на ближайшие высоты16. Так удачно для русских войск закончилось Аясларское дело 10 августа. Отступившие турки не смирились с потерей столь важной для них высоты и практически сразу же в 12 ч. ночи открыли по Киричен-баиру артиллерийский огонь. Вслед за этим с криком «Алла» они бросились в атаку, повторив ее трижды, но каждый раз были отброшены русскими штыками, а затем софийцы и невцы отбили и четвертую атаку турок. Измотанный в бою и растративший все патроны 3-й батальон Софийского полка вышел из боя, и в 2 ч. ночи 11 августа его сменил 2-й батальон Болховского полка, перешедший по мосту на правый берег Кара-Лома. Еще две турецкие атаки были отбиты оставшимися в бою солдатами 2-й роты 1-го Софийского батальона при активной помощи болховцев и невцев. Затем наступила передышка, продолжавшаяся до 9 ч. утра 11 августа, после чего турки возобновили наступательные бои, продолжавшиеся весь день, в одном из которых был ранен и Гаршин. В контратаке несколько солдат-болховцев оторвались от 5-й роты, Гаршин с товарищами заметили раненого сослуживца Степана Федорова, они хотели оказать ему помощь, но тот уже был мертв. В это время спереди из кустов раздался залп, ранивший и рядового Гаршина, и поручика Олешкевича. Однако, к счастью для них, свидетель этой сцены, уже упоминавшийся вольноопределяющийся и всего лишь через неделю после этого боя Георгиевский кавалер Николай Грегенгер бросился в эти кусты и заколол засевших там трех турок [Михеев 1903, 111–112]. Так что крест он заслужил хотя бы тем, что, по всей видимости, спас жизнь В. М. Гаршину, ставшему в 1870–1880-х годах одним из известных и читаемых писателей России. Сам Гаршин вспоминал: «Я упал; кровь лилась из ноги струею» [Гаршин 2007, 362].
Первые известия об аясларском сражении внушали оптимизм. Великий князь Сергей Александрович 11 августа сделал в дневнике следующую запись: «У Саши было дело у Аяслара, неприятель отброшен»17. Тем временем в штаб XIII корпуса от генерала Прохорова стали поступать иные сведения, неутешительные. В них сообщалось, что, хотя Кириченские высоты и взяты благодоря героическим усилиям наших войск, но удержать их без помощи свежих войск становится крайне трудно. В течение временного затишья с 9:30 до 2 ч. дня 11 августа турки создали новые артиллерийские позиции. Русские войска не имели возможности доставить орудия на высоту Киричен-баир, стреляя же через гору, они рисковали попасть по своим, поэтому вели только пехотный бой ослабленными батальонами. В конечном итоге все же направленное к Аяслару подкрепление из восьми рот 139-го Моршанского полка, трех рот 138-го Болховского полка и двух сотен казаков прибыли на место лишь в 6 ч. вечера и уже не могли спасти положение18.
После бессонной ночи и многих часов изматывающего боя при сорокаградусной жаре, не получив, в отличие от турок, вовремя подкрепления, без воды и пищи, выдержав в общей сложности 12 атак русский отряд вынужден был отступить перед превосходящими силами турок численностью от 16 до 20 таборов при 12 орудиях под командованием Дервиш-паши [Михеев 1903, 109]19. Турки, не ожидавшие отхода русских, дали им возможность беспрепятственно перейти на левый берег р. Кара-Лом и укрыться изнуренным воинам в той же роще, откуда начиналось Аясларское дело Болховского полка. В реляции об Аясларском сражении начальник отряда генерал Прохоров отметил: «Совесть обязывает меня засвидетельствовать о примерном усердии, героической неустрашимости, терпении, храбрости и замечательной стойкости нижних чинов; усердии, распорядительности и самоотверженной храбрости офицеров, бывших все время в голове своих частей и служивших прекрасным примером доблестного духа, одушевлявшего весь отряд, и что все чины отряда от генерала до солдата исполнили долг свой честно и добросовестно, истощив все физические и душевные силы, и сделали все, что было в силах человеческих» [Михеев 1903, 110]. Этот бой стал не только свидетельством героизма и мужества солдат и офицеров, но и выдающимся образцом ночного штурма, когда русские войска в ночном бою не только вернули высоту Киричен-баир, но и восемнадцать часов удерживали ее против превосходящих турецких сил. Остается только добавить, что за этот бой рядовой В. М. Гаршин был представлен к производству в офицеры20. Положение русских войск после Аясларского боя осталось прежним, но с той лишь существенной разницей, что турки прочно обосновались на высотах правого берега Кара-Лома до конца войны21. Таким образом, им все же удалось «потеснить» русских, однако приступить к дальнейшим атакующим действиям Мехмед-Али-паша пока не решался.
В сражении под Аясларом 10–11 августа общие потери отряда составили: убитыми – два офицера и 62 рядовых; ранеными – десять офицеров и 280 рядовых; без вести пропали – четверо рядовых. Наибольшие потери понес Болховский полк, потерявший убитыми – 30 рядовых, ранеными – четырех офицеров и 124 рядовых [Михеев 1903, 109]22.
Однако на этом Аясларское дело не закончилось. Когда начали выяснять причины неудачного исхода сражения, то великий князь Сергей Александрович заметил следующее: «Сашу мне ужасно жалко, да бедного Ванновского. Одна была ужасная ошибка – это нач[альника] штаба 13-го корпуса Ильяшевича, который по непростительной оплошности укреплял Попкиой вместо Аяслара. Попкиой оказался у подошвы горы, а Аяслар на горе; он уверял, что Аяслар не позиция! Ну, ему же и досталось, и, вероятно, его сменят»23. Таким образом, из-за грубейшей ошибки высокопоставленного штабиста был упущен уникальный шанс создать русский мощный аванпост на правом берегу Кара-Лома, который бы клином вдавался и нависал над турецкими войсками, не позволял бы им безоглядно вести в дальнейшем наступательные действия. К сожалению, прогноз великого князя тогда оказался ошибочным, поскольку Л. И. Ильяшевич пока еще остался при своей должности.
После утраты Аяслара командование Рущукского отряда сочло целесообразным оставить прежние передовые позиции, занимаемые до Аясларского боя, т. е. Попкиой, Гагово и Карахасанкиой. В свою очередь, турецкая сторона готовилась к нападению, и для решительной атаки турки выбрали входивший в 35-ю пехотную дивизию прибывший из верхневолжской Костромы 140-й Зарайский пехотный полк, занимавший д. Карахасанкиой. Известия о готовящемся нападении турок встревожили штаб Рущукского отряда, возглавляемый генерал-лейтенантом П. С. Ванновским. Исполняя его распоряжения, командир XIII корпуса А. Ф. Ган издал 15 августа приказ о формировании особого отряда для обороны Карахасанкиоя во главе с генерал-майором Леоновым, подчинив его командиру 35-й пехотной дивизии. В состав отряда вошел 140-й Зарайский полк под командованием командира полка полковника Назарова, два эскадрона гусарского Лубенского полка, четыре сотни Донского казачьего полка. Нападающая на Карахасанкиой 18 августа турецкая сторона располагала 16 батальонами пехоты, шестью эскадронами кавалерии и 24 артиллерийскими орудиями [Домашев 1889, 37].
Все утро перед боем 18 августа основная часть зарайцев занималась земляными работами, укрепляя позиции. В это время к д. Садина подступил с двумя ротами Зарайского полка и кавалерией полковник Назаров, вступивший в бой с турками, прикрывая тем самым дорогу на Карахасанкиой, однако все же противнику удалось захватить Садину24. Турецкие войска продвигались вперед с целью захватить Карахасанкиой, к которому уже стянулись все части Зарайского полка, заняв боевую линию. Противник постоянно наступал, охватывая позиции зарайцев с правого и левого флангов. Зажженный турецкой артиллерией Карахасанкиой горел, но зарайцы продолжали сопротивляться. «Шесть раз неприятель брал д. Карахасанкиой и каждый раз был выбиваем; но бой был неравный; неприятель имел не менее 12 тысяч и постоянно вводил свежие войска»25. Видевший этот бой корреспондент английской газеты «Daily News» отметил: «За весь день я не видел ни единого случая проявления страха кем-либо. Единственное, что можно было услышать время от времени, что “их много”» [Генов 1979, 92]. К 4 ч. дня на помощь зарайцам из Гагово подошел всего один батальон 139-го Моршанского пехотного полка, сразу же вступивший в бой, прикрывая левый фланг зарайцев [Будницкий 1894, 50]. Однако в ответ на это турки ввели в бой еще шесть тыс. свежих войск, и даже с помощью моршанцев спасти положение не удалось. Турки сумели создать колоссальный перевес в живой силе, когда на одного защитника Карахасанкиоя приходилось четыре врага [Домашев 1889, 43]. В 6 ч. вечера от генерала Леонова последовал приказ войскам отойти на левый берег р. Лом, а затем к Гагово. На отступающих зарайцев и моршан турки бросились в атаку, отбитую несколько раз штыковыми ударами. Все же в 9 часов вечера зарайцы, «без шинелей и палаток, в одних гимнастических рубахах, расположились биваком в д. Гагово» [Домашев 1889, 43]. Общие потери отряда генерала Леонова составили: убитыми – четыре офицера и 103 рядовых; ранеными – 12 офицеров и 357 рядовых; контужеными – девять офицеров; без вести пропало – 15 рядовых. Большая часть потерь пришлась на 140-й Зарайский полк, в котором были убиты три офицера и 90 рядовых; ранено – девять офицеров и 275 рядовых, контужено – восемь офицеров и без вести пропало – 14 рядовых26. Под Карахасанкиоем практически повторилась ситуация при Аясларе, и вновь на поверхность всплыла та же фигура начальника штаба XIII корпуса Л. И. Ильяшевича. В письме, написанном по горячим следам начальником Рущукского отряда Александром Александровичем дяде, главнокомандующему Дунайской армией Николаю Николаевичу (старшему), цесаревич высоко отозвался о генерале Леонове, подчеркивая при этом отсутствие во время боя необходимой ему поддержки. Виновником всего произошедшего он видел исключительно Л. И. Ильяшевича, который «постоянно спорит, не исполняет, что приказано, и благодаря ему, мы потеряли 11 числа Аясларскую позицию, которую он не захотел укреплять, несмотря на приказания, а сегодня потеряли обе позиции в Карахасанкиое и Попкиое, и все из-за его упрямства»27. Цесаревич настаивал на немедленной замене Ильяшевича и переводе всего XIII корпуса из-за тяжелых потерь на новую Ковачицскую позицию28.
После сражения при Карахасанкиое полки 35-й пехотной дивизии участвовали в частых мелких стычках с турками. С конца августа 1877 г. Рущукский отряд вел в целом успешные оборонительные бои у Кадыкиоя (совр. Штрыклево) у Кацелево и Абланово. Отсутствие каких-либо реально видимых успехов в противостоянии с Рущукским отрядом заставило Мехмед-Али-пашу пойти на переговоры, которые с ним провел граф С. Д. Шереметев. В беседе Мехмед-Али-паша заметил, что «все они тяготятся войною, Реуф-паша даже сказал: “Действительно, не могут ли Россия и Турция найти общие интересы?”» 29Так считали видные турецкие военачальники, но так не думали в Стамбуле, да и в Плевне, где начавшийся 30 августа, в день именин Александра II, третий штурм Плевны закончился очередной неудачей. 16 сентября великий князь Сергей Александрович записал в дневнике, что в штабе Дунайской армии «так напуганы Плевной, что только о ней и думают, забывая наш отряд и армию Мехмет-Али»30.
Великий князь, впрочем, мог уже не вспоминать Мехмеда-Али-пашу, так как 9 сентября войска последнего потерпели сокрушительное поражение при д. Чаиркиое. Начатое в ночь на 10 сентября отступление происходило беспорядочно, когда таборы в панике стреляли друг в друга, бросая обозы и отстававших, отошли за р. Кара-Лом [Беляев 1956, 288]. Итогом этого поражения стало смещение Мехмеда-Али-паши, и новым главнокомандующим Восточнодунайской армией стал Сулейман-паша, которому поначалу удалось несколько «потеснить» войска Рущукского отряда, но он потерпел сокрушительное поражение 30 ноября у Мечки-Трестеник (совр. Трыстеник). Турецкие войска насчитывали 40 тыс. человек при 114 орудиях, русские войска – 28 тыс. человек при 138 орудиях [Керсновский 2013, 299], действовали по плану, разработанному цесаревичем Александром Александровичем, наблюдавшего за ходом боя. Этот бой не стал неожиданностью для командования Рущукского отряда, «угощение уже было готово» [Домашев 1889, 46]. Русские войска открыли огонь в 8:30 утра, а в контратаку перешли только в 14 ч. Таким образом, турецкие войска не менее шести часов находились под постоянным артиллерийским и ружейным огнем и были уже основательно обескровлены и измотаны. Бой вели воинские части 12-й, 33-й и 35-й пехотных дивизий [Беляев 1956, 292]. На заключительном этапе этого сражения по приказу командира XII корпуса великого князя Владимира Александровича в бой вступили батальоны зарайцев и моршанцев. Их вели в бой командир 2-й бригады и бывший командир зарайцев полковник Назаров, новый командир Зарайского полка майор Завойский и полковник Венцель, командир Моршанского полка [История русской армии 2006, 668]31. Затем в 15:30 русские войска перешли в общее наступление, и турецкие войска обратились в бегство, «провожаемые непрерывным ружейным и артиллерийским огнем» [Домашев 1889, 46; Будницкий 1894, 60]. В этом бою зарайцы потеряли убитыми и ранеными 101 человека [Домашев 1889, 46], а моршанцы – 61 человека [Будницкий 1894, 62]. Общие русские потери составили 22 офицера и 813 рядовых. Турецкие войска в этом бою потеряли свыше 3 тыс. человек [История русской армии 2006, 668; Керсновский 2013, 299]. После убедительной победы у Мечки-Трестеника в Рущукском отряде наступило полное затишье, прерываемое редкими стычками на аванпостах, так как теперь армия Сулеймана-паши больше не предпринимала попыток вести хоть какие-либо наступательные действия.
4 декабря 1877 г. Александр II после шестимесячного пребывания покинул Дунайскую армию и отбыл в Петербург, назначив 2 декабря Э. И. Тотлебена начальником Рущукского отряда. 5 декабря в Бухаресте император издал приказ, в котором отмечались доблесть и заслуги русских войск на главных направлениях русско-турецкой войны. Обращаясь к действиям Рущукского отряда, он заметил: «Не менее славы и признательности заслуживают войска Рущукского отряда […], на коих выпала трудная и тяжелая задача охранения левого фланга занятого нами с начала кампании огромного пространства. Задача эта выполнена блистательнейшим образом, несмотря на все трудности удержания значительно сильнейшего неприятеля на большом протяжении, при беспрестанных, постоянно отраженных попытках прорвать наши линии»32.
8 января 1878 г. Рущукский отряд был переименован в Восточный, а приближение русской армии к Константинополю заставило Турцию подписать 19 января в Адрианополе «Основание мира» и соглашение о перемирии. По условиям перемирия турки должны были покинуть ряд крепостей, в том числе и Рущук. 16 января без боя был занят Разград, а комендантом города стал командир 139-го Моршанского полка полковник Вентцель33, именно он привел этот полк в Болгарию из Твери. Заключение перемирия позволило великому князю Александру Александровичу 1 февраля отбыть в Петербург, передав начальство над войсками Восточного отряда генерал-адъютанту Э. И. Тотлебену.
Вечером 8 февраля в Рущук прибыл командир XIII корпуса князь А. М. Дондуков-Корсаков, принявший командование над Восточным отрядом, а 9 февраля Э. И. Тотлебен отбыл в Петербург и с апреля 1878 г. по январь 1879 г. он возглавлял Действующую армию.
После окончания войны и полугодовой стоянки в 1878 г. в городе Видин дружески распрощавшись с жителями Болховский полк перебазировался на новое место в д. Тырново-Семенли. Окончательно полк покинул Болгарию только в феврале 1879 г., вернувшись на место постоянной дислокации в верхневолжский г. Рыбинск. Одновременно с ним отбыли на родину 137-й Нежинский, 139-й Моршанский и 140-й Зарайский пехотные полки 35-й пехотной дивизии, получив заслуженные полковые награды, они вернулись на довоенное место дислокации в Ярославскую и Тверскую верхневолжские губернии.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Брадке-фон В. М. Очерк боевой службы его императорского высочества государя наследника цесаревича и великого князя Александра Александровича во время Освободительной войны 1877– 1878 гг. на Балканском полуострове // Старина и Новизна. 1911. Кн.15. С. 214–231.
Великий князь Сергей Александрович Романов. Биографические материалы. М., Новоспасский монастырь, 2007. Кн. 2: 1877–1880. 280 с.
Гаршин В. М. Полн. собр. соч., в 3-х тт. М.; Л.: Academia, 1934. Т. III. Письма. 596 с.
Дондуков-Корсаков А.М. «Всякий думал пожать легкие лавры» // Русско-турецкая война: русский и болгарский взгляд. Сборник воспоминаний. М.: Яуза-пресс: Российское военно-ист. о-во, 2017. С. 384–413.
Журнал военных действий Рущукского, впоследствии Восточного, отряда в войну 1877–78 годов. СПб.: Б.и., 1883. 293 с.
Зотов П. Д. Дневник // Русский орел на Балканах. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. глазами ее участников. Записки и воспоминания / сост. Н. В. Ильина, Л. Я. Сает. М.: РОССПЭН, 2001. С. 78–140.
Народы Поволжья и борьба южных славян за национальное освобождение. 1875–1877 гг.: Сборник документов и материалов / сост.: Ю. П. Аншаков, В. М. Хевролина, Н. И. Хитрова, А. Н. Сквозников. Самара: Изд-во Самарского научного центра РАН, 2009. 822 с.
Освобождение Болгарии от турецкого ига. М.: Наука, 1964. Т. 2. Борьба за национальное освобождение Болгарии в период русско-турецкой войны 1877–1878 гг. / под ред. С. А. Никитина, В. Д. Конобеева, Д. К. Косева, Г. Д. Тодорова. 647 с.
Сборник материалов по русско-турецкой войне 1877–78 годов на Балканском полуострове. СПб.: Издание Военно-исторической комиссии Главного штаба, 1900. Вып 16. 340 с.
Фохт-фон Н. А. Материалы для описания действий Рущукского отряда // Военный сборник. 1880. № 12. С. 208–232; 1883. № 2. Б.и. С. 177–207.
1 Датировка приводится по принятому в Российской империи юлианскому календарю.
2 4 апреля 1877 г. Россия и Румыния подписали две конвенции, военную и политическую. В конвенциях не говорилось о военном сотрудничестве, но фактически это был военный союз, поскольку Румыния стремилась сражаться за независимость, которую она и провозгласила 9 мая [История Балкан 2012, 286–287].
3 В этом полку служил рядовым вольноопределяющийся 5-й роты 2-го батальона, в дальнейшем известный писатель В. М. Гаршин.
4 Журнал военных действий, 32–33.
5 Там же, 34–35. В начале августа цесаревич все же хотел начать осаду Рущука, но ему не позволили это сделать (Великий князь Сергей Александрович Романов, 92). Именно главнокомандующий «осудил цесаревича на вполне пассивную роль и, так сказать, не дает ему хода, даже и теперь, когда это было бы вполне сообразно с военным нашим положением. Когда я выразил цесаревичу сожаление, что не попал под его начальство с самого перехода через Дунай, как предполагалось, то он с меланхолической улыбкой заметил: “Да, это для Вас вышло лучше, потому что мы в течение целых 6 месяцев были осуждены на пассивную бездеятельностьˮ», – отметил уже в конце декабря генерал-лейтенант П. Д. Зотов (Зотов 2001. С. 123). Однако за это можно упрекнуть не только Николая Николаевича, но и Александра II, так как распоряжения главнокомандующего утверждал император.
6 Великий князь Сергей Александрович Романов, делая запись в дневнике 25 августа, утверждал, что Рущукский отряд, его два корпуса, держат линию р. Лома протяженностью 80 верст. «Нашему отряду беспрестанно меняли назначение: сначала – держать линию на Янтре, потом – блокировать Рущук и, наконец, – держаться на Ломе; приказы и контрприказы, невозможно так!» (Великий князь Сергей Александрович Романов, 102). А. А. Керсновский считал, что в первой половине июля Рущукский отряд насчитывал 45 тыс. человек и занимал линию фронта в 50 верст [Керсновский 2013, 283].
7 Сборник материалов по русско-турецкой войне, 13; Журнал военных действий, 37.
8 Военный сборник. 1880. № 12, 218.
9 Там же, 219. По другой версии Азис-паша был убит выстрелом рядового Дм. Егорова, впоследствии за это награжденного [Скворцов 1896, 95].
10 Военный сборник. 1880. № 12, 219.
11 Там же, 220.
12 Великий князь Сергей Александрович Романов, 81.
13 Там же, 85.
14 17 августа 1877 г. отличившихся в бою при Есерджи при общем построении Болховского полка наградили Георгиевскими крестами. Среди награжденных был и унтер-офицер из вольноопределяющихся 2-й стрелковой роты Николай Грегенгер [Михеев 1903, 119], о котором речь пойдет ниже.
15 Великий князь Сергей Александрович Романов, 94.
16 Журнал военных действий, 67.
17 Великий князь Сергей Александрович Романов, 95.
18 Журнал военных действий, 70.
19 Там же, 71.
20 Чин прапорщика В. М. Гаршин получил, однако дважды направленное представление о награждении его «за личную храбрость» Георгиевским крестом было отклонено. Об этом сожалели солдаты 5-й роты, где он служил, и «вся рота решила, что барин Гаршин первый стоит креста» (Гаршин 1934. Т. III, 463–464).
21 Военный сборник. 1883. № 2, 191.
22 Журнал военных действий, 71.
23 Великий князь Сергей Александрович Романов, 102.
24 Журнал военных действий, 76.
25 Там же, 77.
26 Там же, 78.
27 Брадке-фон В.М. 1911, 220–221.
28 Потеря Попкиойской позиции, включавшей Попкиой-Хайдаркиой, была прямым следствием занятия турками Карахасанкиоя, после чего генерал-лейтенант Прохоров, опасаясь обхода своих флангов, оставил ее (Журнал военных действий, 78). Полковник Л. И. Ильяшевич после всего произошедшего все же покинул пост начальника штаба XIII корпуса, а в дальнейшем, когда временно в Болгарии ввели российское гражданское управление и созданы губернии, он возглавил Сливенскую. Безынициативного А. Ф. Гана на посту командира XIII корпуса в сентябре сменил князь А. М. Дондуков-Корсаков.
29 Великий князь Сергей Александрович Романов, 103.
30 Великий князь Сергей Александрович Романов, 116. Третье подряд поражение под Плевной самым серьезным образом повлияло на эмоциональное состояние Александра II. «Его страшно мучают понесенные нами потери, особенно 30 августа под Плевной. Избегая порицания кого-либо в этом несчастном деле, он плакал всякий раз, когда вспоминал о бесплодных жертвах этого дня. Вообще нервная система его сильно была потрясена» (Дондуков-Корсаков, 405).
31 Журнал военных действий, 211–212.
32 Народы Поволжья и борьба южных славян, 519.
33 Освобождение Болгарии от турецкого ига, 457–458.
作者简介
Yuriy Anshakov
Samara Federal Research Center of Russian Academy of Sciences
编辑信件的主要联系方式.
Email: yuri.anshakov@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-2999-4016
DSc. (History), Professor
俄罗斯联邦, Samara参考
- Belyaev N. I. Russko-tureckaya vojna 1877–1878 gg. Moscow, 1956, 464 p. (In Russ.)
- Budnickij S. Kratkaya istoriya 139-go pekhotnogo Morshanskogo polka. Ryazan’, 1894, 97 р. (In Russ.).
- Dondukov-Korsakov A.M. «Vsiakiy dumal pozhat liogkie lavry». Russko-turetskaya voina: russkiy i bolgarskiy vzgliad. Sbornik vospominaniy. Moscow, 2017, рр. 384–413. (In Russ.)
- Frolova M. M. Bolgary i Bolgariya v vospriyatii russkih oficerov Rushchukskogo otryada (po vospominaniyam uchastnikov russko-tureckoj vojny 1877–1878 gg.) Rossiya i Balkany: geopolitika i obshchestvennye svyazi, оtv. red. E. P. Kudryavceva. Moscow, 2022, рр. 320–362. (In Russ.)
- Garshin V. M. Vstrecha. Sochineniya, izbrannye pis’ma, nezavershennoe, рrep. V. A. Starikovoj. Moscow, 2007, 640 p. (In Russ.)
- Genov C. Russko-tureckaya vojna 1877–1878 gg. i podvig osvoboditelej. Sofiya press, 1979, 241 p. (In Russ.)
- Domashev P. A. Kratkaya istoriya 140-go Zarajskogo polka. Kostroma, 1889, 58 p. (In Russ.)
- Istoria Balkan: Sud’bonosnoe dvadtsatiletie (1856–1878 gg.), еd. V. N. Vinogradov. Moscow, 2012, 336 p. (In Russ.)
- Istoriya russkoj armii. Moscow, 2006, 768 p. (In Russ.)
- Kersnovskij A. A. Ocherki istorii russko-tureckoj vojny 1877–1878 gg. Russko-tureckaya vojna 1877–1878 gg.: Zabytaya i neizvestnaya, сomp. N. N. Vorob’eva. Har’kov, 2013, рр. 269–308. (In Russ.)
- Miheev S. K. Istoriya 138-go pekhotnogo Bolhovskogo polka. Moscow, 1903, 190 p. (In Russ.)
- Skvorcov N. P. Istoriya 137-go pekhotnogo Nezhinskogo polka. Moscow, 1896, 223 p. (In Russ.)