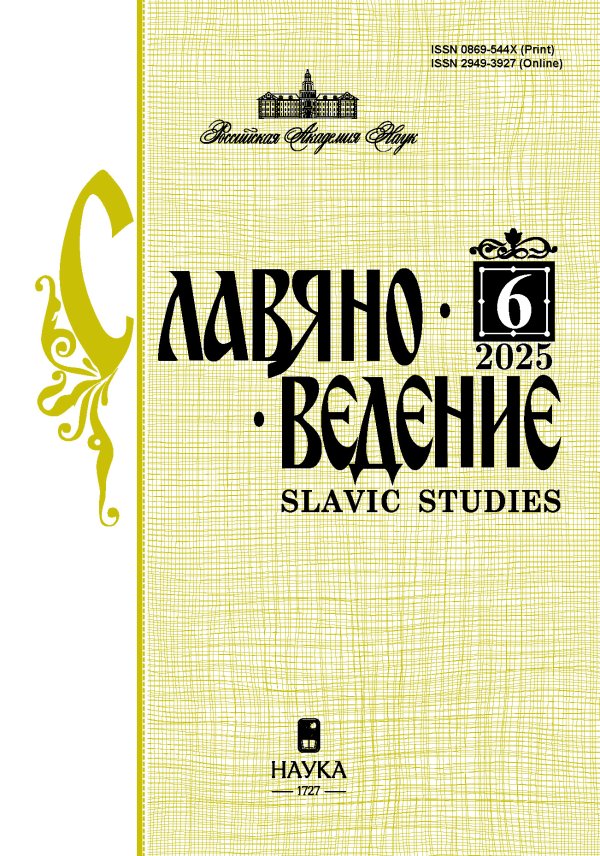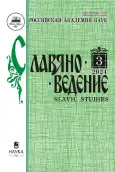The Balkans or South-Eastern Europe: a new conceptualization of the spatial and political image of the region (late 20th – early 2st century)
- Authors: Ulunyan A.A.1
-
Affiliations:
- Institute of World History оf Russian Academy оf Sciences
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 44-59
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/262796
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24030044
- EDN: https://elibrary.ru/WZEDGD
- ID: 262796
Full Text
Abstract
The author analyzes the process of geospatial diversification of the traditional historical and cultural Balkan region in the national discourses of a number of Balkan countries. It is based on the search for a new identity in the context of a strengthening European political orientation and the desire to minimize the existing negative image of the Balkans, associated in the European political tradition with the phenomenon of «Balkanization». The formulation of the concept of a new broader political space of South-Eastern Europe, the definition of which appeared at the beginning of the 19th century, is accompanied by the discussions in both public and academic circles in the states of the region regarding the combination of traditional cultural and historical identity traits and strengthening the political component that determines the course towards a «return to Europe» as a way out of the so-called geo-historical Balkan impasse.
The search for a «geographical alternative» in the modern Balkans has acquired the character of a sharply expressed contrast between the so-called traditional historical Balkan realities and the new trend of Europeanization of this region. At the same time, the Balkan self-identification continues to be preserved in the public narrative in a number of countries, and it is adjacent to the definition of South-Eastern Europe that is increasingly gaining strength and has a wider geographical scope. It is this that allows to emphasize the historical ties of the Balkan peoples and their states with neighboring countries located in the «border zone» between the so-called classical Europe and its virtual periphery.
Full Text
Эволюция пространственно-политического образа Балкан во внутри- и внешнерегиональных представлениях на протяжении XVIII–XXI вв. выявила ряд особенностей, главными из которых являлись неопределенность их внешних границ, внутрирегиональное этнополитическое размежевание, социально-политическая и экономическая «отсталость» по сравнению с так называемой классической Европой, высокая степень конфликтогенности не только на региональном уровне, но и в европейском масштабе. Локализация этого пространства определялась в политико-географическом отношении как некое «ориентальное» приращение к Южной Европе, граничащее с частью «настоящей» Европы, в то время как на протяжении всего XIX в. оно воспринималось в большинстве обществ «традиционной» Европы либо как пространство, близкое к Азии, либо как часть Восточной Европы. Само название «Балканы», за которым стоит недостаточно определенный в современном политико-географическом дискурсе с точки зрения его границ регион, продолжает вызывать дискуссии [Baramova 2008], в которых знаковым является обращение к двум группам онтологических корней.
Первая из них имеет местное происхождение и связывается с вошедшим в топонимическую практику названием, данным завоевавшими этот регион османами, которые создали на захваченных ими территориях феномен «двойной топонимики» – речь идет о замене уже существовавших местных названий на тюркские и их параллельном использовании: новых на официальном уровне, а старых – на бытовом, среди местных народов, захваченных Османской империей. Первоначально существовавшая эллиноязычная версия этого топонима, происходящего из древнегреческой культурно-исторической традиции, дошла до наших дней в виде названия «Χερσόνησος του Αίμου» (дословно: «Полуостров крови»), имеющего мифологическое происхождение и первоначально относившегося к горной гряде, получившей у древних греков название «Кровавый горный хребет» (Οροσειρά του Αίμου).
Вторая группа представлена внешним нарративом, восходящим к некоторым представителям германского 1 и ряда других европейских академических сообществ. Один из них, Иоганн Август Цойне (1778–1853), ввел в 1808 г. в научный оборот понятие «Балканский полуостров» (Balkanhalbinsel), когда иерархизировал европейское геопространство, выделив его отдельные регионы. В основу конструкции Цойне были положены горные массивы, и вся картина им основывалась на том, что «главный горный хребет простирается от самого западного мыса Европы – де-ла-Рока на северо-восток, а самая высокая вершина – это вершина Альп, откуда во всех направлениях видны впадины, на запад – Севенны, Пиренеи, Сьерра; на юге – Апеннины, на востоке – Балканы и Карпаты» [Zeune 1808, 24]. Распределение стран в этой системе координат было следующим: «I. Южная Европа. 1) Полуостров Пиренеи – Испания и Португалия; 2) Альпийский полуостров – Италия; 3) Балканский полуостров – Греция; II. Центральная Европа. 4) Карпатская страна – Венгрия с другими славянскими странами; 5) Герциниаланд (введенное Цойне определение. – Ар.У.) – Германия с Данией, а также частью Швейцарии и Голландии; 6) Севенненланд (введенное Цойне определение. – Ар.У.) – Франция с частью Швейцарии и Голландии; III. Северная Европа. 7) Острова Северного моря – Великобритания; 8) Полуостров Балтийского моря – Швеция с Норвегией; 9) Волхонский край (введенное Цойне определение. – Ар.У.) – Россия с Польшей и Пруссией» [Zeune 1808, 32]2. Особый интерес представляет в данном контексте его определение пространства Балканского полуострова как заключенного между 32° и 46° восточной долготы, от 35° до 45° северной широты, размером 6 000 квадратных миль (около 9 656 064 км2), т. е. намного меньше, чем нынешняя территория Греции и Болгарии, и отделенного «от остальной Европы длинной горной цепью Балкан, или бывшей Монс-Альбанус, Скардус, Гемус, которая на северо-западе соединяется с Альпами возле небольшого полуострова Истрия и исчезает двумя рукавами на восток в сторону Черного моря» [Zeune 1808, 54]. В британской географической традиции термин «Балканские горы», давший название региону, окончательно закрепился в 1835 г. [Norris 1999, 10]. Одновременно с этим топонимом в европейской общественной и политической практике использовалось и понятие «Восточная Европа» для обозначения политико-географического пространства, находящегося к востоку от «классической» Европы в привычных для ее жителей границах. Во многом это отразилось на развитии определенных взглядов на события в регионе, доминировавших на протяжении XIX в. в сознании европейских политических элит, став частью географической терминологии европейской и даже российской дипломатии, когда использование вошедшего в понятийный аппарат мировой политики определения «Восточный вопрос» подразумевало, прежде всего, обращение к проблемам, связанным с Балканским полуостровом, Проливами и политикой в отношении Османской империи.
В то же время уже к середине XIX в. начало распространяться новое, сформулированное австрийским дипломатом и этнографом, одним из первых албанологов Иоганном Георгом фон Ханом (1811–1869) (подробнее об этом см. [Gruber 1998]), определение сухопутного геопространства Восточного Средиземноморья и западного Черноморья как Юго-Восточной Европы, охватывающего больший, чем Балканы, регион [Lexikon 2002, 661]3. В определенной степени оно превращалось в альтернативу топониму «Балканский полуостров».
В обоих случаях как местные, так и зарубежные онтологические корни топонимического определения региона обуславливались тремя основными факторами, влиявшими на появление и распространение геопространственного термина, а именно: геоисторический (связавший географическое пространство с исторической памятью или представлениями об историко-культурном наследии); этно-политический (углубленное знакомство с народами региона в момент появления и становления их национальной государственности, что ставило в повестку дня как в академических, так и политических кругах определение этнических и государственных границ отдельных государств, а также вопрос об их связях с Европой); внешнеполитические стратегии местных и зарубежных политических кругов. Одной из первых демонстраций сочетания всех этих факторов стала концепция чешского слависта и болгариста К. Иречека (1854–1918), бывшего в 1881–1882 гг. министром просвещения Болгарии. В соответствии с ней по Балканам проходила условная линия, получившая позже его имя, от албанского г. Лачи к г. Сердика (ныне г. София), затем вдоль Балканских гор к городам Варна и Констанца, на протяжении длительного периода с момента завоевания Греции Римской империей и до разделения этой империи на Западную и Восточную; часть этого пространства находилась в зоне распространения латыни, а другая – в зоне распространения греческого языка (подробнее см. [Jireček 1911]). Эта, на первый взгляд, прежде всего лингвистическая концепция в действительности имела более глубокий смысл, так как объективно касалась в исторической ретроспективе культурно-политического вопроса о принадлежности каждой из частей этого обширного пространства так называемым традиционным Западу и Востоку. Концептуализация геоисторических и этнополитических моделей формирования ряда балканских (юго-восточноевропейских) этносов приобрела характер официальных государственных доктрин в ряде коммунистических государств в 60–70-е годы ХХ в. [Улунян 2019].
В то же время эволюция темы Балкан как «исторического региона» в академическом и общественном дискурсе как на «местном» уровне в самих балканских странах, так и за пределами самого этого пространства была похожа на обсуждения специфики других европейских регионов [Troebst 2010]. Здесь надо отметить дискуссию в европейских странах бывшего Восточного (коммунистического) блока, имевшую не только культурно-историческое, но во многом и политическое содержание, о терминах «Восточная» и «Центральная» Европа [Миллер 2006]. Параллельное сосуществование топонима «Балканы» и географического определения «Юго-Восточная Европа» в последующие десятилетия, вплоть до конца 80-х – начала 90-х годов ХХ в., при доминировании первого из них в политическом и общественном нарративах и практике международных отношений, начало претерпевать серьезные изменения. Причиной этого процесса стали трансформации политической географии (появление новых государств и, соответственно, новых границ) и общественно-политического развития большинства стран региона, начавшиеся с завершением холодной войны. Именно в это время геопространственный концепт «Балканы» стал подвергаться стремительной радикальной диверсификации, а на национальном уровне в ряде посткоммунистических государств активизировались дискурсы, основным содержанием которых было объяснение негативных тенденций в их общественно-политическом развитии и международном положении, обусловленных геопространственной исторической принадлежностью [Улунян 2016].
Параллельно с трансформацией пространственно-географического понятия так называемой Восточной Европы (имеющей негативную политическую коннотацию) и появлением нового подхода к региону в рамках более масштабного геопространственного концепта Центрально-Восточной Европы начал проявляться взгляд на Балканы как на регион в контексте устремлений собственно Балканских государств и восприятия этого региона европейскими странами. Фактически это было отражением как внутриполитических процессов в обществах балканских государств, так и изменений в геостратегическом восприятии бывших «старых регионов» евроатлантическим сообществом, ведущую роль в котором с точки зрения формулирования новых подходов играли его конкретные члены из числа стран, имевших либо глобальное, либо региональное видение перспектив трансформаций традиционных геопространственных массивов.
Появление так называемых ментальных карт «новой политической географии» (подробнее об этом феномене см. [Улунян 2009]), обусловленной определенной представленческой геоисторической, геоэтнической и экономическо-стратегической парадигмой, стало с середины 90-х годов ХХ в. проявлением в более широком смысле изменений политической карты мира и выражением запроса на новое восприятие действительности, что было предопределено необходимостью новой конфигурации регионов. Формулирование как прикладных, так и «дискурсивных» концепций Большого Ближнего Востока, Большой Центральной Азии, проекта Средиземноморского диалога, Союза для Средиземноморья, «Инициатива трех морей» («Балто-Адриатико-Черноморская инициатива»), Балто-Скандии и «Голубой родины» имело для их авторов прагматическое значение. Применительно к Балканскому региону, традиционно воспринимаемому на протяжении столетия в европейской общественно-политической традиции как конфликтогенный и являющийся одновременно «мягким подбрюшьем Европы», процесс «редактирования» этого образа проходил во второй половине 90-х годов ХХ в. параллельно как на академическом, так и международном политическом уровне в условиях развивавшегося «югокризиса» и появления новых государств на постъюгославском пространстве. В первом, академическом, случае знаковым стало появление в 1997 г. книги «Воображая Балканы» известной американской исследовательницы болгарского происхождения М. Тодоровой [Todorova 1997]4. Основной целью работы была попытка развенчания сложившихся стереотипов о Балканах, созданных в Европе, и обладавших негативной коннотацией терминов «балканизм» и «балканизация», что имело немало аналогий с изданной в 1978 г. работой известного американского исследователя арабского происхождения Э. Саида «Ориентализм», целью которой являлось развенчание негативного образа Востока, созданного во «внешнем мире» [Said 1978]. Параллельно с этим процессом ряд ученых из стран региона, в частности болгарские и сербские, оказались инициаторами дискурса в защиту балканской геоисторической субъектности. Среди них, в частности, известный сербский историк М. Йованович, отметивший, что, когда дело доходит до концепции, следует разделять Балканы как полуостров и «как термин, обозначающий пространственно-идентичные черты» [Рафаиловић 2014, 76]. Аргументация в пользу европейской принадлежности Балкан, существующая в сербском академическом нарративе, одновременно соседствует с объяснением причин отказа от нее, что достаточно точно сформулировал академик Д. Семеунович: «Насколько бесспорно то, что географический термин “Балканы” является неотъемлемой частью Европы, так же бесспорно и то, что название “Балканы” и прилагательное “балканский”, а также другие производные от него слова, такие как термин “балканизация”, в остальной Европе используются с уничижительным подтекстом» [Ракић 2018]. В то же время, обращаясь к новой диверсификации Балкан, он отмети, что «если термин “Западные Балканы” призван подчеркнуть отличие от остальной Европы, а также от остальной части Юго-Восточной Европы, то вместе с различием мы должны думать и о сходстве» [Там же]. Сторонники и защитники балканской идентичности в сербском нарративе подчеркивают значимость Балкан как культурного субконтинента Европы [Грчић 2005]. Аналогичный тренд существует в албанском (косовском) академическом дискурсе, когда албанская идентичность рассматривается через призму балканского единого культурно-исторического пространства [Ismajli 2005].
В свою очередь ряд представителей академического сообщества Хорватии, в частности К. Лукетич, обратили внимание на разделение географии и мифологемы Балкан, порожденной их субъективным восприятием [Luketić 2013], а также на важный аспект балканской идентичности южных славян и процесс ее изменения [Sarić 2004].
Румынский кейс балканского дискурса также испытал влияние как общих политических условий, сложившихся после падения коммунизма, так и этно-исторического аспекта, имевшего непосредственное отношение к формулированию концепта этногенеза румын [Grosaru 2013]. В этой связи ряд исследователей буквально в то же время, когда была опубликована работа М. Тодоровой, обращаясь к теме позиционирования Румынии в культурно-политическом геопространстве, утверждали, что «интеграция Румынии в международную систему и “возвращение в Европу” – два лозунга амбициозных, но непроверенных румынских реформаторов» [Gallagher 1997, 63]. В самих интеллектуальных кругах Румынии один из «патриархов» румынской мысли, человек со сложной политической судьбой Н. Джувара [A murit istoricul Neagu Djuvara 2018] в самой теме (не)балканской принадлежности Румынии увидел отчетливое проявление несправедливого отношения к Балканам внешних наблюдателей, игнорировавших ту череду испытаний, которые пришлось пережить народам полуострова, подвергнувшимся завоеваниям, и подчеркивавших именно негативные черты «балканизма». Одновременно Н. Джувара, в частности, обратил внимание на спорность самого определения границ Балкан, что во многом, по его мнению, было обусловлено преимущественным использованием этого геотопонима в мировой практике со времен введения его в европейскую традицию германскими географами [Djuvara 2010]5.
В свою очередь некоторыми болгарскими историками предпринимались попытки расширить понимание Балкан как региона [Mishkova 2012] и, отказавшись от негативных коннотаций «балканизма», подчеркнуть его важность при определении региональной идентичности, что нашло отражение, в частности, в более поздней работе Д. Мишковой «За пределами балканизма: Научная политика создания регионов», изданной в 2018 г. [Mishkova 2018]6.
Наиболее драматичен по своему содержанию как на политическом уровне, так и в академическом дискурсе хорватский взгляд, отвергающий локализацию этой страны на Балканах в силу объективных, как особо подчеркивалось в данной связи, причин. Весьма образно и достаточно точно этот процесс был охарактеризован самими хорватскими учеными, отметившими, что «“Балканы”, будь то неопределенный географический регион Европы или словосочетание, заключающее в себе крайне негативный подтекст, – это то, с чем все хорватские политические круги не желают идентифицироваться, но из-за комплекса культурных, исторических, социальных, лингвистических и этнических связей, которые хорватские земли имеют с юго-восточными соседними странами, с трудом отделяются от них. Таким образом, попытки хорватских политиков откинуть это понятие от Хорватии, отбросить его в сторону своих соседей и уйти от него в безопасное место с помощью таких понятий, как “Центральная Европа”, “Средиземноморье” или “Мост между Европой и Балканами”, не только становится трудно защищать, когда они сталкиваются с различными моментами из прошлых и нынешних реалий Хорватии – они привязывают Хорватию к тем же балканским стереотипам, которые политический дискурс желает проецировать на других» [Stopić 2020, 164].
Процесс дебалканизации ментальной карты исторического геопространства и его «европеизации» отмечался, в свою очередь, греческими исследователями, обращавшими внимание на то, что Балканы, хотя и перестали быть «пороховым погребом», тем не менее не стали примером стабильности и начавшаяся их трансформация в Юго-Восточную Европу представляла собой часть более глубокого процесса, чем лишь попытка смены геотопонима7. Одновременно само понятие «Балканы» в греческом академическом дискурсе (что, вероятно, отражало и восприятие их на уровне греческого национального общественного сознания) иногда отождествлялось с понятием «Юго-Восточная Европа», свидетельством чего могло быть их одновременное использование, как это произошло, например, с названием сборника статей «Балканы, большая буря. Юго-Восточная Европа вчера и сегодня, ретроспектива» [Βαλκάνια, η μεγάλη τρικυμία. 2018]. Довольно часто на официальном уровне в современной греческой традиции наблюдается синонимизация Балкан и Юго-Восточной Европы8.
На международном уровне процесс формулирования выхода из «геоисторического тупика» так называемого балканизма нашел отражение в поисках альтернативы Балканскому геопространству в общественно-политическом дискурсе стран региона и в подчеркивании факта «возвращения» их народов в Европу. На первом этапе этого процесса произошло формирование нового геопространства Балкан в явном внешнеполитическом контексте, что проявилось в появлении геотопонима Западных Балкан, объединяющих бывшие республики Югославии, а ныне независимые государства, с исключением из их числа Словении и Хорватии, но с подключением Албании9. В определенной степени это происходило аналогично тому, как концептуализировался геопространственый проект Большой Центральной Азии, куда наряду с бывшими советскими республиками Средней Азии и Казахстаном был отнесен и Афганистан. Но в отличие от этого расширительного толкования центральноазиатского региона конструирование Западных Балкан было, наоборот, призвано подчеркнуть диверсификацию Балканского политического геопространства, причем не в противопоставлении пока еще не столь активно применявшемуся термину «Юго-Восточная Европа», подразумевавшему более широкое пространственное содержание. Таким образом, сама геопространственная структура Балкан оказалась фрагментирована сразу в двух смыслах. Во-первых, с появлением Западных Балкан не появились одновременно Восточные, и, во-вторых, остался нерешенным вопрос о соотнесении Западных Балкан с географическим понятием Юго-Восточная Европа. Во многом сам европейский тренд устремлений Балканских государств, реализовывавшийся в странах региона на фоне общенациональных дискурсов относительно степени «европейскости» их обществ и попыток найти историческую аргументацию, объясняющую негативные аспекты их развития, оживил обращение к ретроконцептам. В Албании свидетельствами этого стали дискуссии в академических и интеллектуальных кругах о «Линии Феодосия I», в Болгарии – недолгие и практически маргинальные, а затем вообще деактулизированные обращения отдельных представителей интеллектуальных кругов к «Линии Иречека» с усилением философской экспликации концепции балканизма. В Греции же, несмотря на часто используемое определение «Χερσόνησο του Αίμου» («Полуостров крови») применительно ко всем Балканам, последний геотопоним тем не менее продолжает доминировать в языковой и политической традиции, хотя при этом на общественно-политическом и внешнеполитическом уровне делается акцент именно на европейско-средиземноморскую принадлежность страны и ее соответствующие внешнеполитические проекции. В Турции, помимо идеологических построений анатолизма [Улунян 2014], тюркизма в сочетании с исламом, проявились тенденции позитивной актуализации мифоконструкта османизма, подчеркивавшего в утилитарнно-прагматических целях близость Турции и балканских государств, являвшихся ранее частью Османской империи; появился там также и средиземноморско-черноморский геопространственный конструкт «Голубой родины» (Mavi Vatan) [Улунян 2021], в данной версии формируется балкано-средиземноморский концепт позиционирования страны. В Румынии, где на протяжении 60–80-х годов ХХ в. частью официальной идеологии коммунистического режима были концепты протохронизма и дако-римского наследия, в общественно-политическом и академическом нарративе усилились настроения в пользу юго-восточноевропейского позиционирования страны.
В то же время параллельно с процессом условной «дефрагментации» Балкан происходил процесс усиления юго-восточноевропейской консолидации. Примечательным в данном контексте было создание в 1996 г. по инициативе Болгарии региональной межправительственной организации «Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе» (ПСЮВЕ) (The South-East European Cooperation Process – SEECP), в которую вошли все балканские страны, включая частично признанное Косово, а также Словения, Хорватия и Молдова. Ее усилению во многом способствовала образованная при поддержке Европейского Союза и США межправительственная организация «Инициатива сотрудничества Юго-Восточной Европы» (SECI, The Southeast European Cooperative Initiative), включившая как «традиционные» балканские страны, так и те, которые либо «отказались» от балканского геопространственного наследия, либо вообще не входили в Балканский регион: Албанию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Хорватию, Грецию, Венгрию, Молдову, Северную Македонию, Румынию, Словению, Сербию, Турцию и Черногорию. Помимо этого, в число наблюдателей SECI вошли Австрия, Азербайджан, Бельгия, Канада, Франция, Грузия, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Португалия, Испания, Косово, Украина, Великобритания, США и ряд международных организаций.
К середине нулевых годов ХХI в. политическое «картографирование» так называемого мягкого подбрюшья Европы начало претерпевать серьезные изменения как ввиду продолжавших сохраняться в мировом (и прежде всего европейском) общественно-политическом дискурсе крайне негативных коннотаций в отношении геотопонима «Балканы», так и в силу того, что продолжал сохранять дискуссионность вопрос о его границах – при том, что назрела политическая, экономическая, магистрализационная необходимость более широкого подхода к геомассиву, включающему и те государства, которые в силу своего расположения имеют непосредственную связь с Балканами. В этих условиях происходило формирование законченного европейского геопространственного конструкта с объемными географическими массивами, частью которого становилась исключительно географически определяемая локализация – Юго-Восточная Европа, граничащая с другой частью европейского конструкта – Центрально-Восточной Европой и создающая общеевропейский геопространственный комплекс наравне с его Северной, Западной и Южной частями.
Особенности национального нарратива конца ХХ – начала XXI в. в обществах балканских государств выявили общие черты в объяснении необходимости «новой политической географии», что одновременно создавало свое- образное противоречие между сложившейся геоисторической идентичностью и новым пространственно-политическим европейским ориентиром. В свою очередь, примечательно, что инициатива Европейского Союза от 1999 г. была названа Пактом стабильности для Юго-Восточной Европы, а интернет-газета «Balkan Times», спонсировавшаяся Европейским командованием Вооруженных сил США, была переименована в «Southeast European Times» в 2002 г.10
Концептуализация проекта «Юго-Восточной Европы», приходящей на смену исторически сложившемуся, хотя и со спорно-неопределенными географическими границами и существующими в дискурсивных практиках негативными коннотациями Балканскому региону, стала очевидным выходом из своего рода геоисторического тупика, носило в определенном смысле примирительный характер, так как этот геотопоним призван, с одной стороны, минимизировать историческую память о конфликтном характере Балкан, а с другой стороны, подчеркнуть европейскость и расширительное толкование этого пространства, являющего частью более широкого – общеевропейского. В национальных дискурсах, однако, это не создало понятийного единообразия, что нашло отражение как в академическом дискурсе, так и на официальном уровне. В частности, в соответствии с румынским нарративом, в Юго-Восточную Европу вошли Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Кипр, Хорватия, Греция, Косово, Северная Македония, Молдова, Черногория, Румыния, Сербия, Словения и европейская часть современной Турции. Одновременно в нем проявилась своя особенность с определением места Республики Молдова в регионе. Взгляд на Молдову, принимающий во внимание этногенез румын, исходящий из культурно-языковой общности румын и молдаван, позволяет включить ее в Юго-Восточную Европу. Если же ставить во главу угла вхождение Бессарабии в прошлом в Российскую империю, а затем в Советский Союз, напрашивается вывод о ее принадлежности к Восточной Европе. Сама трактовка Юго-Восточной Европы в ее румынском нарративе носит настолько расширительный характер, что наряду с вышеупомянутыми странами позволяет включить в него всю Турцию и даже юго-западный регион Российской Федерации и Грузию [Gruber 1998, 52]. В свою очередь, концептуализация Юго-Восточной Европы в северо-македонском нарративе трактуется в другой конфигурации и в нее включаются в качестве основных членов Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Греция, Северная Македония, Сербия, Хорватия, Черногория, потенциально – Кипр, Молдова, Румыния, Словения, Восточная Фракия, являющаяся частью современной Турции, и полупризнанное Косово. Есть также два «условных» члена – Приднестровье и Северный Кипр. В этой иерархии государственных компонентов, составляющих регион, помимо географического фактора отчетливо прослеживается и политическая составляющая с особой правовой коллизией, связанной с непризнанностью обоих «условных» членов на международной арене. На официальном уровне, однако, существует еще одна интерпретация Юго-Восточной Европы, которая, по сути, отождествляется с Западными Балканами, выступая их синонимом11. Это иерархизация пространства Юго-Восточной Европы проявляется и в болгарском нарративе, принявшем официальную форму в структуре МИД Болгарии, где имеются подразделения, занимающиеся странами этого региона. Согласно официальным болгарским представлениям, помимо самой Болгарии в регион входят Албания, Босния и Герцеговина, Греция, Кипр, Румыния, Северная Македония, Словения, Сербия, Турция, Хорватия, Черногория.
В свою очередь, в албанском нарративе существует отличная от нарративов соседних народов геопространственная иерархия распределения регионов Балкан, Юго-Восточной и Южной Европы. На уровне общественного и политического дискурса нередко происходит отождествление Балкан с Юго-Восточной Европой, в связи с чем в состав последней, по этой версии, входят Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Кипр, Черногория, Греция, Хорватия, Северная Македония, Косово, Сербия и европейская часть современной Турции, т. е. практически все балканские государства и территории. В то же время и в контексте создания «расширительного» геопространственного конструкта, в котором Албания рассматривается как вполне легитимная его часть, имеющая прямое отношение к «классической» Европе, наибольшее внимание уделяется более масштабному сухопутно-морскому массиву Южной Европы. В соответствии с этой концепцией, последняя рассматривается как часть европейского континента с бассейном Средиземного моря и включает три полу- острова – Пиренейский, Апеннинский и Балканский, который соответственно по своей значимости приравнивается к первым двум, «классическим» в общепринятой европейской иерархии. Особо следует отметить, что Южная Европа представляет собой более широкое пространство, чем так называемая Средиземноморская, включающая лишь государства и территории средиземноморского побережья. В состав Южной Европы входят Португалия, Испания, Андорра, Италия, Сан-Марино, Мальта, Ватикан, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Албания, Косово, Северная Македония, Сербия, Черногория, Греция, южная часть Франции, Монако, европейская часть современной Турции и Болгария. Таким образом концепт «Юго-Восточной Европы» оказался в албанском нарративе в «тени» конструкта Южной Европы.
Совсем иную картину представляет греческий нарратив Юго-Восточной Европы, который тесно связан с балканским геопространственным конструктом и фактически отождествляется с ним с небольшой «редактурой», во многом обусловленной дискуссионностью принадлежности ряда стран и территорий к Балканам с точки зрения как внешних наблюдателей, так и официально провозглашаемых в этих странах концепций их принадлежности к определенным частям Европы. Утверждение о том, что Юго-Восточная Европа включает в основном балканские государства, делается с некоторой оговоркой при упоминании ряда государств, и картина региона в «греческой версии» выглядит так: Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Греция, Северная Македония, Черногория, Румыния, Сербия, а также, при определенных условиях, Словения, Италия, Турция, Молдова и Кипр. В греческой версии, в соответствии с непризнанием на официальном уровне Республики Косово, она не упоминается среди членов этого геопространственного конструкта. Доминирование принципа физической географии, в которой Балканы в границах прежде всего Балканского полуострова выступают в роли «сердцевины» региона, во многом обусловливая его наполнение.
Исключением в ряду национальных нарративов Юго-Восточной Европы является сербский, в соответствии с которым подчеркивается применение термина Юго-Восточная Европа как синонима Балкан именно с точки зрения актуализации его политического содержания (во многом из-за негативных коннотаций, связанных с последними). В соответствии с этой точкой зрения регион включает в себя следующие страны: Албанию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Грецию, Северную Македонию, Румынию, Хорватию и Черногорию. Наряду с использованием определения «Балканы» термин «Юго-Восточная Европа» постепенно становится частью общественного и академического дискурсов при обсуждении как региональных, так и национальных проблем, а также начинает активно использоваться на официальном уровне в рамках сотрудничества Сербии с европейскими структурами.
В определенной степени близким по противоречивости, но не по содержанию, является хорватский нарратив Юго-Восточной Европы. С одной стороны, в нем утверждалось, что ее геопространство охватывало территорию к югу и востоку от Паннонской равнины, окруженную частями Адриатического, Иони- ческого, Эгейского, Мраморного и Черного морей, и включало Албанию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Черногорию, Грецию, Косово, Румынию, Северную Македонию и Сербию, а также при определенных условиях Кипр, Молдову, Восточную Фракию как часть современной Турции и юг Бессарабии как часть Украины. С другой ‒ на официальном уровне, хотя в политическом дискурсе Хорватия выступает как составная часть Юго-Восточной Европы, одновременно в политико-географическом смысле подчеркивается ее принадлежность центральноевропейскому и средиземноморскому пространствам. Примечательным в данном контексте становится боснийский нарратив Юго-Восточной Европы. В нем подчеркивается постепенный отказ от «скомпрометировавшего» себя геотопонима Балканы. Более нейтральный термин «Юго-Восточная Европа» постепенно начинает его заменять в терминологическом отношении, но при этом не является географическим понятием, поскольку по боснийской версии в Юго-Восточную Европу включаются Румыния и Украина.
Однако наиболее детально определение Юго-Восточной Европы проработано в словенском нарративе, что во многом связано с позиционированием этой бывшей югославской республики, а ныне независимого государства как прежде всего связанного именно с европейской идентичностью. В этом контексте становится понятна амбивалентность дефиниции этого пространства в новейшей традиции словенского как академического, так и общественно-политического дискурса, когда оно выступает в роли «географического субрегиона Европы», основную часть которого составляют Балканы и ряд соседних с ними регионов. Причисляя однозначно ряд государств (а именно: Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Черногорию, Северную Македонию и Сербию) к числу находящихся в Юго-Восточной Европе, словенский нарратив выделяет несколько стран, которые имеют «альтернативное» позиционирование – будучи частью юго-восточноевропейского пространства, они одновременно входят и в другие регионы. Таковыми считаются Словения и Хорватия, являющиеся частью Центральной Европы, Молдова как часть Восточной Европы, Кипр как входящий в Западную Азию, Греция как член более широкого региона Южной Европы, европейские территории современной Турции, являющиеся также частью «широкой» Южной Европы, но одновременно входящие вместе с остальными частями Турции в Западную Азию. При этом в самом словенском нарративе Словения рассматривается либо как форпост на границах Юго-Восточной Европы, либо как мост между ней и другими ближайшими регионами12.
Парадокс складывавшейся на протяжении последних десятилетий ситуации с позиционированием балканских стран в системе геопространственных координат изменившейся после холодной войны и распада Югославии политической географии, включая поиск смыслового «обеспечения» новых реалий, заключался в стремлении занять свое место в объединенной Европе. Новая политическая география оказалась альтернативой старой традиционной культурно-исторической принадлежности к скомпрометировавшему себя геотопониму «Балканы». В то же время интерпретация содержания более широкого геопространства Юго-Восточной Европы, призванного объединить на уровне региона большее количество государств, так и не смогло минимизировать свою балканскую составляющую и дало основания для дискуссий о принадлежности конкретных стран к юго-восточноевропейскому конструкту. Таким образом, европейский вызов и запрос на то, чтобы стать частью Европы (вернуться в Европу) сталкивается с особенностями национальной исторической памяти и существующего геополитического образа.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
МИД – Министерство иностранных дел.
США – Соединенные Штаты Америки.
1 Подробнее о германоязычной географической традиции в XIX–XX в. см. в [Schultz 2022].
2 Таким образом, в соответствии с его классификацией Срединная/Центральная (Mitteleuropa) Европа состояла из трех основных частей: Karpatenland, т. е. карпатских земель (нижняя часть бассейна р. Дунай), Hercinialand – «сердцевинных земель» (так называемые традиционные германские земли и весь бассейн р. Рейн) и Sevennenland (по названию гор на юго-востоке Франции) [Sinnhuber 1954, 21].
3 В 2016 г. вышло второе расширенное издание этого академического справочника.
4 Степень значимости работы была подтверждена ее переводом на основные европейские языки и все языки балканских государств. Книга многократно переиздавалась на английском и болгарском языках.
5 Эта статья впервые появилась в апреле 1997 г. в журнале «Dilema». Ее перепечатка в 2010 г. свидетельствовала об актуальности для Румынии затронутой темы.
6 Примечательна в данной связи рецензия, опубликованная в албанской прессе под названием «Наследие “балканизма” заслуживает нового взгляда» – она подчеркивала именно положительные характеристики этого феномена как элемента региональной и даже этнической идентичности [Junes 2019].
7 Одной из работ, посвященных этой теме, был сборник статей «От Балкан до Юго-Восточной Европы. Вызовы и перспективы XXI века», изданный в 2011 г. греческими исследователями [Από τα Βαλκάνια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 2011].
8 См., например [Π. Μαρινάκης 2023].
9 Сомнительным и явно политизированным выглядит утверждение В. В. Пушкаревой о том, что «сам термин Западные Балканы появился в конце 90-х годов ХХ в., когда исчерпал себя региональный подход в целом к Юго-Восточной Европе» [Пушкарева 2022, 92]. В действительности «конкуренция» между концептами Балкан и Юго-Восточной Европы при явно негативном восприятии первого из них в мировом общественном мнении, а также утилитарно-политический и экономический подходы в региональной политике Европы, привели к появлению геополитонима «Западные Балканы», который как самостоятельный конструкт стал переходным этапом к более широкому пространству Юго-Восточной Европы.
10 В марте 2015 г. она прекратила существование.
11 См. заявление Министра иностранных дел Республики Северная Македония Б. Османи [Османи 2021].
12 Суть проблемы восприятия собственной политико-географической идентичности словенским обществом достаточно точно сформулировал словенский ученый-географ профессор А. Госар: «Несколько десятилетий назад словенские географы были недовольны тем, что видные авторы и профессиональные издания отнесли территорию Словении в Югославии (вместе с другими коммунистическими странами) к Восточной Европе. После обретения независимости мы были недовольны тем, что во многих учебниках географии территория нашей страны по-прежнему включалась в Юго-Восточную Европу. Дискомфорт в профессии вызывает то, что англосаксонская география помещает нас (вместе с венграми, чехами, словаками и поляками) в область называемой Восточно-Центральная Европа. Этим они хотят подчеркнуть коммунистическое наследие, а также трудный и долгий путь перехода к демократии и рыночной экономике всех упомянутых стран. Было бы более “близко нашему сердцу” разместиться в Центральной Европе, где мы были бы в компании немцев, австрийцев и швейцарцев. Но нас, конечно, радует, что Словения никогда не встречается в списке стран региона Западных Балкан (современная политико-пространственная конструкция)» [Gosar 2007, 14].
About the authors
Artyom A. Ulunyan
Institute of World History оf Russian Academy оf Sciences
Author for correspondence.
Email: draugab345@google.com
DSc. (History), Chief Research Fellow
Russian Federation, MoscowReferences
- A murit istoricul Neagu Djuvara, unanim recunoscut drept unul dintre cei mai im-portanți intelectuali români. De la istorie și diplomație la jurnalism și sport, o personali-tate complexă//Mediafax.ro, 25.01.2018. URL: https://www.mediafax.ro/social/a-murit-istoricul-neagu-djuvara-una-dintre-cele-mai-indragite-personalitati-ale-romaniei-16959230 (accessеd: 01.10.2023). (In Rom.)
- Apó ta Valkánia sti Notioanatolikí Evrópi. Proklíseis kai prooptikés ston 21o aióna. Epim. tou I. Armakóla, TH P. Ntókou. Athína, SIDERIS I. Publ., 2011. (In Greek)
- Baramova M. Two Hundred Years on the Road: The Term «Balkan Peninsula» (1808–2008). H/SOZ/KULT. Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswis-senschaften. 2008. URL: https://www.hsozkult.de/event/id/event-59990 (accessed: 01.10.2023).
- Djuvara N. Sîntem ori nu în Balcani? Dilema veche, 21.04.2010. URL: https://dilemaveche.ro/sectiune/dileme-on-line/sintem-ori-nu-in-balcani-610077.html (accessed: 01.10.2023). (In Rom.)
- Gallagher T. To Be or Not to Be Balkan: Romania’s Quest for Self-Definition. Daedalus, 1997, vol. 126, no. 3.
- Gosar A. Slovenija v Jugovzhodni Evropi: evropska trdnjava ali mostišče? Geografski obzornik, 2007, let. 54, št. 1. (In Sloven.)
- Grčić M. Balkan kao kulturni subkontinent Evrope. Glasnik Srpskog geografskog društva – Bulletin de la Société serbe de géographie, 2005, t. 85, no. 1. (In Serb.)
- Grosaru F.-E. Europa de Sud-Est: complexul regional de securitate european în care se perpetuează conflicte îngheţate. Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București: Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei [CTEA], 2013. (In Rom.)
- Gruber S. Austrian Contributions to the Ethnological Knowledge of the Balkans Since 1850. Ethnologia Balkanica, 1998, no. 2.
- Ismajli R. Studime për historinë e shqipes në kontekst Ballkanik. Prishtinë, Akademia e shkencave dhe e arteve e Kosovës Publ., 2015. (In Alb.)
- Jireček K. Geschichte der Serben. Erster Band (bis 1371). Gotha, Friedrich Andreas Perthes Publ., 1911.
- Junes T. Trashëgimia e «Ballkanizmit» meriton një vështrim të ri. Reporter.al. 09.04.2019 URL: https://www.reporter.al/2019/04/09/trashegimia-e-ballkanizmit-meriton-nje-veshtrim-te-ri/ (accessed: 01.10.2023). (In Alb.)
- Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Hösch E., Nehring K., Sundhaussen H. (Hrsg.) Stuttgart: Böhlau / UTB, 2002.
- Luketić K. Balkan: od geografije do fantazije. Zagreb, Algoritam Publ., 2013. (In Croat.)
- Miller A. I. «Novaya» Vostochnaya Yevropa: politika i geopolitika. Rossiya i so-vremennyy mir, 2006, no. 3. (In Russ.)
- Mishkova D. The Politics of Regionalist Science: The Balkans as a Supranational Space in Late Nineteenth to Mid-Twentieth Century Academic Projects. East Central Europe, 2012, vol. 39.
- Mishkova D. Beyond Balkanism: The Scholarly Politics of Region Making. Abingdon, Routledge Publ., 2018. doi: 10.4324/9781351236386.
- Norris D. In the Wake of the Balkan Myth. Questions of Identity and Modernity. London, Palgrave Macmillan Publ., 1999.
- Osmani: Zapaden Balkan ili kako što poveče sakam da go imenuvam Jugoistočna Evropa ne e izoliran ostrov tuku e vo srceto na Evropa. Denešen vesnik, 28.10.2021. URL: https://denesen.mk/osmani-zapaden-balkan-ili-kako-shto-povekje-sakam-da-go-imenuvam-jugoistochna-evropa-ne-e-izoliran-ostrov-tuku-e-vo-srceto-na-evropa/ (date of access: 01.10.2023). (In Maced.)
- P. Marinákis: I apopsiní synántisi epivevaiónei ton igetikó rólo tis Elládas se Valkánia kai Notioanatolikí Evrópi. Capital.gr. 21.08.2023. URL: https://www.capital.gr/politiki/3733159/p-marinakis-i-apopsini-sunantisi-epibebaionei-ton-igetiko-rolo-tis-elladas-se-balkania-kai-notioanatoliki-europi/ (access date: 01.10.2023). (In Greek).
- Pushkareva V. V. Zapadnyye Balkany v rusle politiki atlantizma. Vestnik Udmurtskogo Universiteta. Sotsiologiya. Politologiya. Mezhdunarodnyye otnosheniya, 2022, t. 6, vyp. 1. (In Russ.)
- Rafailović J. Miroslav Jovanović: straživati, pisati i promišljati Balkan. Godišnjak za društvenu istoriju, 2014, no. 2–3. (In Serb.)
- Rakić Ž. Niko u Evropi ne želi da bude Balkan. Razgovor nedelje: prof. dr. Dragan Simeunović. Politika, 25.11.2018 URL: https://www.politika.rs/scc/clanak/416552/Niko-u-Evropi-ne-zeli-da-bude-Balkan (access date: 01.10.2023). (In Serb.)
- Said E. Orientalism. New York, Pantheon Books Publ., 1978.
- Sarić L. Balkan Identity: Changing Self-Images of the South Slavs. Journal of Multi-lingual and Multicultural Development, 2004, vol. 25, no. 5–6.
- Schultz H.-D. Raumkonstrukte der klassischen deutschsprachigen Geographie des 19. Geschichte und Gesellschaft. 20. Jahrhunderts im Kontext ihrer Zeit. Ein Überblick, 2022, 28. Jahrg., H. 3.
- Sinnhuber K. A. Central Europe: Mitteleuropa: Europe Centrale: An Analysis of a Geographical Term. Transactions and Papers. Institute of British Geographers, 1954, no. 20.
- Stopić Z., Djurdjevich G. No escape from Balkan: The «Balkans» in the contemporary Croatian scientific thought. bā’ěrgàn yánjiū (dì yī jí) – South East European Studies, 2020, no. 1.
- Todorova M. Imagining the Balkans. New York, Oxford University Press Publ., 1997.
- Troebst S. «Geschichtsregion»: Historisch-mesoregionale Konzeptionen in den Kulturwissenschaften. 12.03.2010 Europäische Geschichte Online. URL: http://ieg-ego.eu/de/threads/theorien-und-methoden/geschichtsregion/stefan-troebst-geschichtsregion (access date: 01.10.2023).
- Ulunyan Ar. A. Novaya politicheskaya geografiya: pereformatiruya Yevraziyu, istori-zirovannyye zarubezhnyye geokontsepty, konets XX v. – nachalo XXI v. M.: Institut vseobshchey istorii RAN Publ., 2009. (In Russ.)
- Ulunyan Ar. A. Obshchenatsional’nyy turetskiy diskurs «geoistoricheskogo konstruirovaniya» vo vneshnepoliticheskoy mysli sovremennoy Turtsii. Istoricheskaya geografiya, ed. I. G. Konovalova. Moscow, Akvilon Publ., 2014, t. 2. (In Russ.)
- Ulunyan Ar.A. «Liniya Feodosiya I»: Istoricheskaya geografiya v sovremennoy albanskoy obshchestvenno-politicheskoy publitsistike. Istoricheskaya geografiya, ed. I. G. Konovalova, Moscow, Akvilon Publ., 2016, t. 3. (In Russ.)
- Ulunyan Ar. A. Geoistoricheskiye komponenty etnopoliticheskikh kontseptsiy v ideologicheskikh doktrinakh kommunisticheskikh rezhimov Rumynii, Bolgarii i Albanii (konets 60-kh – 70-ye gody XX v.). Istoricheskaya geografiya, ed. I. G. Konovalova, Moscow, Akvilon Publ., 2019, t. 4. (In Russ.)
- Ulunyan Ar. A. Geostrategicheskiy konstrukt «Golubaya rodina» (Mavi Vatan) v kontekste obshchey traditsii geoistoricheskikh kontseptov Turetskoy respubliki. Istoricheskaya geografiya, ed. I. G. Konovalova, Moscow, Akvilon Publ., 2021, t. 5. (In Russ.)
- Valkánia, i megáli trikymía. I notioanatolikí Evrópi tou chthes kai tou símera, mía anadromí, epim. tou A. T. Dimítri. Athína, KASTALIA Publ., 2018. (In Greek).
- Zeune A. GEA. Versuch einer wissenschaftlichen Erdbeschreibung von August Zeune, Direktor der königlichen Blindenanſtalt, Doktor der Weltweisheit, Mitglied der Je-naischen Mineralogiſchen Geſellſchaft. Berlin, bei L. W. Wittich. 1808.