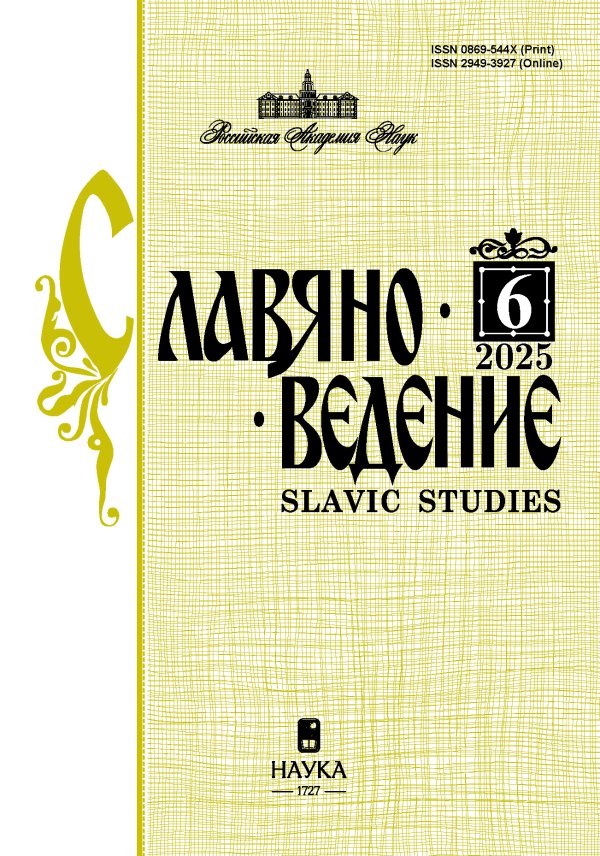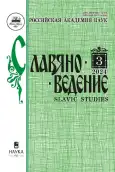Фотографический альбом Боснии и Герцеговины П. П. Пятницкого (новые сведения)
- Авторы: Мельчакова К.В.1
-
Учреждения:
- Институт славяноведения Российской академии наук
- Выпуск: № 3 (2024)
- Страницы: 92-107
- Раздел: Из истории славистики
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/262800
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24030078
- EDN: https://elibrary.ru/WYZFYD
- ID: 262800
Полный текст
Аннотация
В статье представлены новые данные, проливающие свет на историю создания «Фотографического сборника церковных древностей и типов славян Европейской Турции. Герцеговина и Босния 1867 года. П. Пятницкого» (СПб., 1868). Альбом получил высокую оценку у искусствоведов и является результатом работы фотографической экспедиции П. П. Пятницкого по Боснийскому вилайету в 1865–1867 гг. О фотографе-самоучке П. П. Пятницком и его пребывании в Боснии и Герцеговине известно довольно мало. Скудность сведений привела к тому, что в историографии укоренился ряд ошибок. В ходе работы с архивами российских консульств в Мостаре (Герцеговина) и Сараеве (Босния) удалось выявить документы, содержащие информацию о поездке П. П. Пятницкого в Боснийский вилайет: уточнить вопросы о финансировании и составе экспедиции, датах пребывания фотографа в регионе. Материалы директора Азиатского департамента МИД П. Н. Стремоухова позволили внести ясность в вопросы организации печати альбома.
Полный текст
В 1868 г. саратовский фотограф-любитель Пётр Павлович Пятницкий преподнес императрице Марии Александровне в подарок «Фотографический сборник церковных древностей и типов славян Европейской Турции. Герцеговина и Босния 1867 года». Этот альбом содержал снимки, сделанные им во время путешествия по землям Боснийского вилайета Османской империи.
Долгое время имя Петра Павловича Пятницкого привлекало внимание исключительно искусствоведов, историков фотоискусства и саратовских краеведов [Бархатова 2009, 141; Максимов, Сафронов 2004, 128–141; Морозов 1953, 13–14; Самохвалова 2013; Сафронов, Максимов 2003, 23]. Поскольку о самом фотографе и его поездке в Боснийский вилайет сохранилось довольно мало сведений, в историографии укоренился ряд ошибочных представлений о фотографической экспедиции в эти края. Одним из них является утверждение о том, что Пятницкий совершал путешествие в компании слависта, автора путевых заметок о Боснии и Герцеговине 1 и первого управляющего российским консульством в Сараеве (1857–1858 гг.) Александра Федоровича Гильфердинга. В работах большинства исследователей присутствует анахронизм, так как Гильфердинг находился в Боснии и Герцеговине за десять лет до Пятницкого [Бархатова 2009, 141; Максимов, Сафронов 2004, 128; Михайлова 2020, 193; Самохвалова 2013]. Существуют и труды, в которых высказывается предположение о повторном визите Гильфердинга в Боснию для сопровождения фотографической экспедиции Пятницкого [Черных 2017; Черных 2021]. Так, в монографии А. В. Черных «Научная деятельность и публицистика А. Ф. Гильфердинга (1831–1872), посвященные южным, западным и восточным славянам» (Елец, 2021) обнаруживается целый раздел «Путешествие П. П. Пятницкого и А. Ф. Гильфердинга по Герцеговине и Боснии в 1866–1867 гг.», где автор, на основе опубликованных материалов, работ предшественников и опираясь на косвенные источники, выдвинул ряд предположений относительно маршрута движения Пятницкого, целях его экспедиции и вероятности участия в ней Гильфердинга, а также написал о сверхсекретном характере путешествия фотографа и его разведывательной миссии [Черных 2021, 7–62]. Многие из соображений, озвученных А. В. Черных, являются ошибочными.
В последнее время возрос интерес сербских и боснийских исследователей к фотографическому наследию Пятницкого. По снимкам, сделанным фотографом, реконструируются элементы народного костюма, интерьеры монастырей.
Мне пришлось неоднократно обращаться к истории создания фотографического альбома, посвященного Боснии и Герцеговине [Мельчакова 2019, 147– 153, 200–204; Мельчакова 2020; Мельчакова 2018]. В ходе работы в АВПРИ удалось выявить в наследии российского МИД ранее не введенные в научный оборот сведения о поездке П. П. Пятницкого в Боснию и Герцеговину, которые позволили дополнить имеющиеся знания и внести уточнения к опубликованным ранее данным. Цель статьи – представить известные факты о визите Пятницкого в Боснийский вилайет, имеющие документальное подтверждение.
Источниковая база исследования включает сам альбом Пятницкого, материалы периодической печати 1860–1870 гг. и неопубликованные документы, хранящиеся в АВПРИ и ЦГИА СПб. Это материалы Санкт-Петербургского отделения Московского славянского благотворительного комитета, российских консульств в Сараеве (Босния) и Мостаре (Герцеговина) и Азиатского департамента МИД России.
Биография П. П. Пятницкого практически не изучена. Наиболее информативна статья саратовской исследовательницы Н. Самохваловой, которая дает следующие данные: Петр Павлович Пятницкий (01.05.1832–25.02.1882) родился в Саратове в дворянской семье чиновника 9-го класса, члена Саратовского провиантского комиссариата. Крестным отцом Петра был саратовский губернатор Ф. Л. Переверзев. Позже П. П. Пятницкий являлся гласным губернского земского собрания, депутатом Саратовского дворянского собрания, членом губернского статистического комитета и Саратовского речного яхт-клуба [Самохвалова 2013]. Проживал в Саратове на ул. Немецкой 2 в доме Полякова (Цукшвердт) [Сафронов, Максимов 2003, 23]. Исследователи саратовского фотоискусства Максимов Е. К. и Сафронов Ю. А. характеризовали Пятницкого следующим образом: «По отзывам современников, он считался честным деятелем, всегда радушным, любезным и предусмотрительным. В общении вызывал симпатию, являлся приятнейшим собеседником. Все, знавшие Петра Павловича, отмечали его “страстную любовь к фотографии”» [Максимов, Сафронов 2004, 128]. Пятницкий не был профессиональным фотографом, однако в своем увлечении добился значительных успехов.
В 1860-е годы Боснийский вилайет представлял собой отдаленный от центра славянский уголок Османской империи, где бок о бок проживали мусульмане, православные и католики. Основная масса населения пребывала в бедности, регион периодически сотрясали волнения. В середине 1860-х годов османские власти начали приводить в исполнение реформы османизма в крае [Олюнин 2006; Aličić 1983]. Идею совершить путешествие в Боснию и Герцеговину подал Пятницкому российский консул в Мостаре Валериан Владимирович Безобразов (1859 г. – сентябрь 1866 г.). 1 августа 1865 г.3 он отправился в 29-дневный отпуск в Россию4. По неустановленным обстоятельствам ему пришлось задержаться на родине (к месту службы он вернулся только 8 декабря 1865 г.)5. Во время отпуска и состоялась его встреча с Пятницким. Об этом известно из письма консула к директору Азиатского департамента МИД Петру Николаевичу Стремоухову: «С согласия вашего превосходительства в октябре 1865 года, по приезде моем в деревню, я сделал г. Пятницкому означенное предложение, в присутствии его братьев и моих родных, предупредив его, что от министерства он не может рассчитывать ни на какое вспоможение»6. Фотограф-любитель согласился на эти условия.
Все экспедиционные расходы лежали на плечах самого Пятницкого. По протекции Стремоухова российский МИД организовал беспошлинную доставку оборудования и оказал содействие с оформлением документов для пересечения границ7. Специально для экспедиции Пятницкий выписал из Лондона дорогостоящий усовершенствованный фотографический аппарат8.
Точная дата приезда Пятницкого в Боснийский вилайет неизвестна. Согласно одному из донесений российского консула в Мостаре Николая Александровича Иларионова (28.09.1866 – февраль 1872 гг.), Пятницкий прибыл в Герцеговину со своим помощником Буссе (к сожалению, его имени так и не удалось установить) в ноябре 1865 г.9 Поскольку Иларионов тогда в Герцеговине еще не работал, вполне возможно, что он мог ошибиться. Есть вероятность, что фотограф-любитель приехал в Мостар вместе с Безобразовым в начале декабря. Также известно, что экспедицию пришлось прервать. В частном письме из Мостара 29 апреля 1866 г. Безобразов сообщил Стремоухову, что Пятницкий на короткое время отправился в Россию для устройства дел после внезапной кончины брата10. К тому моменту фотограф уже успел сделать ряд снимков, скорее всего в Герцеговине: «В настоящее время г. Пятницкий имеет уже довольно порядочную коллекцию видов, но еще не отпечатанных», – написал Безобразов11. 11 мая 1866 г. Пятницкий доставил в Россию упомянутое выше письмо Стремоухову. Так состоялось их очное знакомство.
Летом 1866 г. фотограф снова поехал в Герцеговину. В фондах АВПРИ сохранился курьерский паспорт, выданный Пятницкому 27 июля 1866 г. в Санкт-Петербурге. В нем было указано следующее: «Объявляется через сие всем и каждому, кому о том ведать надлежит, что показатель сего титулярный советник Пётр Пятницкий отправляется курьером через Вену, Триест и Рагузу в Мостар. Того ради дружебно просим все высокие области и приглашаем каждого, кому сие предъявится, нашим же воинским и гражданским управителям всемилостивейше повелеваем титулярного советника Пятницкого не только свободно и без задержания везде пропускать, но и всякое благоволение и споможение ему оказывать»12. Судя по штампам, территорию Российской империи фотограф покинул 30 июля 1866 г. В сентябре Пятницкий уже был в Мостаре. 10 сентября 1866 г. российский консул в Сараеве Евграф Романович Щулепников (1858–1868 гг.) сообщил в МИД о распространении в Боснийском вилайете эпидемии холеры и устройстве десятидневного карантина по всей границе. Въезд путешественников был возможен только через Брод13. Очевидно, Пятницкий успел попасть в Герцеговину до введения карантинных мер. 26 сентября 1866 г. Безобразов в донесении № 99 переслал в Азиатский департамент уничтоженный курьерский паспорт фотографа14.
Пятницкий и Буссе, по словам Безобразова, проживали в его доме на полном обеспечении и никаких дополнительных расходов не имели15. В конце сентября 1866 г. В. В. Безобразов передал свой пост Н. А. Иларионову и поручил ему заботы о миссии Пятницкого. Никаких официальных инструкций относительно фотографа МИД не отправлял, российские дипломаты действовали по личной просьбе Стремоухова16. О пребывании Пятницкого в Боснийском вилайете чрезвычайный посланник Российской миссии в Константинополе Николай Павлович Игнатьев узнал только в ноябре 1866 г., когда фотограф столкнулся с трудностями17.
5 ноября 1866 г. Иларионов направил Игнатьеву донесение № 145, где известил начальство о сложностях, которые ставили под угрозу работу фотографической экспедиции. Пятницкий обратился к консулу с просьбой выхлопотать для него официальное разрешение на свободные поездки по Герцеговине с целью снятия фотографических видов. Губернатор Герцеговины отказал и рекомендовал обратиться к генерал-губернатору (вали) вилайета Топал Шериф Осман-паше. Нота на имя Осман-паши была направлена в Сараево. Вали дал разрешение только на съемку в окрестностях Мостара (Буна и Благай) и в монастыре Житомыслич. «На поездки же г. Пятницкого по отдаленным местам Герцеговины Осман-паша никак не соглашается, говоря, что он боится, вследствие известного фанатизма ее жителей, различных неприятностей, могущих ему приключиться и потому никак не желает принимать на себя ответственности за них. При сем он изъявил полную готовность снабдить г. Пятницкого надлежащею буюрунтией (приказ, распоряжение вали. – К.М.) для свободного путешествия по Боснии. Паша прибавил также, что если г. Пятницкий получит разрешение из Константинополя, то он со своей стороны сочтет приятным для себя долгом дать ему всевозможные облегчения для исполнения его предприятия, тем более, что тогда он будет поставлен вне всякой ответственности», – доложил Иларионов в Константинополь18.
В частной беседе Осман-паша сообщил сараевскому консулу Е. Р. Щулепникову о распространяющихся по вилайету слухах о том, что Пятницкий является тайным русским агентом, который прибыл для подготовки местных христиан к восстанию. Начальник внешних дел вилайета, Али-бей, рассказал сараевскому консулу, что с момента пересечения границы за Пятницким был установлен строгий надзор. Хотя подозрения в шпионаже и не подтвердились, вопрос о свободном перемещении фотографа надлежало решать в Константинополе19. Причину опасений местных чиновников Иларионов объяснил начальству следующим образом: «Главное, что возбудило особенно подозрение турецкой власти – это та обстановка, которую дал г. Безобразов г. Пятницкому по его приезде в Мостар. Он поместил в доме императорского консульства как г. Пятницкого, так и его товарища (Буссе. – К.М.), со всеми их машинами и дал дозволение г. Пятницкому носить форменную фуражку, присвоенную только императорским консулам и чиновникам консульств. Совершенно естественно, что у турецкой власти, очень хорошо знающей, что подобные форменные фуражки носят только агенты императорского министерства, должно было родиться подозрение, что и г. Пятницкий точно так же принадлежит к числу их. Кроме того, по всей вероятности, в разговорах своих как с турецкой властью, так и с местными деятелями, г. Безобразов позволял себе делать намеки на будто бы официальный характер приезда в Герцеговину г. Пятницкого, потому что из разговоров моих как с турками, так и с христианами, я мог понять, что они считали г. Пятницкого за чиновника императорского министерства, получающего вознаграждение от него за свои труды»20.
Монастырь Житомыслич. Ковчег (дарохранительница) серебряный в виде церкви с кипарисными в окнах изображениями Ликов Святых21.
Таким образом, действия Пятницкого и Безобразова не только посеяли подозрения, но и бросили тень на российское консульство в Мостаре. Важно отметить, что в это время активную деятельность в регионе вели Сербия, Черногория и Австрия, каждая из которых разрабатывала планы включения территорий Боснии и Герцеговины в состав своих земель. По вилайету были раскинуты сети тайных агентов. Православные монастыри Герцеговины, представлявшие главный интерес для Пятницкого, зачастую становились центрами организации повстанческой деятельности. При Осман-паше усилился полицейский надзор в крае.22
Монастырь Житомыслич. Церковные вещи: Лампады серебряные филограновой работы с изображением Св. ликов; мощехранительница серебряная чеканной работы; блюдо для освящения хлебов (пятихлебница) с тремя чашами. Работано в Сараеве XVI столетия.
Ожидая решения дела, П. П. Пятницкий направился в герцеговинский монастырь Житомыслич23. На данный момент известно о 18 снимках, сделанных там. Среди них общий вид монастыря и расположенное рядом село, церковь, монашеские кельи, священник, иконостас, предметы церковной утвари и фрески. Ввиду возрастающего интереса коллег из Сербии, Боснии и Герцеговины к этим материалам, в приложении к статье публикуется список известных на данный момент снимков из монастыря Житомыслич24.
В планах у Пятницкого была большая поездка по Герцеговине и Старой Сербии с целью «снятия фотографических видов» православных церквей и монастырей25. Он просил российский МИД посодействовать ему в осуществлении задуманного. В ожидании решения вопроса, Пятницкий и Буссе отправились в Сараево26.
17 января 1867 г. Игнатьев докладывал Стремоухову, что дело удалось решить и необходимые бумаги отправлены Иларионову. По поводу произошедшего он добавил: «Если бы императорская миссия была предупреждена о сем своевременно и если бы г. Пятницкий не подал повода местным властям подозревать, что он чиновник, отправленный правительством с официальным поручением осматривать сербские древности, церкви и монастыри, то вероятно он не встретил бы никаких особых затруднений. Как бы то ни было, я надеюсь, что это дело не будет иметь дальнейших последствий и что ныне можно считать его оконченным»27. В феврале 1867 г. Иларионов доложил в Константинополь и Санкт-Петербург, что переслал визириальное письмо, предписывающее Осман-паше не препятствовать Пятницкому и Буссе в путешествиях и фотографической съемке. О дозволении султана Щулепников уведомил членов экспедиции. На тот момент времени они находились в Сараеве28.
Долгое пребывание в Боснии и Герцеговине фотографа-путешественника оказалось затратным мероприятием. Пятницкий обращался за помощью к старшей сестре Анне Павловне (1825–?), вдове действительного статского советника, губернского секретаря В. А. Тинькова (1796–?). Доподлинно известно о двух случаях пересылки ею денежных средств в Боснию и Герцеговину на нужды брата. Это достаточно большие суммы: 782 руб. в апреле и 1 200 руб. в мае 1867 г.29 (для сравнения годовое жалование вице-консула в Мостаре в 1868 г. составляло 1 960 руб.30). Доставкой средств занимался Азиатский департамент МИД. Деньги отправлялись в министерство финансов, там выписывались векселя, которые пересылали в консульства. На месте Пятницкий получал векселя в иностранной валюте: 2 555 франков 27 сантимов в первом случае и 158 фунтов стерлингов 3 шиллинга и 7 пенсов – во втором31. Расписка в получении такого векселя от 21 мая 1867 г. в Сараеве – последняя на данный момент известная весточка от Пятницкого из Боснии32. Точная дата завершения фотографической экспедиции в вилайете не установлена. На родину Пятницкий вернулся не позднее октября 1867 г.33 Таким образом, в общей сложности фотограф пробыл в Боснии и Герцеговине более года.
Герцеговина. Селячки шумского племени, Требинского округа, в праздничной одежде.
Герцеговина. Селяк-староста (кнез), шумского села, в праздничной сельской одежде.
Основываясь на содержании фотографического альбома можно перечислить местности, в которых побывали Пятницкий и Буссе: территории, на которых проживало банянское племя (земли между городами Никшич и Билеча на юго-востоке Герцеговины, ныне Черногория), герцеговинский монастырь Косиерово, располагавшийся на берегу реки Требишница (уникальность этих снимков заключается в том, что монастыря там больше нет – в 1966 г. он был перенесен в черногорский город Петровичи), монастырь Дужи и Требине (восточная Герцеговина), герцеговинский монастырь Добричево (недалеко от города Билеча)34, герцеговинский монастырь Пива (ныне Черногория), монастырь Житомыслич (центральная часть Герцеговины, недалеко от Мостара), Мостар, Сараево и Боснийская Крайна. Точной карты перемещений фотографа составить пока не представляется возможным. Очевидно, что в первый визит Пятницкий успел немного поездить по Герцеговине, второй начал с Житомыслича, затем переместился в Боснию, далее, вероятно, завершил осмотр Герцеговины. Снимков Старой Сербии, куда намеревался отправиться фотограф, в его наследии обнаружить не удалось. Таким образом, предположения А. В. Черных о маршруте фотографа не верны [Черных 2021, 22–31]. Также нет никаких свидетельств о том, что в путешествии его мог сопровождать А. Ф. Гильфердинг35.
По возвращении в Россию встала проблема с изданием материалов экспедиции. В этом деле Пятницкому оказал содействие П. Н. Стремоухов. В начале ноября 1867 г. он направил секретарю императрицы Марии Александровны П. А. Морицу прошение принять под покровительство альбом Пятницкого и позволить поставить на нем посвящение государыне: «Один из наших соотечественников г. Пятницкий, движимый любознательностью и чувством живейшего участия к историческим судьбам единоверцев наших в Турции, решился в прошлом году предпринять поездку на собственный счет в Боснию и Герцеговину с целью ознакомиться с древними памятниками этих двух провинций и снять фотографические виды с тех из них, которые особенно замечательны по своему самобытному характеру […]. Путешествие г. Пятницкого по двум помянутым областям Турции сопряжено было с крайними затруднениями и лишениями, подвергаясь почти на каждом шагу опасности быть схваченным или убитым, вследствие крайне возбужденной при настоящих обстоятельствах подозрительности местных турецких властей, считавших его за тайного агента нашего правительства, г. Пятницкий успел однако энергией своей преодолеть все представившиеся ему препятствия и привести в исполнение задуманное им предприятие. Плодом трудов и усилий молодого путешественника была довольно большая коллекция фотографических изображений, снятых им с наиболее замечательных предметов древности Боснии и Герцеговины и с некоторых местных типов; она заслуживает вполне внимания по весьма отчетливой работе и по новости, так как до сего времени у нас подобных коллекций еще не было. Зная, какое живое участие принимает Её Императорское Величество Государыня Императрица во всем, что касается до единоверцев наших в Турции, г. Пятницкий выразил мне желание, чтобы труд его, стоивший ему весьма значительных по средствам его, материальных пожертвований и, можно без преувеличений сказать, нравственных страданий, был посвящен имени Её Величества […]. Этот знак монаршего внимания был бы для г. Пятницкого лучшим вознаграждением за все понесенные им лишения»36. Следом Стремоухов направил императрице для ознакомления 27 снимков37. Мария Александровна была осведомлена о проблемах населения Боснии и Герцеговины, покровительствовала школам для девочек, работавшим в Сараеве и Мостаре. О содействии в решении дела Пятницкого Стремоухов просил также фрейлину императрицы графиню Антонину Дмитриевну Блудову38. Последняя одной из первых развернула благотворительную деятельность в землях турецких славян, в том числе и в Боснии [Мельчакова 2019, 129–132; Чуркина 1987].
18 ноября 1867 г. П. А. Мориц сообщил Стремоухову, что государыня выразила согласие на посвящение альбома ее имени и пожаловала П. П. Пятницкому 300 руб. серебром на его издание39. 1 декабря фотограф получил деньги40. 19 декабря 1867 г. в Санкт-Петербурге был отпечатан альбом. На первой странице стояла дарственная надпись: «Ея Императорскому Величеству Государыне Императрице Марии Александровне. Усерднейшее подношение верноподданного Петра Пятницкого. 1 января 1868 года». 21 января 1868 г. императрица сообщила, что желает принять Пятницкого лично41.
20 ноября 1867 г. Пятницкий и Буссе представили сборник фотографических изображений на заседании отделения этнографии ИРГО42. В журнале заседаний упомянуто, что демонстрация снимков должна была сопровождаться чтением статьи о народной одежде сербов и хорватов В. И. Ламанского, но за недостатком времени текст не зачитывали. Сам же альбом «был рассмотрен присутствующими с живейшим любопытством»43.
Вероятно, Пятницкий ожидал какого-то вознаграждения за свои труды от Азиатского департамента МИД. Еще 17 ноября 1867 г. Стремоухов обращался к экс-консулу в Мостаре Безобразову за разъяснениями на счет обещаний фотографу. Ответ был направлен только 22 января 1868 г.: «Мы предполагали за ним в случае, если его работа будет удостоена всемилостивейшего одобрения, хлопотать на счет подписки на альбом, к которому я предполагал приложить описание видов и местностей […] и вырученную сумму разделить между нами. Вот все, что я обещал г. Пятницкому»44.
Посредничество в распространении альбома взял на себя Азиатский департамент МИД. В феврале Стремоухов разослал циркулярные письма с предложением о приобретении альбома руководителям ряда научных организаций, музеев и библиотек45. Такие циркуляры получили: граф Ф. П. Литке (Императорская академия наук, ИРГО), граф С. Г. Строганов (Императорская археологическая комиссия), граф А. Г. Строганов (Одесское общество истории и древностей), граф А. С. Уваров (Московское общество любителей художеств; Московское археологическое общество), С. А. Гедеонов (Императорский Эрмитаж), А. С. Норов (Археографическая комиссия), И. Д. Делянов (Императорская публичная библиотека), В. А. Дашков (Московский публичный и Румянцевский музей), Г. Е. Шуровский (Императорское общество любителей естествознания в Москве), князь Т. Т. Гагарин (Императорская академия художеств). Цена альбому назначалась в 100 руб. за 80 снимков. Текст такого письма, оглашенный на заседании совета ИРГО 4 марта 1868 г. был опубликован в Известиях общества46.
Заказы на изготовление фотографического сборника поступили от следующих институций47:
- Императорское Русское Географическое общество.
- Императорская Публичная библиотека.
- Императорская Археографическая комиссия.
- Московский публичный музей.
- Императорская Санкт-Петербургская академия наук.
Если считать экземпляр, врученный императрице, то можно сделать нехитрый вывод, что напечатано было минимум шесть альбомов.
Монастырь Житомыслич. Иконостас голубого цвета с резьбою позолоченною и частью окрашенною красной краской. Царские врата резные, малого размера. Местные образа старинной живописи и от ветхости с едва заметными изображениями.
Каждый альбом состоял из 80 снимков в большой лист. С описанием альбома можно ознакомиться в издании «Фотографические и фототипические коллекции императорской публичной библиотеки. Вл. В. Стасова» (СПб., 1885)48. Список фотографических снимков также опубликован мною [Мельчакова 2019, 200–204]. Однако содержание альбомов могло немного отличаться. В ходе проведения исследования были осмотрены экземпляры, хранящиеся ныне в ГПИБ и Славянском фонде БАН. Оба альбома отпечатаны 19 декабря 1867 г. в Санкт-Петербурге в типографии товарищества общества «Польза». В альбоме, хранящемся в ГПИБ, присутствует фотография «Группа монахов и игумен Пивского монастыря», а в версии альбома из Славянского фонда БАН – снимок «Даниил Баляч, игумен монастыря Кассиерово». Если обратиться к описанию альбома, данному Вл. В. Стасовым, то здесь фото Даниила Баляча заменяет снимок «Группа монахов с игуменом монастыря Кассиерово», а вместо снимков «Монастырь Добричево. Образ Богородицы, писанный в Сараеве XVII столетия» и «Герцеговина. Вид села, близ монастыря Житомыслич» – обнаруживаются «Горожанин и горожанка города Требиня» и «Местные образа, очень старинной живописи, в иконостасе Благовещенской церкви герцеговинского монастыря “Житомыслич”, построенного во второй половине XVI века»49. Таким образом, мне известно 83 снимка. В черновике письма П. Н. Стремоухова П. А. Морицу от 14 ноября 1867 г. говорится, что в ходе работы фотограф сделал около 100 снимков50.
В 1869 г. Пятницкий, вероятно, намеревался осуществить переиздание альбома в сокращенном формате. На заседании Санкт-петербургского отделения Славянского благотворительного комитета 27 апреля 1869 г. было оглашено заявление П. П. Пятницкого об издании сборника рисунков славянских достопримечательностей. Пятницкий просил о содействии в доведении числа подписчиков до 200 и обещал пожертвовать в основной фонд отделения 20% (т. е. 5 руб.) с каждого проданного экземпляра51. На том же заседании Пятницкий был принят в число действительных членов комитета52. В № 18 «Современной летописи» за 1869 г. был опубликован отрывок из отчета заседания Московского Славянского благотворительного комитета 11 мая текущего года. В нем сообщалось о письме П. П. Пятницкого, который «два года путешествовал по Европейской Турции и составил обширное собрание фотографических снимков типов славян и древностей». Говорилось и о желании Пятницкого издать сборник из 50 снимков и поднести его в подарок императрице Марии Александровне. 20% от средств, вырученных за продажу сборника, Пятницкий также намеревался перечислять в Славянский комитет53.
В финансовых отчетах Петербургского отделения комитета указано, что на 12 мая 1869 г. от частных благотворителей поступило 70 руб. на издание альбома54; в 1870 г. – еще 20 руб.55 Неизвестно, были ли переданы эти средства Пятницкому, так как, согласно отчетам, до 1874 г. эта сумма все еще хранилась в казне Комитета56. Вероятно, новое издание сборника осуществить не удалось.
В альбоме Пятницкого присутствуют как примеры студийной, так и приобретающей популярность в 1860-х годах пейзажной съемки. По классификации известного историка искусств Вл. В. Стасова, на снимках фотографа встречаются народные типы и портреты, архитектура Герцеговины, герцеговинские фрески и иконы, предметы славянского художественно-промышленного производства. Техника походной фотографии 1860-х годов подробно описана в монографии историка и теоретика фотоискусства С. А. Морозова [Морозов 1953, 19–28]. В основе технологии, использованной Пятницким, лежал мокроколлоидный процесс. Фотографу приходилось возить с собой не только громоздкий фотографический аппарат, но и целый обоз с походной лабораторией, стеклянными пластинами, покрывалами, треножниками… Пластины большого размера отличались хрупкостью, довезти и сохранить их было невероятно сложно, каждую необходимо было упаковывать в отдельные ящики. Груз походного фотографа того времени исчислялся десятками килограмм [Морозов 1953, 20]. В 1860-е годы в Боснийском вилайете только начался процесс дорожного строительства. Остается догадываться, каких трудов стоило Пятницкому и Буссе преодолевать труднопроходимые горные тропы и чудом доставить в Россию хрупкие стеклянные пластины, запечатлевшие образы жителей Боснии и Герцеговины, предметы их быта, старинные православные монастыри и сохранившееся в них богатство.
Фотографические снимки П. П. Пятницкого из Боснии и Герцеговины получили высокие оценки от искусствоведов. Отмечается, что фотограф показал себя талантливым этнографом. С. А. Морозов подчеркнул, что Пятницкий считается первым, кто запечатлел на камеру балканскую кубовидную архитектуру с черепичной прямой кровлей и церкви без куполов. Технически им безукоризненно были переданы орнаменты и резьба внутренних украшений зданий. Виды архитектурных памятников на его фотографиях хорошо связаны с горным лесным ландшафтом, который не сливается в одно пятно, что можно часто видеть на снимках того времени [Морозов 1953, 14]. Е. В. Бархатова также обратила внимание на высокое качество видовой съемки и постановочных студийных кадров фотографа-самоучки [Бархатова 2009, 141].
Повышенный интерес фотографа именно к Герцеговине был связан с тем, что там сохранилось большее количество православных монастырей. Никаких данных, подтверждающих разведывательный характер миссии Пятницкого, его участие в организации повстанческой деятельности православного населения региона и причастности А. Ф. Гильфердинга к работе фотографической экспедиции, выявить не удалось. Доступные источники говорят скорее о том, что это была авантюра талантливого фотографа-любителя, который попал в славяно-турецкие края по приглашению В. В. Безобразова. Экспедиция в Боснию и Герцеговину оказалась довольно затратным мероприятием. Российский МИД, по личной просьбе П. Н. Стремоухова, оказывал всяческое содействие Пятницкому, но не финансировал его путешествие. Вряд ли средства, вырученные от продажи альбомов, покрыли расходы на экспедицию. В любом случае, благодаря трудоемкой работе Пятницкого и Буссе, мы можем заглянуть в мир Боснийского вилайета 1860-х годов. Подготовленный их экспедицией фотографический материал представляет большую ценность для исследователей региона.
Увлечения фотографией Пятницкий не оставил. Вернувшись в родной город, он подготовил альбом «Воспоминания о Хвалынске», а в 1880 г. сделал около 300 снимков 57 Саратовской губернии, приуроченных к празднованию ее столетнего юбилея (1881 г.) [Максимов, Сафронов 2004, 127–141]. 25 февраля 1882 г. талантливый фотограф-самоучка скоропостижно скончался в возрасте 49 лет.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АВПРИ – Архив внешней политики Российской империи.
БАН – Библиотека Российской академии наук.
ГПИБ – Государственная публичная историческая библиотека.
ИРГО – Императорское Русское Географическое Общество.
РО ИРЛИ РАН – Рукописный отдел Пушкинского дома.
ЦГИА СПб – Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
АВПРИ. Ф. 146. Славянский стол. Оп. 495; Ф. 161/1. Главный архив. Оп. 181/2; Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2.
Босния и Герцеговина: Книги из Славянского фонда Библиотеки Академии наук. Библиограф. указатель / Гусева О. В. СПб.: Библиотека Академии наук, 2006. 104 с.
Гильфердинг А. Ф. Босния, Герцеговина и Старая Сербия. СПб., 1859.
Журнал заседания Отделения Этнографии Императорского Русского Географического Общества: – 20 ноября 1867 г. // Известия Императорского Русского Географического Общества. 1867. Т. III. № 8. СПб., 1868. С. 188–190.
Журнал заседания Совета Императорского Русского Географического Общества. – 4 марта 1868 г. // Известия Императорского Русского Географического Общества. 1868. Т. IV. СПб., 1869. С. 22–28.
Иларионов Н. А. Православный монастырь Житомыслич в Герцеговине // Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1870. Кн. 3. Смесь. С. 1–17.
Краткий отчет о деятельности С.- Петербургского отдела славянского благотворительного комитета, с 11 мая 1870 по 1 января 1872 года // Журнал министерства народного просвещения. СПб., 1872. Ч. CLIX, январь – февраль. С. 116–139.
Первые 15 лет существования С.- Петербургского Славянского Благотворительного Общества (бывший Петербургский Отдел Славянского Благотворительного Комитета в Москве) по протоколам обоих собраний его членов, состоявшимся в 1868–1883 гг. СПб., 1883. 882 с.
Русский музей представляет: Вторая фотобиенале историко-архивной фотографии российских музеев и архивов / Альманах. Вып. 397. СПб.: Palace Editions, 2013. 256 с.
РО ИРЛИ РАН. Ф. 234. Плетневы. Оп. 4.
Современная летопись. 1869. № 19. С. 14–15.
Справочная книга для должностных лиц центральных и заграничных установлений Министерства иностранных дел. Составил по поручению Министерства иностранных дел М. Никонов. СПб., 1869.
Фотографические и фототипические коллекции императорской публичной библиотеки. Вл. В. Стасова. СПб., 1885. 176 с.
Фотографический сборник церковных древностей и типов славян Европейской Турции. Герцеговина и Босния 1867 года П. Пятницкого. СПб., 1868.
ЦГИА СПб. Ф. 400. Петроградское славянское благотворительное общество. Оп. 1.
Приложение
Перечень снимков, сделанных П. П. Пятницким в монастыре Житомыслич (Герцеговина) 58
- Герцеговина. Вид села, близ монастыря Житомыслич.
- Герцеговина. Монастырь Житомыслич. Общий вид монастыря, построенного во 2-й половине XVI столетия Милославом Милорадовичем, известным в летописях под именем «Храбрени».
- Монастырь Житомыслич. Образ Иоанна Крестителя с изображениями всей его жизни.
- Монастырь Житомыслич. Стенная фреска, изображающая основателя монастыря Милослава Милорадовича, держащего в правой руке церковь, в левой посох. Над головою надпись: «Милисов, Спахия».
- Монастырь Житомыслич. Образ: распятие Спасителя с положением во гроб. От ветхости образ во многих местах треснул.
- Монастырь Житомыслич. Аналой (налоня) семигранный деревянный с перламутровою и слоновою кости инкрустациею. На верхнем медном обруче из надписи видно, что работан в Сараеве в ЗЄСД 59 году.
- Монастырь Житомыслич. Ковчег (дарохранительница) серебряный в виде церкви с кипарисными в окнах изображениями ликов святых.
- Монастырь Житомыслич. Церковь, сооружена во второй половине XVI столетия во имя Благовещения Пр. Богородицы, с пристроенной в позднейшее время деревянной колокольней.
- Монастырь Житомыслич. Монашеские кельи. Доска (клепало), привешенная на цепях, заменяла колокола, когда не дозволялось их иметь христианам при церквях.
- Монастырь Житомыслич. Церковные вещи: лампады серебряные филограновой работы с изображением св. ликов; мощехранительница серебряная чеканной работы; блюдо для освящения хлебов (пятихлебница) с тремя чашами. Работано в Сараеве XVI столетия.
- Монастырь Житомыслич. Кресты, кипарисного дерева, обложенные позолоченным серебром с каменьями. Работано в Сараеве в XVI столетии.
- Монастырь Житомыслич. Церковные вещи: кадило (кадильница) серебряное, крышка которого изображает пять церковных глав с крестами. Из надписи видно, что «кадило раба Божия Джуры Храбрени». 2 лампады филограновой работы.
- Монастырь Житомыслич. Верхняя и нижняя сторона оклада Евангелия, печатанного в Москве при царе Алексее Михайловиче в 1661 году. Обложено по бархату серебром с позолотою и каменьями в Сараеве монахом Висарионом.
- Монастырь Житомыслич. Церковное блюдо XV столетия, с изображением Адама и Евы, с надписью во круг.
- Монастырь Житомыслич. Стойка (столица), употребляемая в церквях для молящихся, с подъемною скамьею, для сидения.
- Монастырь Житомыслич. Иконостас голубого цвета с резьбою позолоченною и частью окрашенною красной краской. Царские врата резные, малого размера. Местные образа старинной живописи и от ветхости с едва заметными изображениями.
- Герцеговина. Сельский священник – монах (калуджер) монастыря Житомыслич, отправляющийся с требой.
- Местные образа, очень старинной живописи, в иконостасе Благовещенской церкви герцеговинского монастыря Житомыслич, построенного во второй половине XVI века60.
1 Гильфердинг 1859.
2 Ныне проспект Кирова.
3 Здесь и далее даты даются по старому стилю.
4 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 2051б. Мостар. 1865 г. Л. 22–27об.
5 Там же. Л. 48.
6 Там же. Ф. 146. Оп. 495. Д. 81. Л. 13–13об.
7 Там же. Л. 13об.
8 Там же. Л. 1.
9 Там же. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 2052. Мостар. 1866 г. Л. 33.
10 Там же. Ф. 161/1. Оп. 181/2. Д. 619. Мостар. 1866 г. Л. 95–98.
11 Там же. Л. 95об.
12 Там же. Ф. 146. Оп. 495. Д. 10872. Л. 3–4.
13 Там же. Ф. 161/1. Оп. 181/2. Д. 809. Сараево. 1866 г. Л. 67–67об.
14 Там же. Ф. 146. Оп. 495. Д. 10872. Л. 2–4об.
15 Там же. Д. 81. Л. 13–14.
16 Там же. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 2052. Мостар. 1866 г. Л. 33–33об.
17 Там же. Ф. 146. Оп. 495. Д. 10872. Л. 5об.; Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 2052. Мостар. 1866 г. Л. 33–35об.
18 Там же. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 2052. Мостар. 1866 г. Л. 34.
19 Там же. Л. 34об. –35.
20 Там же. Л. 35–35об.
21 Здесь и далее даются фотографии из «Фотографического сборника церковных древностей и типов славян Европейской Турции. Герцеговина и Босния 1867 года П. Пятницкого» (СПб., 1868) с оригинальными подписями.
22 Там же. Л. 35об.
23 О монастыре Житомыслич того времени см.: Иларионов Н. А.
24 АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 2052. Мостар. 1866 г. Л. 35об.
25 Там же.
26 Там же. Ф. 146. Оп. 495. Д. 10872. Л. 5об-6.
27 Там же. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 2053. 1867 г. Мостар. Л. 5–5об.; Ф. 161/1. Оп. 181/2. Д. 620. 1867 г. Мостар. Л. 24–24об.
28 Там же. Ф. 146. Оп. 495. Д. 10872. Л. 9–19.
29 Справочная книга, 271–275.
30 С учетом комиссии за банковские операции.
31 АВПРИ. Ф. 146. Оп. 495. Д. 10872. Л. 19.
32 Там же. Д. 81. Л. 1–2.
33 Ныне – село Орах в Боснии и Герцеговине.
34 Как справедливо заметил А. В. Черных, в 1866 г. Гильфердинг действительно дважды находился в отпуске в Европе (две недели в марте и 28 дней в сентябре, который значительно затянулся) [Черных 2021, 29], но в архивном наследии слависта есть только упоминания о путешествии вместе с супругой Варварой Францевной и больным сыном Федей по Германии, Швейцарии и Франции. Гильфердинги искали подходящий для ребенка климат, чтобы провести зиму (см., например: письмо А. Ф. Гильфердинга к А. В. Плетнёвой // РО ИРЛИ РАН. Ед. хр. 54). В 1867 г. мальчик скончался.
35 АВПРИ. Ф. 146. Оп. 495.Д. 81. Л. 1–2.
36 Там же. Л. 4.
37 Там же. Л. 5.
38 Там же. Л. 6–6об.
39 Там же. Л. 9.
40 Там же. Л. 12.
41 А. В. Черных ошибочно отождествил помощника Пятницкого с его однофамильцем известным географом Федором Федоровичем Буссе (1838–1897) [Черных 2021, 33].
42 Журнал заседания Отделения, 190.
43 АВПРИ. Ф. 146. Оп. 495. Д. 81. Л. 14–14об.
44 Там же. Л. 15–29.
45 Журнал заседания Совета, 26–27.
46 АВПРИ. Ф. 146. Оп. 495. Д. 81. Л. 22–23, 25, 27–29.
47 Фотографические и фототипические коллекции, 53–55, 67–69, 98–100, 170–172.
48 Там же, 53, 98–99.
49 АВПРИ. Ф. 146. Оп. 495. Д. 81. Л. 4.
50 Первые 15 лет, 14; ЦГИА СПб. Д. 1. Л. 6.
51 Первые 15 лет, 853; ЦГИА СПб. Д. 1. Л. 68, 192.
52 Современная летопись, 14–15.
53 ЦГИА СПб. Д. 1. Л. 16об.
54 Там же. Л. 59об.; Краткий отчет, 135, 137, 139.
55 ЦГИА СПб. Д. 1. Л. 126, 181об.
56 Фотографические и фототипические коллекции, 53–55, 67–69, 98–100, 171–172.
57 Русский музей, 255.
58 В описании представлены подписи к снимкам из альбома П. П. Пятницкого.
59 Так указано в подписи к снимку.
60 Дается по изданию: Фотографические и фототипические коллекции, 98–99.
Об авторах
Ксения Валерьевна Мельчакова
Институт славяноведения Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: kmelchakova@mail.ru
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Россия, МоскваСписок литературы
- Бархатова Е. В. Русская живопись. Первый век фотоискусства, 1839–1914. СПб.: Альянс; Лики России, 2009. 399 с.
- Максимов Е. К., Сафронов Ю. А. Старый Саратов на фотографиях и открытках. Саратов: ОАО «Приволжское книжное издательство», 2004. 271 с.
- Мельчакова К. В. Боснийский вилайет в объективе фотографа П. П. Пятницкого // Славянский мир в третьем тысячелетии. 2018. Вып. 13. № 1–2. М.: Институт славяноведения РАН, 2018. С. 60–71.
- Мельчакова К. В. Босния и Герцеговина в общественно-политической жизни России в 1856–1875 гг. М.: Индрик, 2019. 432 с.
- Мельчакова К. В. К вопросу о путешествии фотографа П. П. Пятницкого в Боснийский вилайет: новые факты // Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы конференции молодых ученых в рамках Дней славянской письменности и культуры. 13–14 октября 2020 г. / отв. ред. Е. С. Узенёва, О. В. Хаванова. М.: Институт славяноведения РАН, 2020. С. 63–68.
- Михайлова А. А. Черно-белые воспоминания о Старой Сербии: К информативной ценности архивных фотографий начала XX века // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2020. С. 193–210.
- Морозов С. А. Русские путешественники-фотографы. М.: Государственное издательство географической литературы, 1953. 184 с.
- Олюнин С. В. Боснийский эялет в конце XVIII – 70-х гг. XIX столетия: османский опыт модернизации традиционного общества. М.: Академия гуманитарных исследований, 2006. 130 с.
- Самохвалова Н. Жил-был фотограф один // Газета недели в Саратове 15.01.2013. № 1.
- Сафронов Ю. А., Максимов Е. К. Фотосалоны саратовского края. Каталог паспарту 1854–1917 гг. Саратов: ОАО «Приволжское книжное издательство», 2003. 160 с.
- Черных А. В. Государственная, дипломатическая и общественно-политическая деятельность А. Ф. Гильфердинга (1831–1872): монография. Липецк: Гравис, 2017. 399 с.
- Черных А. В. Научная деятельность и публицистика А. Ф. Гильфердинга (1831–1872), посвященные южным, западным и восточным славянам: монография (часть II). Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2021. 236 с.
- Чуркина И. В. К вопросу о первом русском обществе помощи югославянским народам // Общественные и культурные связи народов СССР и Балкан XVIII–XX вв. (Балканские исследования. Вып. 10) / отв. ред. Г. Л. Арш. М.: Наука, 1987. С. 62–74.
- Aličić S. A. Uređenje Bosanskog ejaleta od 1789 do 1878 godine. Sarajevo: Orijentalni Institut u Sarajevu, 1983. 199 s.