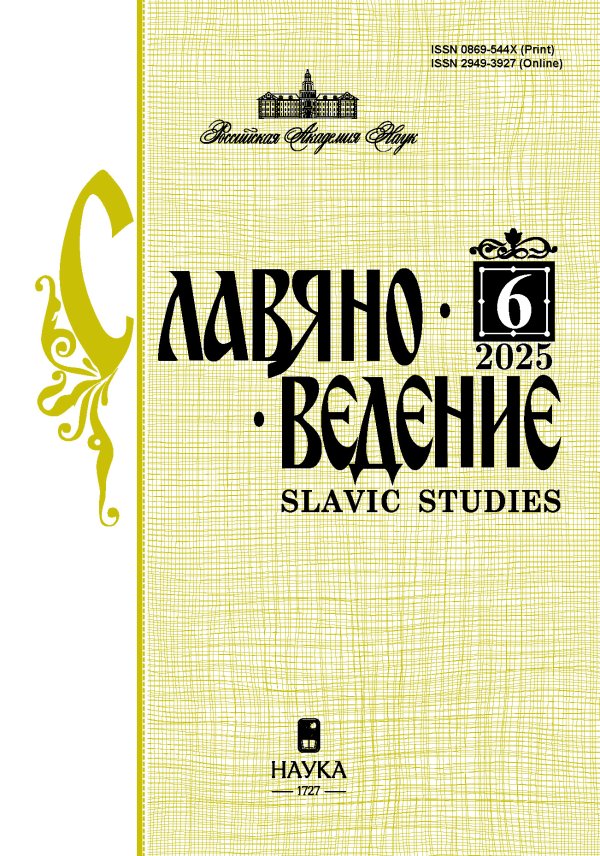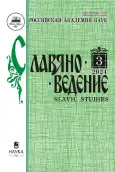Sarajevo-1914. Sparking the First World War / еd. by M. Cornwall. London: Bloomsbury, 2020. 320 p.
- Authors: Bogomolov I.K.1
-
Affiliations:
- Institute of Scientific Information for Social Sciences of Russian Academy of Sciences
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 119-123
- Section: Reviews
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/262802
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24030099
- EDN: https://elibrary.ru/WYXHKL
- ID: 262802
Full Text
Full Text
Убийству эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июня 1914 г. суждено было стать одним из главных событий ХХ в. Покушение в Сараеве вызвало огромное количество дискуссий, породило теории заговора, на которых зачастую основывались научные и государственные взгляды на причины и характер Первой мировой войны. Столетие события в 2014 г. лишь подстегнуло эти споры, наглядно показавшие, что историография по-прежнему находится под сильным влиянием прошлых эмоций и пристрастий, разбивается на лагеря, наследующие от предшественников старые позиции. Было вполне ожидаемо, что часть сербских историков негативно воспримет монографии К. Кларка [Clark 2012] и Ш. Макмикина [McMeekin 2011], в которых значительная доля вины за начало Первой мировой войны возложена на Сербию и Россию. Ожидаемо было и появление своеобразных «ответов» на эти работы, обвиняющих Вену в желании «раздавить» Сербию [Zametica 2017]. Как и прежде, слышна апологетика Франца Фердинанда, якобы павшего жертвой заговора, подготовленного в Белграде и Петербурге [Кинг, Вулманс 2014]. Как и многие другие крупные и судьбоносные исторические события, сараевское покушение попало в своеобразную ловушку неугасаемой связи с современностью. О нем вспоминают, как правило, раз в десять лет, используя скорее как орудие в давних спорах и как инструмент в политической риторике. В истории Первой мировой войны это событие служит своего рода «увертюрой» и стабильным поставщиком красивых заголовков. Как верно подметил П. Миллер, «кто еще не слышал о “пистолете, который превратил историю в пыль”, об “автомобиле, который изменил историю”, или даже о “диване, на котором можно было бы уложить весь двадцатый век”?» (имеется в виду диван, на котором скончался Франц Фердинанд) [Miller 2016].
Название рецензируемой монографии – «Разжигая Первую мировую войну» – тоже не избежало этого соревнования в метафоризации. Составители и не стремились отойти от традиционных сюжетов, связанных с убийством эрцгерцога, покорно встраиваясь в «огромную историографическую индустрию, охватывающую мифы, гипотезы и пристрастия – что именно произошло, почему это произошло и кто на самом деле несет ответственность» (с. 2). Вместе с тем через книгу красной нитью проходит не только само сараевское покушение, но и его контекст – социально-экономическая, политическая, культурно-историческая и демографическая ситуация на Балканах и в Австро-Венгрии в начале ХХ в. Во введении М. Корнуолл отметил, что цель авторов состоит не в том, чтобы «оценить, как память об убийстве в Сараеве создавалась и использовалась в различных культурных средах за прошедшее столетие», но в том, чтобы «придать больше ясности и контекста якобы заезженной теме, иллюстрирующей как геополитический ландшафт, в котором произошло “Сараево-1914”, так и волны, которые это событие создало на местном, региональном и международном уровнях» (с. 9).
Структура книги отражает стремление авторов сфокусироваться именно на контексте, а не на самом убийстве Франца Фердинанда. 14 глав сгруппированы в трех частях. В первой сделан акцент на личности эрцгерцога, его политике, планах и союзниках, в двух других – на международном и региональном аспекте его убийства.
А. Ханниг написала о том, как австрийский наследник престола «укреплял свое положение, используя различные личные связи, чтобы гарантировать плавный переход власти после смерти Франца Иосифа» (с. 18). Критике автора подверглись свидетельства С. Цвейга о реакции на убийство Франца Фердинанда населения Бадена, где писатель в июне 1914 г. находился на лечении. Уже через два часа, писал он, «нельзя было обнаружить ни единого признака истинной скорби. Люди шутили и смеялись, в ресторанах снова допоздна играла музыка» [Цвейг 1996, 596]. Эти строки часто цитируются, когда речь идет об убитом эрцгерцоге, но, по мнению Ханнинг, воспоминания Цвейга о нем были «не только очень субъективными, но в некоторых моментах совершенно ложными» (с. 18). Нельзя, однако, сказать, что автор привела убедительные контраргументы и новые источники, ограничившись цитатами из некрологов крупнейших венских газет того времени и воспоминаний бывшего министра иностранных дел Австро-Венгрии Л. Берхтольда. Тем не менее Ханнинг далека от обеления личности Франца Фердинанда. Его враждебность по отношению к различным национальностям и политическим группам, а также к некоторым странам и их главам была «не только иррациональной, но и опасной» (с. 30). Причиной тому были, помимо характера эрцгерцога, и довлеющие над ним традиции и стереотипы. Как и многие представители Габсбургов, Франц Фердинанд, «очевидно, не смог распознать знамения времени; он отказался сотрудничать с более широкими социальными и политическими кругами, полагаясь вместо этого на старые феодальные структуры и сильную армию». Навсегда останется открытым вопрос о том, могло ли его правление «предотвратить катастрофическую войну и падение монархии» (с. 30).
А. Рахтен более подробно проанализировал политические планы Франца Фердинанда в отношении югославянских земель Австро-Венгрии. По мнению автора, наследник габсбургского престола «явно не имел намерения продолжать децентрализацию и без того ослабленной дуалистической системы» (с. 42). Но он не терял интерес к идее триализма, так как видел в ней противовес венгерскому влиянию и великосербской идее. Для эрцгерцога и его сторонников триализм был «прежде всего средством демонтажа дуалистической системы» и консолидации реальной власти в руках Вены (с. 43). Рахтен сравнил эту точку зрения с позицией Н. Пашича, считавшего, что для Сербии самая серьезная угроза исходила именно от предполагаемой программы Франца Фердинанда. Однако, в отличие от Франца Иосифа, эрцгерцог, по крайней мере, пытался найти решение югославянского вопроса. Это часто делалось «в резкой, неуклюжей и старомодной манере, но никто не может отрицать его волю к реформам, его готовность объединить культурное разнообразие Центральной Европы в более прочное государственное образование» (с. 52). Другой вопрос, каковы были шансы на реализацию этих планов, учитывая, что австрийский наследник престола явно не стремился идти на реальные уступки национальным окраинам империи.
И. Ивелийч оценил идеи Франца Фердинанда по переустройству дуалистической монархии как «фиговый листок для программы, направленной на укрепление полномочий австрийского центра». Предполагавшийся пересмотр договора 1867 г. не мог существенно расширить политические права немадьярских народов; скорее, им было бы предложено «равенство в неравенстве» (с. 66). Это хорошо видно и по положению хорватского дворянства в переломную эпоху начала ХХ в. Многие аристократы разной национальности и политической ориентации оказались в затруднительном положении накануне Великой войны. В эпоху дуализма дворяне, выступавшие с проавстрийских позиций, по большей части были вынуждены примириться с Будапештом. Хорватская аристократия в основном «была лояльна династии Габсбургов, но в то же время хорошо осознавала, что общий политический, экономический и национальный контекст меняется и ставит под угрозу их элитное положение» (с. 73). После 1918 г. многие дворяне надеялись, что принятие югославского гражданства гарантирует им лучшее отношение к себе, игнорируя тот факт, что эта новая балканская страна имела «совершенно иной характер и историю», не вырастила собственное дворянство и «рассматривала аристократию Габсбургов как нежелательный и враждебный элемент» (с. 72).
Общественные настроения в Хорватии накануне и в годы войны подробно рассмотрел М. Корнуолл. Политические пристрастия в довоенной Хорватии были, благодаря меняющемуся геополитическому контексту, чрезвычайно сложными и разнообразными. Многие политические деятели играли на противоречиях между Веной и Будапештом, а также на ухудшающихся австро-сербских отношениях. Во время войны хорватско-венгерская коалиция сохранилась, большинство представлявших ее депутатов вплоть до конца войны были склонны к консервативному и прагматичному подходу к будущему Хорватии. Однако, когда в 1918 г. «ветер изменился, Белград лишил Будапешт контроля над регионом» (с. 227).
На примере австрийской армии Т. Шир рассмотрела языковой вопрос в Боснии и Герцеговине в начале ХХ в. Для командования местных армейских частей разделение на сербов и хорватов «не отражало региональных реалий, и они также хотели поддержать усилия, направленные на то, чтобы избежать маргинализации солдат-мусульман» (с. 94). Во время Великой войны «хорватский» часто назывался языком солдат-католиков, «сербский» – православных, а «сербохорватский» – мусульман. Используя термин «сербохорваты» вместо «боснийцев», австрийские военные приняли во внимание идеи мусульманских политиков. Сегодня название языка, на котором говорят в Боснии и Герцеговине, «все еще обсуждается и очень часто напоминает нам о временах Габсбургов. Использование языка во многом интерпретировалось и интерпретируется как этническая или национальная принадлежность» (с. 95).
Р. Окей также поместил «боснийский вопрос» в более широкий контекст, подробно рассмотрев образовательные и культурные истоки организации «Млада Босна» и отказываясь от «террористического или революционного» подхода в ее изучении. Сараевское покушение, по его мнению, «явно соответствует теме революционной студенческой молодежи, которая не фигурировала в 1789 г., но появилась в 1848 г., а затем, как известно, в царской России, начиная с “хождения в народ”». Тем не менее к началу ХХ в. народничество студентов, «действовавших на фоне социокультурного отчуждения, приобретало все более этнонационалистический подтекст» (с. 103).
Поднят в монографии и традиционный вопрос о роли Белграда в подготовке покушения. Д. Шеранц отметил, что большое влияние Драгутина Димитриевича и его соратников «не было случайным совпадением, а отражало природу сербской политической культуры» (с. 143). Они не смогли бы удержаться на высоких должностях в армии без поддержки Радомира Путника, который, однако, не одобрял все действия Аписа. До тех пор, пока сохранялся национальный консенсус по вопросам внешней политики, допускались и другие, более проблемные аспекты поведения офицеров. Тем не менее двойственность власти по отношению к неформальным офицерским организациям («неконституционным элементам») не могла длиться вечно. После 1913 г., когда основная часть внешнеполитических задач была достигнута, пути «Черной Руки» и гражданских властей начали резко расходиться. Убийство в Сараеве «можно рассматривать как один из эпизодов внутренней борьбы за власть между сербским правительством и военными» (с. 143). Автор предположил, что покушение на эрцгерцога было специально рассчитано на то, чтобы нанести ущерб правительству Пашича, стремившегося «ликвидировать сеть офицеров и обеспечить легитимность своего режима с новым монархом на сербском троне». Противодействуя этому с помощью покушения на Франца Фердинанда, Димитриевич «готовил почву для дипломатического скандала, а не пытался спровоцировать австро-сербскую войну» (с. 144).
Л. Хёбельт отметил, что Австро-Венгрия, в отличие от Сербии, была меньше скована внутриполитическими проблемами при принятии решения о начале войны. Даже победы Балканского союза в 1912–1913 гг. не привели к брожениям на южных окраинах империи, внутренняя «славянская угроза» если и была, то явно переоценивалась. Тем не менее в начале ХХ в. Вена считала балканское направление ключевым. Ее действия после сараевского покушения «невозможно понять без учета двух Балканских войн. Если бы Франц-Фердинанд был убит в 1907 или 1908 г., очень маловероятно, что это привело бы к мировой войне». В 1914 г. австрийцы «выбрали войну, потому что они чувствовали, что больше не могут позволить себе мир, которым они “наслаждались” в 1912–1913 гг.» (с. 152). Военные маневры и мобилизация в эти годы стоили дорого и опустошали казну, не давая очевидной отдачи. По мнению автора, если бы габсбургская элита стремилась к войне, она, безусловно, начала бы ее раньше. В 1914 г. австрийцы «ошибались, когда думали, что война будет короткой; в 1912 г. они ошибались, когда думали, что Балканская война против Османской империи будет долгой» (с. 154). Австро-Венгрия начала «третью Балканскую войну», потому что другие возможности посчитала исчерпанными (с. 154).
Причины такого настроя Вены в более широком контексте проанализировал Т. Г. Отте. Автор подтвердил вывод, к которому пришел в основательной монографии об июльском кризисе 1914 г. [Otte 2014]. По его мнению, Австро-Венгрия к тому времени «больше не мыслила себя и не действовала как великая европейская держава, а скорее как более крупная региональная держава, для которой “урегулирование с Сербией” перевешивало все остальные соображения» (с. 166). В рецензируемом сборнике автор добавил спорный тезис о том, что, несмотря на склонность кайзера Вильгельма II «рассматривать мировую политику с точки зрения надвигающейся расовой борьбы, систематической подготовки к войне не было; не было также никакого систематического анализа зарождающегося кризиса» (с. 168). Один из главных и недооцененных в Берлине вопросов – о судьбе «австрийского наследства» после ожидавшегося падения двуединой монархии – встал перед Германией слишком быстро, чтобы действовать осторожнее. В этом смысле такое маленькое государство, как Сербия, «обладало косвенной властью в такой степени, которая была бы непостижимой, даже невыносимой для Талейрана или Александра I в начале долгого XIX в.» (с. 177). Однако и Отте повторил тезис о том, что ни одна европейская держава не хотела войны летом 1914 г. Яркий пример – англо-австрийские дипломатические отношения: посол А. Менсдорф покинул Лондон спустя почти две недели после начала мировой войны. Ф. Бридж в связи с этим отметил, что «своими действиями Германия сняла с плеч Австро-Венгрии мантию главного поджигателя войны – по крайней мере, так решили англичане. В белой книге британского правительства о последних днях мира монархия отделалась на удивление легко: были “хорошие надежды” на мир, пока Германия “не захлопнула дверь” на переговорах, напав на Россию – момент, за который ухватилась, к удовлетворению австрийцев, вся британская пресса» (с. 193).
В главах Б. Клабьяна и Х. Грюнерта повествуется о реакции населения и властей Сараева и Триеста на убийство Франца Фердинанда. В Боснии оно вызвало волну ожесточенных столкновений, в которых чувство преданности династии смешивалось с ненавистью к «другому». Местные власти зачастую закрывали глаза на эти бесчинства, что в конечном счете нанесло «непоправимый ущерб гражданскому единству, которое вышло далеко за рамки Первой мировой войны. Как и везде, распад империи Габсбургов принес не мир, а эскалацию социального хаоса» (с. 248). Грюнерт подчеркнул, что изменения в национальной политике Вены в Боснии начались задолго до лета 1914 г. Учет политических требований путем «кооптации элит различных конфессиональных групп» сменился «политикой, которая четко определяла врагов государства и нападала на них и на всю их социальную среду» (с. 265). Еще до войны местная австрийская власть отказалась от своих обычных методов управления лояльностью подданных империи, в результате чего быстро потеряла легитимность в глазах большинства боснийских сербов.
В завершающей главе Д. Хайкова проанализировала образ Франца Фердинанда в общественном сознании и государственной политике межвоенной Чехословакии. Попытки лидеров Первой республики создать негативный образ эрцгерцога, который соответствовал их проекту «деавстризации», были лишь частично успешными. Наследник престола остался в народной памяти благодаря литературным произведениям (прежде всего – «Похождения бравого солдата Швейка» Я. Гашека) и «местам памяти» (замок Конопишт). В 2014 г. столетие убийства Франца Фердинанда широко отмечалось: прошли многочисленные выставки, а в заголовках газетных статей часто использовалась фраза Гашека «Они убили нашего Фердинанда». Отношение к эрцгерцогу в современном Конопиште «перешло от враждебного к сочувственному и даже некоторой степени гордости за этого знаменитого местного жителя» (с. 286). Спустя столетие после сараевского убийства интерес к его личности в Чехии только возрос.
В рецензируемой монографии проведен качественный анализ социально-экономической и политической ситуации на Балканах в начале ХХ в. Эта книга действительно не столько об убийстве в Сараеве, сколько о том, что ему предшествовало и к чему оно привело. Затронуты малоизученные сюжеты, прежде всего об общественно-политических настроениях в Боснии и Хорватии. «Традиционные» сюжеты также освещены подробно, сделан ряд интересных наблюдений и выводов об австрийской внешней политике, политической борьбе в Белграде, причинах поддержки Германией своего союзника и, соответственно, военного исхода июльского кризиса 1914 г. Освещая столь масштабную тему, невозможно затронуть все связанные с ней сюжеты, однако отсутствие некоторых из них все же вызывает вопросы. В книге, например, практически не упоминается Россия и ее балканская политика, дипломатические шаги Петербурга после австрийского ультиматума Сербии и причины ее поддержки в решающий момент. Не вполне продуманной видится и структура монографии. К примеру, близкие по содержанию главы И. Ивелийч и М. Корнуолла находятся в разных частях, логичнее было бы поставить рядом главы А. Рахтена и Л. Хёбельта. Но в конечном счете книга представляет большой интерес и, безусловно, займет достойное место в обширной историографии Сараево-1914.
About the authors
Igor K. Bogomolov
Institute of Scientific Information for Social Sciences of Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: bogomolov@inion.ru
ORCID iD: 0000-0001-8381-0284
PhD (History), Senior Research Fellow
Russian Federation, MoscowReferences
- Clark C. The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914. London, Allen Lane Publ., 2012, 736 p.
- King G., Vulmans S. Pervaja mirovaja. Ubijstvo, razvjazavshee vojnu. Moscow, AST Publ., 2014, 384 p. (In Russ.).
- McMeekin S. The Russian Origins of the First World War. Cambridge, Harvard University Press Publ., 2011, 344 p.
- Miller P. «The First Shots of the First World War»: The Sarajevo Assassination in History and Memory, in Central Europe, 2016, vol. 14, no. 2, pp. 141–156. DOI: https://doi.org/10.1080/14790963.2017.1355514.
- Otte T. July Crisis: The World’s Descent into War, Summer 1914. Cambridge, Cambridge University Press Publ., 2014, 534 p.
- Zametica J. Folly and Malice: The Habsburg Empire, the Balkans and the Start of World War One. London, Shepheard-Walwyn Publ., 2017, 794 p.