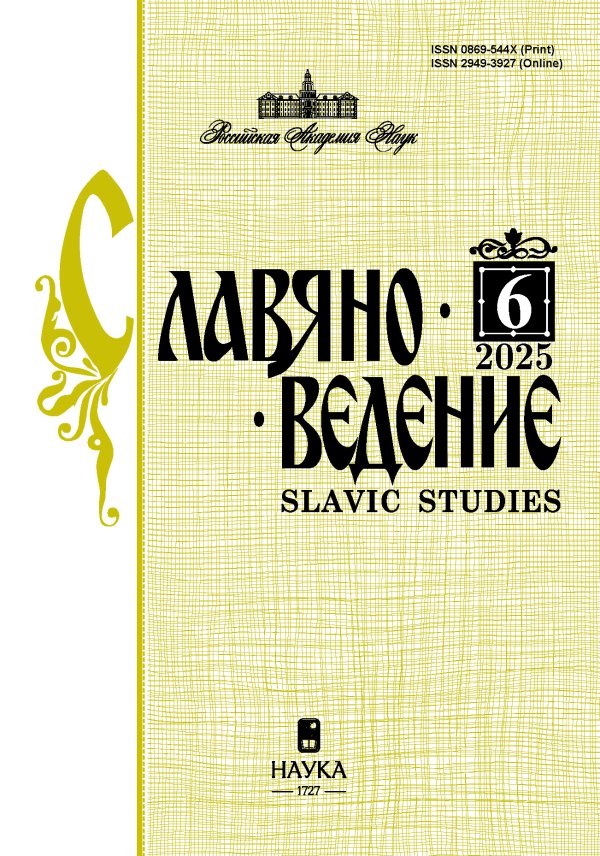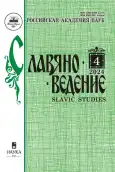Польское дворянское общество начала 90-х годов XVI века. Аннотация и Контрреформация
- Авторы: Флоря Б.Н.1
-
Учреждения:
- Институт славяноведения Российской академии наук
- Выпуск: № 4 (2024)
- Страницы: 5-15
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/265129
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24040016
- EDN: https://elibrary.ru/WXVQOT
- ID: 265129
Полный текст
Аннотация
В статье анализируются свидетельства публицистических текстов о реакции польской шляхты разных конфессий на погромы протестантских храмов в городах Польского королевства в начале 90-х годов XVI в., где характер межконфессиональных отношений заметно отличался от их характера во многих других европейских странах. В ряде актов здесь была санкционирована законность существования в стране христианских конфессий, отличных от господствующего католического вероучения. Но в 1590-е годы начались преследования последователей протестантизма. Особое внимание в статье уделено причинам негативной реакции на погромы их «зборов». Автор считает, что важную роль сыграли особенности сознания польского дворянского общества: и католическая, и протестантская шляхта воспринимали себя, как единую общность, заинтересованную в сохранении и расширении своих сословных прав.
Полный текст
Как известно, характер межконфессиональных отношений в Речи Посполитой, и в частности, в Польском королевстве, во второй половине XVI в. заметно отличался от их характера во многих других европейских странах. В ряде актов здесь была санкционирована законность существования в стране христианских конфессий, отличных от господствующего католического вероучения. Уже в 60-х годах XVI в. государственные органы были освобождены от обязанности выполнять решения католических церковных судов относительно инакомыслящих. Принятый во время бескоролевья в начале 70-х годов XVI в. акт Варшавской конфедерации, подтвержденный затем королем Стефаном Баторием, устанавливал запрет на карательные меры и насилие по отношению к инакомыслящим христианам. Акты такого рода в течение ряда лет обеспечивали в стране мирное сосуществование католиков и приверженцев протестантских конфессий. В начале 90-х годов XVI в. положение серьезно осложнилось.
Это было связано с деятельностью сторонников Контрреформации в рядах католического духовенства и дворянства. Конечная цель Контрреформации, как известно, – утверждение католического единомыслия, в том числе и с помощью насилия. Понятно, что попытки продвижения к такой цели закономерно вели к осложнению отношений между католиками и протестантами.
Одним из первых шагов к достижению единомыслия стали попытки сторонников Контрреформации положить конец существованию в королевских городах протестантских храмов-«зборов». Они доказывали незаконность их существования, опираясь на утвердившиеся в общественном сознании и житейской практике представления, что в компетенцию дворянина входит устройство конфессиональных отношений в своем имении в соответствии с собственными представлениями. По мнению католических публицистов, король обладал таким же правом по отношению к городам, находившимся под его властью. Такие высказывания находили отзвук у короля Сигизмунда III. Не ограничиваясь этим, приверженцы Контрреформации побуждали к нападениям на «зборы» учащихся католических образовательных учреждений и низы городского населения.
Результатом таких стараний стал разгром, а затем сожжение кальвинистского и арианского «зборов» в Кракове 23–25 мая 1591 г. Вскоре в ночь с 9 на 10 июня произошло нападение на кальвинистский «збор» в Вильне. На жителей Польского королевства наиболее сильное впечатление произвел разгром главного храма кальвинистов в столице. Хотя волнения там продолжались несколько дней, органы власти практически не приняли мер ни к их прекращению, ни к розыску виновных. Все это вызвало сильную отрицательную реакцию в шляхетской среде. В целом ряде воеводств не только Великой и Малой Польши, но и на землях Русского воеводства и Подолии состоялись без санкции власти дворянские съезды, участники которых требовали наказания виновных, возмещения ущерба и восстановления «зборов» [Lepszy 1939, 302–303].
25 июля 1591 г. в Хмельнике (на территории Сандомирского воеводства) собрался также без санкции власти общепольский съезд, куда были доставлены решения локальных собраний. В направленном участниками съезда обращении к королю говорилось не только о необходимости наказания виновных и восстановления «зборов», но и о «новом обеспечении» конфедерации и признании законности публичного протестантского богослужения в королевских городах [Ibid., 310, 313].
Созыв таких съездов осудили и король, и глава польской католической церкви – гнезненский архиепископ С. Карнковский [Ibid., 309]. Это однако не помешало шляхте собраться на новый съезд в Радоме 25 сентября 1591 г. Характерно, что к участникам съезда обратился католик – канцлер и великий гетман Ян Замойский, заявивший, что разгром «зборов» вызывает его «возмущение» и, как сторонник межконфессионального мира, он добьется подтверждения последнего на сейме [Ibid., 312].
Участники съезда приняли решение о необходимости созыва сейма «o ochrone pokoju pospolitego» («об охране общего мира») [Ibid., 322]. В инструкциях восьми сеймиков из разных частей Польского королевства, собравшихся перед сеймом 1592 г., содержалось предложение о присоединении к тексту Варшавской конфедерации «ustawy wykonawczej» («уставов о ее выполнении») и их одобрения сеймом [Ibid., 366]. Очевидно, таким способом был бы защищен «pospolity pokój» («мир в Польше»).
Эти наблюдения К. Лепшего существенно дополнен анализом всего известного материала на данную тему в инструкциях сеймиков 90-х годов XVI в. в работе Е. Опалиньского [Opaliński 1989, 33–34]. В 1587–1597 гг. в 15 из них (в ряде случаев неоднократно) содержалось осуждение «погромов» и требование принятия мер для наказания их участников. Характерно, что не обнаружено ни одной инструкции, составители которой пожелали бы взять под защиту участников «погромов». Причастность к ним низов городского населения не могло вызывать положительной реакции шляхты. Очевидно, в то время основная масса представителей дворянского сословия Речи Посполитой их осуждала.
Эти особенности сложившегося в Речи Посполитой социально-политического положения позволяют лучше понять специфику ряда сочинений, появившихся в разных слоях общества в связи с событиями 1592 г. и содержавших представления о желательном характере межконфессиональных отношений в стране.
Особое место среди них занимает написанное Петром Скаргой «Upominanie do ewanjelików i do wszystkich spolem niekalolików» («Напоминание протестантам и всем вообще некатоликам»), напечатанное в 1592 г. одновременно в Кракове и в Познани 1.
П. Скарга, видный деятель ордена иезуитов, придворный проповедник короля Сигизмунда был одним из главных идеологов Контррефомации, боровшийся за утверждение в Польско-Литовском государстве католицизма как единственного вероисповедания. Что же побудило его обратиться к некатоликам своего государства?
Разумеется, обращение содержало призывы к утверждению религиозного единомыслия в Речи Посполитой. Представляет интерес аргументация автора в этом тексте. Он утверждал, что существование в стране разных вероисповеданий ведет к тому, что появляется и «różne o rzeczach swieckich rozumienie» («разное понимание светских дел»), за которым следуют конфликты, отсутствие подчинения и уважения к власти и упадок государства. Этим предостережением текст и заканчивается 2. Таким образом определяется адресат «Напоминания» – светская дворянская среда, от которой и зависела судьба государства. Однако дело не ограничивалось этими призывами, достаточно обычными для публицистики католического лагеря.
Главная мысль П. Скарги состояла в другом. Он считал, что погром протестантского храма в Кракове дал возможность протестантам говорить о том, что католики не хотят с ними мира и доброго соседства и хотят «разливать нашу кровь» 3. Это-то мнение П. Скарга и старался опровергнуть.
Правда, он, как справедливо отметил М. Королько 4, отверг Варшавскую конфедерацию как договор о согласии между конфессиями, ее не приняла и Католическая церковь 5. Однако одновременно с этим в тексте П. Скарги указывалось, что католики и не думали разрывать «соседского мира» и предпринимать враждебные действия. Одобрялось обязательство короля в коронационной присяге соблюдать «pacem inter dissidentes in religione» («мир между несогласными в религии»). В случае возникновения конфликтов между протестантами и католиками король обязан был способствовать установлению мира 6. «Zle hereticwa ale sąsiedzi i bracia dobry, z ktorymi sie w jednej ojczyźnie powiązala milość» («Злы еретичества, но соседи и братия – добрые, с которыми в одном отечестве (нас) связала любовь») 7.
По отношению к «братьям»-еретикам возможны только средства «духовной войны», тогда протестанты будут обращены в истинную веру без войны и кровопролития, «bez domowych rozruchów» («без домашних волнений») 8.
П. Скарга приложил усилия, чтобы уменьшить значение такого события, как разрушение краковского «збора». По его мнению, это сделали «слабые» католики, они разрушили «збор», но не убивали людей, и никто их не побуждал к таким действиям. «To glupich tumult, którego żadny baczny katolik nie chwali» («Это погром глупых, который ни один католик не хвалит») 9.
В виду отсутствия как враждебных планов, так и враждебных действий католиков по отношению к протестантам, не было никаких оснований устраивать из-за разгромленного одного «збора» дворянские съезды без санкции королевской власти, провоцировать раздоры между «станами коронными» 10. Большинство католиков, несмотря на то что протестанты захватили многие их храмы вместе с имуществом, соблюдают с ними мир, «milchąc i czerpiąc» («молча и терпя») 11.
Особенности повествования П. Скарги, дают возможность сделать вывод, что предпринятые попытки осуществить на польской почве программу Контрреформации – утверждение единомыслия с помощью насилия – вызвали в дворянской среде столь сильную отрицательную реакцию, что автору пришлось выступить от имени Католической церкви, заверяя, что она призывает лишь к мирному сожительству с протестантами и только за «духовную войну» с ними.
Текст П. Скарги – достаточно показательное свидетельство силы протестантской оппозиции в начале 90-х годов XVI в. Как представляется, он был вынужден прибегнуть к таким аргументам и потому, что нападения на «зборы» вызвали отрицательную реакцию не только протестантской, но и католической шляхты 12. Эту сторону дела П. Скарга, вероятно, сознательно обошел молчанием. Ряд важных свидетельств на этот счет обнаруживаются в другом тексте, вышедшем из католического лагеря в связи с событиями 1591 г.: «Przestroga dla katolików w zachowaniu z heretyki» («Предостережение для католиков в обращении с еретиками») 13. Автор выразил опасения, что среди католиков могут найтись люди, которые протестантам «na duchownych pomagać będą» («будут помогать против духовных») 14. Могут быть и такие, кто помогает протестантам в организации съездов и дает им советы 15. Есть и католические шляхтичи, которые присваивают церковные десятины не только в своих имениях, но и на государственных землях, находящихся под их управлением 16. В тексте имеется и выпад против «светских панов», для которых «policja» – светский порядок – значит больше, чем «kościoł», для которых важен прежде всего мир и «хорошее имение» 17.
Эти замечания ясно показывают, с какими затруднениями столкнулись сторонники Контрреформации, желая привлечь на свою сторону католическую шляхту.
Как и Скарга автор «Предостережения» отверг Варшавскую конфедерацию и настаивал на том, что установление мира должно сопровождаться возвращением захваченной протестантами церковной собственности 18.
Вместе с тем он считал нормальным существование «соседского мира» между протестантами и католиками, который сложился еще до появления Варшавской конфедерации и предусматривал право протестантов «верить как хотят» 19. Текст содержит предостережения по поводу контактов с протестантами, но при этом автор утверждал, что католики не будут устраивать «волнения» («rozruchy»), так как их побуждает к установлению мира любовь к братьям («milość ku braciej») 20.
В одном из мест текста специально говорится, что католики в этом государстве не могут избегать контактов с протестантами «dla ludzkości i milości ku nim» («ради человечности и любви к ним»), с надеждой на их обращение. Текст заканчивается словами: «Kościol z nim towarzystwa nie zakazuie» («Костел не запрещает товарищеских отношений с ними»).
В искренности автора «Предостережения» можно сомневаться. Из некоторых пассажей его текста видно, что, по его мнению, утверждение «соседского мира» возможно лишь при выполнении значительной части программы Контрреформации: возвращение католической церкви ее храмов и имущества, удаление из городов протестантских «министров», восстановление юрисдикции церковных судов 21. Вместе с тем очевидно, что для того, чтобы убедить читателя-дворянина в добром намерении католической стороны, он обращался к представлениям о межконфессиональном мире характерным именно для дворянской среды, заверяя, что церковь их разделяет. Тексты П. Скарги и автора «Предостережения» наглядно показывают с какими сложностями в восприятии конфессиональных проблем дворянским обществом пришлось столкнуться приверженцам Контрреформации, когда они попытались заручиться его поддержкой и избежать отрицательных последствий для своей церкви.
Вместе с тем, несмотря на сильное сопротивление в этой среде, оба автора полагали, что в будущем положение изменится. Обращаясь к протестантам, П. Скарга выразил надежду, что «дети ваши разуму вас научат» и многие уже привели своих отцов к Христу 22. Автор «Предостережения» также утверждал, что нижняя палата сейма – посольская изба – не находится уже под таким сильным влиянием протестантских послов, как ранее 23. Надежды явно возлагались на то, что со временем в дворянской среде главную роль станут играть воспитанники иезуитских училищ. Но это были надежды на будущее, а в начале 90-х годов XVI в. приходилось считаться с иным положением вещей и заявлять, как уже отмечалось выше, что католическая сторона принципиально воздерживается от насилия по отношению к инакомыслящим.
Сохранившиеся источники позволяют судить о том, как реагировала на положение дел протестантская сторона. В Познани в том же 1592 г. был напечатан полемический ответ (Respons) на обращение П. Скарги 24. Уже первые слова этого текста показывают, что идеолог Контрреформации не смог убедить протестантов в мирных намерениях католического лагеря. В его сочинении – указывалось в Respon’se – под овечьим руном скрываются волчьи зубы 25: он призывает к прекращению волнений и установлению мира, но хочет такого мира, при котором католическая церковь будет господствовать над верой и сомнениями людей, а тех, кто не согласится с ее решениями, будут осуждать и «подавать под меч» 26.
В ответном произведении протестантов утверждалось также, что, выступая против Варшавской конфедерации, П. Скарга разрушает стены посполитого коронного мира, чтобы в Речи Посполитой сложилось такое же положение, как в годы религиозных войн во Франции. Он якобы хочет только «духовной войны», но на деле думает о настоящей войне и готовится к ней, предлагая своим приверженцам, чтобы «miecze swe po kainowski jako najpredzej gotowali» («мечи свои скорее по-каиновски готовить») 27.
Таким образом, сторонники Контрреформации, несмотря на все их мирные декларации, характеризовались как желающие силой навязать свою веру инакомыслящим, не останавливаясь перед войной. Такие обвинения должны были оттолкнуть от П. Скарги и его сторонников массы шляхты разных конфессий, придерживавшейся иных взглядов на характер межконфессиональных отношений.
Однако этим протестантский автор не ограничился. Он обвинил Скаргу в том, что тот выступает против шляхетских «вольностей», он и его приверженцы стремятся к установлению в Речи Посполитой абсолютной власти монарха – приверженца католицизма, «wszystkie stany po hiszpansku zniewoliwszy» («все сословия по-испански сделав несвободными») 28. Такие упреки должны были лишить П. Скаргу и других католических идеологов всякой поддержки в дворянской среде. Обвинение получило обоснование в ряде разделов в Respon’se, в частности, в том, где разбиралось утверждение П. Скарги, что протестанты в своих усадьбах на территории королевских городов не могут «bawić się religią» («развлекаться религией»).
Протестантский автор подчеркнул законность права шляхтича в своем доме «do slużenia Bogu» («проводить службы Богу»). Более того – это важнейшая часть («najprzedniejsza rzecz») дворянских вольностей, за которую лучше умереть, чем ее утратить 29.
Он акцентировал внимание на том, что «народу во всем свободному» его правители, что касается веры и убеждений, никогда не чинили насилия и не запрещали богослужения. «Прелаты» захотели изменить этот порядок, но они не должны «разрушать ничьей вольности» 30. Очевидно, эти слова автор адресовал не только протестантским дворянам, а ко всей дворянской массе, заинтересованной в сохранении своих «вольностей». Католики-шляхтичи должны были бы понять к каким последствиям для их «вольностей» ведут действия приверженцев Контрреформации.
Помимо вопроса о «вольностях» и их судьбе в реакции на выступление П. Скарги большое место занял вопрос о сохранении стране межконфессионального мира.
При рассмотрении этой темы автор Respons отталкивался от высказываний П. Скарги о том, что католическое духовенство не может одобрить Варшавскую конфедерацию, так как она лишает Католическую церковь права «карать» еретиков 31. Он разъяснил, что с последователями ложных учений следует бороться вплоть до изгнания их из общины и разрыва контактов подобно тому, как поступили кальвинисты с арианами, но эта борьба должна вестись «мечом духовным». Учение Христа «nie każe o ich bląd na gardle karać» («не требует наказывать за ошибку»), т. е. за взгляды подвергать еретиков смертной казни. С ними приходиться сосуществовать 32.
П. Скарга убеждал читателей, что наличие в государстве разных конфессий провоцирует конфликты в решении и «светских» вопросов, что ведет к упадку государства 33. Протестантский же автор считал, что к такой ситуации ведет стремление преодолеть разногласия именно «мечом» и карательными мерами 34. В Польше началу гражданской войны препятствует конфедерация – соглашение о мирных отношениях между приверженцами разных конфессий, что она предотвратит «домовые войны» 35. Характерно, что он осудил преследования католиков в Германии, Франции, Швеции, но полагал при этом, что в Польше существование конфедерации обеспечит мир, чтобы такое зло не касалось «ani ewangelika ani katolika» («ни протестанта, ни католика») 36. Таким образом, и в этой части автор фактически обратился к шляхте разных конфессий, полагая, что все эти люди в равной мере заинтересованы в том, чтобы избежать бедствий войны, вызванных религиозной нетерпимостью. Очевидно стремление объединить под понятными лозунгами сохранения «вольностей» и «мира» всю дворянскую массу для отпора наступлению сторонников Контрреформации.
Резкая, бескомпромиссная позиция по отношению к П. Скарге и его сторонникам опиралась, как представляется, на убеждение автора-протестанта, что все шляхтичи вне зависимости от религиозной принадлежности желают сохранения межконфессионального мира в своей среде и не хотят конфликтов между «братьями». Обращаясь к П. Скарге и его сторонникам, он выразил убеждение, что «cnotliwy Polak» (добродетельный поляк), человек «шляхетной и рыцарской крови» не позволит и себя «обмануть» (omamić) 37.
Говоря о желаниях П. Скарги и его сторонников добиться того, чтобы король протестантов «dla wiary […] karal» («карал […] за веру»), автор отметил, что об этом «не мыслят» «bracia nasza katolicy, ludzie świecky» («братья наши католики, светские люди») 38.
Хорошо известно, что в дворянской массе Польского королевства протестанты составляли очевидное меньшинство. В таких условиях решения в 1591 г. предсеймовых сеймиков многих воеводств Польского королевства о необходимости дополнить акт Варшавской конфедерации инструкцией о применении ее норм на практике очевидно говорят о том, что такие представления протестантского публициста имели точку опоры в исторической реальности начала 90-х годов XVI в.
Сохранился источник, который в определенной мере проливает свет на взгляды той части католической шляхты Польского королевства, которая выступала за сотрудничество с протестантами ради сохранения межконфессионального мира.
Выше упоминалось «Предостережение», адресованное католическим шляхтичам публицистом-сторонником Контрреформации. Еще один ответ на этот текст появился под названием «Na przestrogę do katolików uczynioną katolik odpowiada» («На предостережение католикам католик отвечает») 39.
Общий смысл этого произведения состоит в том, что его автор отверг советы оппонента, отказался участвовать «в кровавом предприятии» духовных лиц и намеревался вместе с протестантами утвердить межконфессиональный мир, не допустить его нарушений и подвергнуть нарушителей наказанию 40.
Текст представляет собой мотивацию такого решения: в сознании католической шляхты сохранялось проявившееся в эпоху Реформации отрицательное отношение к увеличению земельной собственности Церкви и ее усилиям, направленным на рост церковных доходов. Благодаря заупокойным вкладам к церкви перешла половина «dziedzictw naszych» («наших наследных владений»), благодаря чему Церковь сосредоточила в своих руках в два раза больше земли, чем у всех шляхтичей вместе с королем, но этого духовным лицам мало, и они требуют еще и «десятин» 41, чем демонстрируют неприязнь (niechęć) к шляхетским «вольностям» 42.
Вызывали отрицательную реакцию и притязания духовенства на более высокое положение в обществе по сравнению со шляхтой, его претензии на руководство духовной жизнью шляхты. Показательна в этом плане реакция автора «На предостережение католикам» на ссылки автора «Предостережения» на то, что Варшавскую конфедерацию осудил синод польской католической церкви в Пéтркове в 1577 г. Он выразил возмущение тем, что для решения такого вопроса духовные лица cобрались, не ставя в известность «сынов коронных», и на этом «приватном» съезде выступили против мира установленного «всей Короной» 43.
Католическая церковь добивалась возвращения утраченных во время Реформации костелов и десятин и восстановления обязанности государственных органов выполнять решения церковных судов и обратилась к католической шляхте за поддержкой, но автор ответа отверг эти требования 44.
В тексте «На предостережение католикам» протестантские шляхтичи Польского королевства характеризовались, как «братья» шляхтичей-католиков, их родственники и «добрые соседи» 45. Одновременно они выступали как члены одного дворянского сословия, заинтересованного в том, чтобы пользоваться своими сословными правами в полном объеме.
Адресованное шляхте требование отдать католическому духовенству храмы воспринималось так же, как и автором Respons, покушением на шляхетскую «вольность» не только протестанта, но и католика, ставилось под сомнение его «ius patronatus» («право патроната») над храмом в своем имении. В случае принятия этого требования протестантский публицист обещал вместе с протестантским «братом» осуществить «do prawa […] z nim jachać u dopomagać mu, żeby nie był oprzymowan» («право […] с ним ехать и помогать ему, чтобы не был угнетен») 46.
И в предложении вернуть церковным судам право наказания еретиков автор «На предостережение католикам» 47 также видел покушение на сословные права его «братьев»-протестантов – «pozwami brata moego ewanegelika o wiarę i wolność jego tubrbować nie będziecie» («вызовами в суд брата моего протестанта из-за веры и свободы его не будешь беспокоить»), – писал он, обращаясь к автору «Предостережения» и его единомышленникам 48.
Если из-за попыток сторонников Контрреформации осуществить свои требования в стране начнется гражданская война, то, как заявил автор, он либо не будет в ней участвовать и убивать родственников и соседей, либо даже может вступить в войну на стороне протестантов «do poratowania powinnych a milych moich» («для спасения родственников и любимых моих») 49. В целом потенциальную войну он расценивал как страшное бедствие, грозящее упадком и церкви, и государству, которое захватят османы 50.
Как единственную возможную альтернативу такому финалу автор выдвинул идею межконфессионального мира, о реальности которого, по его мнению, говорят не только установление карательных санкций по отношению к нарушителям Варшавской конфедерации, но и отторжение протестантскими «министрами» учения ариан – радикального направления Реформации, близкого к иудаизму и исламу и признание ими факта, что в католическом вероучении «wstał fundament prawdziwego wyznania o majestacie Boskim» («сохранился фундамент правдивого исповедания о величии Божьем») 51, т. е. учения о божественной природе Христа. В этой связи автор «На предостережение католикам» отверг советы автора «Предостережения» избегать бесед о вере с протестантами и наоборот призвал вести беседы о наилучшем пути на Небо 52.
Таким образом, текст ответа позволяет понять мотивацию решений дворянских сеймиков во время событий 1591–1592 гг. Несмотря на имевший место рост численности сторонников католического вероучения и католическая, и протестантская шляхта воспринимали себя, как единую общность, заинтересованную в сохранении и расширении своих сословных прав. Попытки сторонников Контрреформации вернуть присвоенную протестантами-шляхтичами церковную собственность воспринимались в этой среде, как покушение на шляхетские «вольности» и попытки возобновить сбор «десятин». Актуальным становился вопрос о защите прав протестантов всем дворянским сословием.
Еще более сильную негативную реакцию вызвали сообщения о разгромах протестантских «зборов» в польских городах. Убедить шляхту разных конфессий в том, что католическое духовенство не имеет к ним никакого отношения не удалось. Автор ответа на «Предостережение», католический шляхтич, отметил, что духовные лица – мастера переложить ответственность с себя «na dzieci a hultajstwo» («на детей и бродяг») 53.
Происшедшее было явно воспринято как шаг, ведущий к гражданской войне, вызванной стремлением установить религиозное единомыслие с помощью насилия. Шляхту отталкивали от такой перспективы не только бедствия войны, но и нежелание конфликта с членами своего сословия («братьями»), добрыми соседями и родственниками. Отсюда требования дворянских сеймиков дополнить акт Варшавской конфедерации постановлением, устанавливавшим санкции для нарушителей межконфессионального мира.
В итоге, на пути к достижению Контрреформацией своих целей в Польском королевстве встали особенности сознания польского дворянского общества. Чтобы достичь своей цели идеологи Контрреформации должны были преодолеть эти препятствия.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Korolko M. Klejnot swobodnego sumienia. Polemika wokół konfederacji warszawskiej w latach 1573– 1648, Warszawa: Pax, 1974 426 s.
1 Публ. текста: Korolko 1974, 177 ff.
4 Ibid., 97.
5 Ibid., 180 ff.
6 Ibid., 189.
7 Ibid., 192.
12 Показательным примером могут служить высказывания такого видного политического деятеля-католика, как Ян Замойский.
13 Korolko 1974, 199 ff.
14 Ibid., 203.
15 Ibid., 206.
17 Ibid., 208.
18 Ibid., 203.
19 Ibid., 199, 204.
20 Ibid., 202.
22 Ibid., 192.
23 Ibid., 212–213.
25 Ibid., 219.
27 Ibid., 220–221. См. также утверждение, что сторонники контрреформации хотят, чтобы их приверженцы «kalali ręce swe we krwi ewanjelików braci swoich» («купали руки в крови протестантов – братьев своих»). (Ibid., 223).
28 Ibid., 220.
31 Ibid., 181–182.
34 Ibid., 229.
38 Ibid., 239.
40 Ibid., 257–258.
42 Ibid., 251. Говоря о таких требованиях, автор написал, что при этом «pomogł bych bratu ewangelikowi […] przeciwko wam» («помог бы брату протестанту […] против вас»).
44 Ibid., 251.
45 Ibid., 251, 252, 254, 257–258.
47 Ibid., 249.
48 Ibid., 257.
51 Ibid., 253.
Об авторах
Борис Николаевич Флоря
Институт славяноведения Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: ritlen@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-0779-2488
доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, зав. отделом
Россия, МоскваСписок литературы
- Lepszy K. Rzeczpospolita Polska w dobie Sejmu Inkwizycyjnego (1590–1592). Kraków, Nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, skł. gł. w księg. Gebethnera i Wolffa, 1939, 428 p.
- Opaliński E. Sejmiki szlacheckie wobec kwestii tolerancji religijnej w latach 1587–1648. Obrodzenie i Reformacja w Polsce t. ХXIV. Wrocław etc. Wyd. PAH, 1989, pp. 21–40.