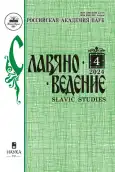The Image of Alexander Menshikov in the «Polish Iliad» of Janusz Wiśniowiecki
- Autores: Kochegarov K.A.1
-
Afiliações:
- Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences
- Edição: Nº 4 (2024)
- Páginas: 38-50
- Seção: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/265132
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24040041
- EDN: https://elibrary.ru/WXJAPL
- ID: 265132
Texto integral
Resumo
The biography of Alexander Menshikov is one of the most popular topics among the scholars, who deal with the Peter the Great’s epoch. The main reason for this is his rapid climbing up the social ladder, when the Tsar’s favorite tried to prove his noble origin. Accordingly, it caused the early emergence of different myths and legends, concerning the Menshikov’s youth, the beginning of the friendship between him and Tsar Peter I. At the same time many disputable episodes of his biography remain unclear and obscure. «Ilias Polski» («The Polish Iliad»), the memoirs of the Polish aristocrat Janusz Wiśniowiecki contain some new facts about Menshikov’s biography, supplement the evidences, which were known before as well as describes his ambiguous role in the Russian-Polish relations during the Second Northern War 1700–1721. Wiśniowiecki doubted the Menshikov’s noble origin and described some cases that confirm his greed and arrogance. At the same time the author stressed his bravery, fidelity to Tsar Peter the Great, military aptitude and recognizes the favorite’s support in the case of release of his brother, the great hetman of the Grand Duchy of Lithuania, Michał Serwacy Wiśniowiecki from the Russian captivity.
Texto integral
Стремительный взлет одного из выдающихся деятелей Петровской эпохи – царского фаворита Александра Меншикова, бывшего на протяжении многих лет начала XVIII в. фактически вторым человеком в государстве, вызывал и вызывает неизменный интерес к его жизнеописанию в самые разные эпохи. Биографов светлейшего князя либо даже тех авторов, кто обращался к перипетиям его жизни в рамках более масштабных сюжетов, касавшихся эпохи царя-преобразователя, неизменно интересовали детали происхождения А. Д. Меншикова, те обстоятельства, которые позволили ему стать правой рукой Петра Великого, оценки личности фаворита современниками и его взаимоотношения с царем.
Экскурсы в биографию Меншикова возникли уже при его жизни, в первом десятилетии XVIII ст., будучи обусловлены конкретными причинами, в частности получением Меншиковым сначала графского, затем княжеского достоинства Священной Римской империи и, наконец, титула светлейшего князя Ижорского. Изгнанный из России несостоявшийся воспитатель царевича Алексея Петровича Мартин Нейгебауэр усиленно распространял в брошюрах и листовках известия о низком происхождении Меншикова, бывшего якобы сыном пирожника и ставшего царским любовником. С этими наветами путем другой пропаганды боролся новый воспитатель царевича и литературный агент царя Генрих фон Гюйссен, представлявший и защищавший интересы России в европейской печати. Он в брошюрах утверждал, что Меншиков происходил «из доброй дворянской фамилии, хорошо известной в Литве», а отец его был «обер-офицером Семеновского полка на службе его царского величества» (подробный разбор и анализ данных текстов см.: [Беспятых 2005, 47–51]; цитаты взяты из этого издания).
Первая более-менее полная биография Меншикова, хотя и в весьма беллетризированном виде вышла в 1710 г. в Париже и была написана не позднее 1709 г. Этот популярный текст «татарской истории» о князе Кушимене (анаграмма, читающаяся как Меншику или Меншиков) хорошо известен в науке 1. Будучи написан французским инженером Жозефом Гаспаром Ламбером де Герэном, некоторое время служившим в России, он стал основой для множества последующих биографических штудий о Меншикове [Беспятых 2005, 51–55; Мезин 2024, 471–485]. Именно этот труд стал источником некоей общей, канонической версии ранней биографии Меншикова – мальчика-пирожника со звонким голосом, который приглянулся сподвижнику Петра Великого Францу Лефорту, а затем благодаря своим талантам, энергичности и предприимчивости стал «комнатным слугой» самого «великого хана» Принадора (царя Петра). В дальнейшей истории Кушимена центральное место занимали два эпизода. Первый касался заговора против царя сторонников отстраненной от власти принцессы Маринды (прототипом выступила царевна Софья), среди которых был и некий князь Дамилко, в дочь которого был влюблен Кушимен. Дамилко пытался вовлечь Кушимена в заговор, обещая ему руку дочери, но последний в итоге выдал заговорщиков хану. Второй сюжет – это ложное обвинение Принадором своего сына в заговоре с приказом казнить его. Организация казни была поручена Кушимену, но тот благодаря своей ловкости сумел заменить приговоренного на смерть принца добровольцем из числа драгун, который выразил готовность пожертвовать собой ради юного ханского сына. Наутро после казни, когда великий хан очень горевал из-за случившегося, Кушимен заявил, что сын его на самом деле жив, чем заслужил безмерную благодарность и доверие со стороны правителя 2. Самой истории о несостоявшейся казни принца предшествовал эпизод с погромом униатского монастыря св. Василия в дружественной хану стране – Великом княжестве Битании 3, в котором легко узнается реальный инцидент в г. Полоцке 1705 г., когда Петр и его сподвижники расправились с несколькими униатскими монахами (см. об этом подробней далее).
Крайняя скудость данных о ранней биографии А. Д. Меншикова, вызывающая в том числе ожесточенные дискуссии историков о его происхождении (cм., например, [Есипов 1875, 233–236; Павленко 1981, 5–16; Беспятых 2005, 47 и след.] и др. работы) делает, безусловно, для любого исследователя жизни и деяний царского фаворита весьма ценными любые иные свидетельства, касающиеся его юности и начала карьеры. Одним из таких источников, остававшихся неизвестным отечественным ученым является недавно опубликованное сочинение «Ilias Polski» («Польская Илиада»), написанное в конце 1711–1712 г. Его автором, как относительно недавно выяснил польский исследователь Пшемыслав Романюк, стал воевода виленский, а с 1706 г. – краковский Януш Антоний Вишневецкий. Сама рукопись является изложением общественно-политических событий истории Речи Посполитой конца XVII – первого десятилетия XVIII в., в которых Я. А. Вишневецкий принимал самое непосредственное участие. Она еще во второй половине XIX в. стала достоянием польской историографии, но досконально исследована и издана была совсем недавно 4. С началом Северной войны 1700–1721 гг. в составе политической группировки литовских республиканцев Вишневецкий вместе с братом, великим гетманом Михалом Сервацием, поддержали Россию, в том числе и после вторжения Карла XII в Речь Посполитую. Однако в середине 1707 г. братья перешли на сторону шведов и их ставленника Станислава Лещинского, порвав с царем Петром.
Автор «Польской Илиады» практически не дал пространных биографических заметок об исторических деятелях, с которыми сводил читателя в ходе повествования. Чуть ли не единственным исключением стал А. Д. Меншиков, описанию головокружительной карьеры которого Вишневецкий посвятил почти страницу рукописи.
Сведения, сообщаемые Вишневецким, частично перекликались с сюжетами, отраженными в памфлетах Нейгебауэра и Гюйссена, и особенно – в истории князя Кушимена, добавляя в них ряд новых красок и штрихов, но не только. Некоторые известия уникальны и возможно могли быть почерпнуты в ходе личного общения с представителями царского окружения и в том числе с самим фаворитом. Януш Вишневецкий, в частности, упомянул о доверительном общении с неким «знатным гетманом (военачальником. – К.К.) Московской монархии» (Б. П. Шереметевым?), который рассказал ему историю о якобы умышленном отказе В. В. Голицына от штурма Перекопа в 1689 г.; писал о своей дружбе с А. Д. Меншиковым и покровительстве с его стороны (применительно к 1709 г.); сообщал о получении от «московских людей» (надо думать, из царского окружения) конфиденциальной дипломатической информации относительно попыток Станислава Лещинского установить контакты с Крымом 5. Указанные примеры свидетельствуют, что информацию о происхождении Меншикова Вишневецкий вполне мог почерпнуть не только из памфлетов и листовок, касавшихся личности фаворита, или из циркулировавших в среде польско-литовской аристократии слухов, но и от лиц из царского окружения, в том числе самого светлейшего князя.
Александр Меншиков (в польскоязычном оригинале – Mężyk) появился на страницах «Польской Илиады» в 1705 г. в связи с его приездом в Вильну 6. На военную помощь царского фаворита как раз рассчитывали сторонники царя в Великом княжестве Литовском. В связи с этим Вишневецкий довольно подробно изложил те биографические сведения о Меншикове, которые были ему известны. По словам литовского магната, он был человеком «мещанского происхождения, хотя хотел слыть польским шляхтичем». Здесь Вишневецкий вспомнил литовский род Менжиков с гербом, украшенным головой зубра (герб «Венява»), ошибочно причисляя к нему первого известного русского воеводу Яна Менжика с Домбровы, который умер в 1437 г. (т. е. не во время правления Александра Ягеллончика, как писал Вишневецкий). Впрочем, и указанный Менжик носил герб не Венява, но Вадвич (на эти ошибки автора «Польской Илиады» указали издатели). Излагая эту версию как циркулирующую в общественном сознании, далее Вишневецкий выразил сомнение в том, что царский фаворит мог принадлежать к указанному благородному дому, тем более что о Меншикове говорили, будто он сын пекаря. Сам же фаворит настаивал на том, что отец его в детском возрасте был взят в плен в ходе русско-польской войны 1654–1667 гг. в районе Люблина, как пленник уже в юном возрасте искал средства к существованию и поселился в Москве, зарабатывая чем мог 7.
Вишневецкий, как видно, колебался, но скорее сомневался в шляхетском происхождении Меншикова (и сама путаница на страницах его сочинения относительно польско-литовских Менжиков весьма показательна), представляя эту версию как сфабрикованную самим фаворитом и активно им пропагандируемую 8. Помимо описания происхождения, в сочинении Вишневецкого содержится ряд анекдотов о ранней биографии Меншикова.
Алексей Толстой в популярном романе показал Меншикова подростком, мастерски протыкавшим иглой щеку 9. Вишневецкий же утверждал, что будущий фаворит привлек внимание царя своим умением… свистеть – «ибо как в Московском государстве бывают расставлены почтовые станы, – написал Вишневецкий, – то он имел такое счастье, что служа кучером на одном из них, так ловко управлял лошадьми при помощи свиста, что тем самым обратил на себя внимание молодого царя, который распорядился, чтобы именно Меншиков возил его постоянно» 10. Здесь нельзя не вспомнить, что в официальном жизнеописании и генеалогии А. Д. Меншикова искусным стременным конюхом именуется его отец, который служил у царя Федора Алексеевича 11. Известна также запись 13 октября 1689 г. о «словесном челобитье потешного конюха (курсив мой. – К.К.) Данила Меншикова» на оброчного крестьянина Новодевичьего монастыря К. Иванова [Дегтярев, Лавров 2019, 277–280] 12, а автор известных записок К. Г. Манштейн прямо писал, что и сам Меншиков был царским конюхом 13.
Со временем будущий светлейший князь записался в царскую «гвардию» и здесь вновь обратил на себя внимание тем, что добросовестно стоял на караулах, с готовностью заменяя других при необходимости. Наконец, прикинувшись невеждой, он предупредил царя о некоем заговоре 14. Последнее известие как раз не уникальное, информация о спасении Меншиковым персоны монарха от заговора (И. Е. Цыклера и А. П. Соковнина в 1697 г.) была в нарративах жизни светлейшего князя достаточно распространена. Первоисточником ее несомненно служит сюжет, представленный в повести о Кушимене. Нельзя в данном случае также не указать на упоминание о раскрытии заговора 1697 г. в официальном жизнеописании и генеалогии А. Д. Меншикова, хотя и без каких-либо деталей: «Его светлости должны быть известные многие подробности, необходимые для прояснения этого дела» 15.
А вот еще один анекдот также уникален, как и история об умении фаворита мастерски свистеть. Во время Великого посольства Петр якобы сильно заболел – все тело царя покрылось язвами (в оригинале: «zachorował na wrzody»). Самодержец так страдал, что никто не решался приступить к нему, и только Александр Данилович не отходил от царя с ущербом для собственного здоровья. «Едва сам не умер» – написал Вишневецкий, но «своей услугой помог цесарю выздороветь». Это окончательно предопределило превращение Меншикова в ближайшего друга, советника и «posesora serca» («властелина сердца») самодержца 16.
Вскоре после этого приключилась другая трагедия, в которой Меншиков сумел проявить себя. Во время одной из пирушек Петру, уже находившемуся в состоянии опьянения, сын Алексей начал напоминать о сосланной в монастырь матери – царице Евдокии Федоровне (и, видимо, попрекать отца этим поступком). Рассвирепевший Петр якобы приказал его расстрелять, но Меншиков вывел в поле «иного преступника, какого в Москве нетрудно найти, и убил его, бросив тело в реку». Когда царь протрезвел, он вспомнил о том, что натворил и начал причитать в отчаянии, однако появившийся немедленно Меншиков успокоил монарха, предъявив живого и невредимого сына, чем, по словам Вишневецкого, еще больший кредит себе сыскал 17. Здесь нетрудно увидеть параллель с историей о казни сына, изложенной в повести о Кушимене, однако сюжет Вишневецкого выглядит гораздо более реалистично: Петр не подозревает сына в заговоре, не строит ему эшафот и т. д., а само описание монаршего гнева с приказом расстрелять Алексея Петровича вполне сочетается с известными примерами импульсивности царя и его способности к необдуманным и грубым поступкам, особенно под воздействием алкоголя.
Легенда о казни сына появилась на страницах труда Вишневецкого при описании событий 1705 г. Примечательно, что именно в ноябре 1705 г. русский посол в Париже А. А. Матвеев писал руководителю русской внешней политики Ф. А. Головину о пришедшем ко французскому двору из Польши слухе, как великий государь «при забавах некоторых разгневался на сына своего». Причина царского гнева на Алексея указана не была. Далее царь «велел его принцу Александру казнить, который умилосердяся над ним, тогда повесить велел рядового солдата вместо сына». Наутро Меншиков предъявил царевича Петру I, который «от печали будто был вне себя», и это «учинило радость неисповедимую ему» [Чистов 1967, 115–116] 18. Донесение А. А. Матвеева ввел в научный оборот С. М. Соловьев, полагавший что перед нами «перевод народной русской песни об Иване Грозном, приложенной теперь к Петру» [Соловьев 1993, 56]. К. В. Чистов справедливо раскритиковал эту точку зрения, но обратил внимание на бытование уже в 1705 г. слухов, связанных с гневом Петра на сына в связи с тем, что царевич Алексей хотел ехать в монастырь к матери в Суздаль [Чистов 1967, 117], что находит параллели в сообщении автора «Польской Илиады». Вне зависимости от того, была история о мнимой казни царского сына совершенным вымыслом или имела в основе какие-то реальные события, версия, изложенная Вишневецким, судя по всему, является наиболее законченным и аутентичным ее изложением, почерпнутым возможно от кого-то из представителей царского окружения, либо от других литовских магнатов, тесно взаимодействовавших с русской стороной (литовский подскарбий Л. Потей, польный литовский гетман Г. Огинский). И уже через их посредничество она довольно скоро попала во Францию.
Завершая рассказ о Меншикове, литовский магнат дал общую характеристику фаворита: «Человек ловкий, способный, умевший вовремя занять нужную позицию, с готовностью взявшийся за реформу армии, что очень нравилось царю, который с грубиянского народа хотел сделать народ политичный» 19.
А. Д. Меншиков неоднократно появлялся на страницах «Польской Илиады» при описании различных событий. И хотя в этих случаях Вишневецкий не давал его личности прямых и однозначных оценок, само повествование в целом формирует образ человека жестокого, алчного до богатств и почестей, надменного и спесивого.
Польские вельможи прекрасно понимали близость Меншикова к царю и всячески старались расположить фаворита к себе. Осенью 1705 г., когда царь двигался в Тыкоцин, на Подляшье, Меншиков появился раньше его и был «принят со всевозможной щедростью» коронным подканцлером Яном Шембеком. Вскоре прибыл и Петр I, торжественно встреченный великим гетманом литовским Михалом Сервацием Вишневецким в лагере недалеко от Тыкоцина 10 октября 1705 г. (н. ст.). Царь объехал построенное для приветствия литовское войско, которое удостоилось похвалы русского самодержца. После этого начался банкет, длившийся до ночи 20.
Несмотря на заискивание польских вельмож, Меншиков порой вел в отношении них себя довольно резко, особенно чувствуя поддержку царя. Осенью 1709 г., во время пребывания царя в Люблине, уловив «недоброе» отношение самодержца к коронному гетману Адаму Миколаю Сенявскому, Меншиков с ним открыто поссорился 21. Близость царя и Меншикова, провоцировавшая ощущение фаворитом своей безнаказанности и вседозволенности, характеризует другая история. 23 ноября (3 декабря) 1705 г. в Гродно царь дал банкет в честь именин своего любимца, в котором участвовал сам король Речи Посполитой Август II и многие польско-литовские вельможи. Празднество длилось несколько дней, при этом не обошлось без досадных инцидентов. Первый из них продемонстрировал известную горячность самого Петра I. Литовский подканцлер С. А. Щука по каким-то причинам отказался пить на банкете. Этим он вызвал гнев самодержца, и так враждебно относившегося к подканцлеру из-за того, что в пору переговоров о союзе с Августом II он выступал за сближение с Бранденбургом-Пруссией, а не с Россией. Польский король, стремясь погасить конфликт, с одной стороны, снял со своей груди орден Белого орла и пожаловал его подканцлеру, а с другой – сумел успокоить разгоряченного Петра. Пир продолжился.
В этот же или в один из последующих дней Август II, стремясь понравиться Меншикову и заслужить одобрение Петра I (делал он это, как пишет Вишневецкий, без особого желания), должен был кутить (в оригинале «huczeć» – гудеть) с царским фаворитом. Выпив достаточно спиртного, польский монарх и царский любимец начали фехтовать, и Август, как более опытный боец, нанес последнему несколько уколов. Меншиков схватился за боевую шпагу, не смутившись, что перед ним коронованная особа. В дело немедленно вмешался королевский конюший Фридрих Фицтум фон Экштедт, который оттолкнул распалившегося фаворита. Тот, видимо, поняв, что перегнул палку, неожиданно повалился в ноги Августу и разрыдался. На это очень экспрессивно отреагировал сам Петр I, который очень настойчиво просил простить Меншикова и предать немедленному забвению весь инцидент 22.
Определенный акцент Я. А. Вишневецкий сделал на масштабе грабежей и реквизиций, осуществлявшихся войсками Меншикова в Речи Посполитой. Так, отступая из-под Гродно весной 1706 г., войска Меншикова разорили Волынь, грабя костелы, монастыри, шляхетские и магнатские имения, «насилуя [женщин] и не щадя даже монашек» 23. В 1710 г. когда, по выражению Вишневецкого, русская армия располагалась на зимние квартиры чуть ли не по всей Речи Посполитой, «генерал Гольц действовал в Краковском воеводстве как можно мягче, тогда как Меншиков несказанно жестоко». Его ставка поражала роскошью, поэтому царский фаворит требовал средства от поветов, где квартировал, на содержание своих многочисленных слуг, лошадей (только цугов насчитывалось 80 штук, помимо этого еще 200 скакунов самого светлейшего князя, столько же конюхов), дегтя для смазки повозок и даже кнутов для ямщиков и погонщиков 24. Описывая разразившийся тогда же конфликт между Меншиковым и упомянутым выше генералом-фельдмаршалом Г. фон дер Гольцем, саксонцем на русской службе, Вишневецкий явно симпатизировал последнему. Конфликт, по мнению автора «Польской Илиады», был спровоцирован великим коронным гетманом А. М. Сенявским и особенно его супругой, Эльжбетой Сенявской. Последняя старалась заручиться благосклонностью Петра I, встречаясь с ним во время пребывания самодержца в Люблине в ноябре 1709 г. и по каким-то причинам настраивала царя против Гольца. Сенявские сумели перетянуть на свою сторону и царского фаворита, который якобы испытывал к генералу неприязнь, потому что уступал ему в военном опыте. В результате, как иронично написал Вишневецкий, «старик крепко упал с лавки». Светлейший убедил царя, что Гольц потерял много времени, задержав войска под Ухновым (ныне во Львовской обл. на Украине) в августе 1709 г.; что специально отказался преследовать войска сторонника шведов и Станислава Лещинского, киевского воеводы Юзефа Потоцкого после сражения при Одолянуве в октябре; наконец, что якобы хотел тайно вывезти в германские земли набитый золотом сундук. «В конце концов, – сообщил Вишневецкий, – [Меншиков] совершенно лишил его царской благосклонности, и ничего не говоря, приказано было его взять под арест столь тайным образом, что Польша узнала об этом лишь через несколько недель». «Прекрасная награда за все заслуги! – продолжил он повествование. – Такой достойный генерал, не допустил захвата царевича в Конецполе; а когда сбил [с поля] киевского воеводу, днем и ночью, не обращая внимание на ненастье, на свой преклонный возраст, преследовал его; шведа научил бить и первый лед проломил». Далее Вишневецкий посетовал на непостоянность людской дружбы и превратности фортуны, вспоминая об известных исторических героях: о герцоге Альбе, попавшем в немилость у королевского двора после своей кампании в Нидерландах и о кардинале Ришелье, сталкивавшегося с заговорами политических противников 25. Примечательно, что в другом месте повествования Вишневецкий дал краткое описание сражения при Одолянуве, признавая, что оно было проиграно русскими, а погоня за уходившим в Краков Ю. Потоцким велась не слишком активно 26. На основе анализа российских источников к схожему выводу пришел и современный исследователь Б. И. Мегорский, отметив ряд тактических промахов русского командования; при том, что сам Гольц отнесся к делу весьма халатно: он вовсе отказался руководить войсками на поле боя, оставшись в городском замке [Мегорский 2019, 48–62]. Однако эти детали и несостыковки, судя по всему, не были так уж важны для Вишневецкого, который в рассказе о кампании 1709 г. и судьбе Гольца в первую очередь стремился оттенить зависть и спесь светлейшего князя.
Еще один пример алчности А. Д. Меншикова касался пребывания в Кракове в ноябре 1709 – апреле 1710 г. царевича Алексея Петровича, чье содержание полностью оплачивал город (и даже баню, в которой, как отметил автор «Польской Илиады», русские часто моются). Гувернер царевича, князь Ю. Ю. Трубецкой, доверительно сообщил Я. А. Вишневецкому, что виной всему скупость А. Д. Меншикова, который, как можно догадаться, экономил на содержании царевича в «своих собственных видах». Трубецкой жаловался, что по той же причине получил на необходимую поездку в Москву всего лишь 200 злотых 27.
Уже упоминавшаяся выше история с убийством униатских монахов в Полоцке в 1705 г. также нашла отражение в сочинении Я. А. Вишневецкого. Более того, это чуть ли не единственное свидетельство, рисовавшее мрачную и подстрекательскую роль царского фаворита в разыгравшейся кровавой драме. Итак, 11 июля 1705 г. (н. ст.) в ходе пребывания в Полоцке, после богатого банкета с участием литовского польного гетмана Г. Огинского, Петр I и Меншиков поехали обозреть расположенную на территории городского замка церковь св. Иосафата Кунцевича (в действительности – собор св. Софии). Как написал Вишневецкий, по мнению некоторых, поездка состоялась по настоянию Меншикова, который взял с собой своего полкового священника. Последнего униаты как следует угостили спиртным, и когда все напились, начался диспут о вере. Русский священник, не будучи особенно искушен в дискуссиях, в конце концов «съездил по морде» (в оригинале: «dał w gębę») местному настоятелю (супериору) Якубу Кизиковскому. Другой униатский монах немедленно дал сдачи с избытком. Авторитетные представители униатского духовенства вмешались и вроде бы уже успокоили ссору, но священник пожаловался А. Д. Меншикову. Это имело самые фатальные последствия. Петр I и Меншиков в это время как раз продолжали пировать (по логике изложения, их угощали в замке или где-то рядом с собором). Разгоряченные выпитым алкоголем, они немедленно бросились в храм. Войдя туда, Петр I спросил, указывая на образ св. Иосафата, кем он был убит. «Схизматиками», – последовал ответ. Это стало спусковым крючком последовавшей кровавой сцены. Взбешенный Петр якобы обозвал псом и заколол одного из униатских монахов прямо у алтаря, другого убил Меншиков. Еще троих было приказано повесить, но одному спас жизнь, выведя его из церкви, Б. П. Шереметев. Под конец царь высыпал на землю освященные облатки, потому что, как пояснил Вишневецкий, «греки (т. е. православные. – К.К.) не верят, что облатки являются хлебом». «Страшная сцена, – написал он далее, – всех поразила и освежила в памяти многих отвращение к этой монархии (к России. – К.К.)» 28. Полоцкий инцидент имеет богатую историографию, разбор которой не входит в задачи данной статьи. Наиболее полно имеющиеся данные источников исследовал и обобщил, пожалуй, польский историк Алексы Деруга. Он не знал свидетельства Вишневецкого, хотя в доступных ему материалах были указания на подстрекательскую роль Меншикова. Об этом писал в записках современник описываемых событий, монах-василианин Ян Олешевский. Другой источник сообщает, что Петр I, позднее раскаивавшийся в своем поступке, приказал повесить некоего попа, чей «плохой совет» стал поводом к случившейся трагедии, и это известие может быть соотнесено с персоной незадачливого полкового священника, чья жалоба дала повод для расправы. Однако Деруга, не отрицавший участие Меншикова в убийстве представителей униатского духовенства (по некоторым данным, он в том числе держал за волосы проповедника Теофана Колбежицкого, которому Петр I собственноручно отрубил голову), полагал, что в распоряжении историков нет достаточно данных, чтобы судить о степени «морального соучастия» в нем царского фаворита, известного своей религиозностью [Deruga 1933, 95–120] 29.
Освещение полоцких событий в имеющихся источниках изначально имело весьма политизированный и субъективный характер и многие рисуемые в них детали могут быть поставлены под сомнение, хотя сам факт и основные обстоятельства совершенной царем и его приближенными расправы очевиден. Рассказ Вишневецкого в этом контексте может восприниматься и как уникальное свидетельство (отнюдь не комплиментарное совершенно для униатской стороны 30), решающее поставленный Деругой вопрос о моральном соучастии Меншикова в убийстве, так и подчеркивать предвзятый характер автора «Польской Илиады» в отношении царского фаворита.
Следует отдать должное Я. А. Вишневецкому, что несмотря на не самые лестные характеристики персоны А. Д. Меншикова в «Польской Илиаде», он признал и оказанную фаворитом ему лично протекцию, и его роль в смягчении участи его брата Михала Сервация, бывшего литовского гетмана, которому царь никак не хотел простить переход на сторону шведов и Станислава Лещинского в 1707 г. Вскоре после Полтавской битвы именно благодаря содействию Меншикова Я. А. Вишневецкий смог передать царю письмо от своего брата 31. Затем Вишневецкий добился, чтобы Меншиков выслал его брату письмо с гарантиями безопасности и распоряжениями ждать дальнейших указаний там, где послание застанет М. С. Вишневецкого. Гонец, некий Кульчицкий (слуга бывшего литовского гетмана) повез его в Киев, но не успел вручить послание адресату, потому что киевский губернатор кн. Д. М. Голицын распорядился немедленно арестовать прибывшего туда М. С. Вишневецкого и отправить его Москву. Между тем возвращавшийся из Киева гонец встретил светлейшего князя и рассказал ему о случившемся. Меншиков немедленно дал Кульчицкому денег и приказал как можно скорее доставить М. С. Вишневецкого обратно из Москвы в Киев. Возвращавшийся Михал Серваций встретил своего спасителя в Глухове на Украине 19 декабря 1709 г. (н. ст.). Здесь, как считает автор «Польской Илиады», по вине Кульчицкого случилось неприятное происшествие. Кульчицкий был излишне склонен к пьянству и из-за этого якобы не смог объяснить М. С. Вишневецкому, что он, во-первых, обязан своим освобождением исключительно Меншикову, а во-вторых, ошибочно сообщил, что бывший гетман получает полную свободу. В результате, когда А. Д. Меншиков и М. С. Вишневецкий как следует выпили на совместной пирушке в Глухове, последний, полагая что отпущен на волю без каких-то ограничений, позволил себе несколько надменных высказываний в адрес фаворита. Возникла ссора. К счастью Меншиков был настолько пьян, что наутро плохо помнил случившееся, более того, присутствовавшие на банкете гетман Украины И. И. Скоропадский и иные гости (надо думать, представители украинской старшины), «вбили ему (Меншикову. – К.К.) в голову, что он плохо обошелся с пленником». В результате состоялось немедленное примирение, причем М. С. Вишневецкий объявил, что дарит Меншикову несколько деревень в окрестностях Полонного и обещал «служить верно». Вопрос об освобождении бывшего гетмана, впрочем, решен не был и он остался жить в Глухове 32.
Вообще осенью 1709 г. Меншиков просто купался в лучах внимания со стороны польской шляхты и магнатерии. В ответ на его обращение к Волынскому воеводству, на территории которого находилось Полонное, пожалованное фавориту в держание королем Августом II в 1706 г., шляхта снарядила к Меншикову официальное посольство, «признавая его за польского дворянина» и надеясь тем самым выхлопотать себе новые льготы, а также принося прошение об амнистии М. С. Вишневецкого. Сам факт миссии вызвал недовольство польского двора, находившегося в Торуни (здесь была и ставка царя), где Меншиков, «алчущий тщеславия, принимал это посольство». Аудиенции Меншикова добивались хелминский воевода Томаш Дзялыньский и хелминский епископ Теодор Анджей Потоцкий, но светлейший князь отказал им под предлогом царского запрета. О влиянии Меншикова в это время определенным образом свидетельствовала и неудачная попытка коронного подкомория Ежи Доминика Любомирского добиться возвращения Полонного (был лишен его Августом II за переход на шведскую сторону). Дело было отложено, ходили слухи, что фаворит даже договорился о выкупе у Любомирского прав на Полонное. Попутно Меншиков обвинял подкомория в грабеже неких украинских купцов, с которыми фаворит теперь договорился о передаче ему права на компенсацию убытков за захваченных у них волов 33.
* * *
«Вишневецкий написал “Польскую Илиаду”, не будучи объективным наблюдателем», – резюмировали издатели и исследователи его сочинения Пшемыслав Романюк и Яцек Бурдович-Новицкий. По их справедливому мнению, он не скрывал враждебности к многим персонам, излишне идеализировал тех, кто был ему близок, но в тоже время описывал и некоторые собственные неприглядные поступки и ошибочные действия 34. Указанное наблюдение в полной мере верно и в отношении фигуры А. Д. Меншикова. Образ его, несомненно, не полон в силу самого жанра произведения, но в тоже время, пожалуй, нарисован подробней, чем литературный портрет кого-либо из русских вельмож, и даже самого царя Петра I. Это, несомненно, вызвано удивительной биографией А. Д. Меншикова, совершившего стремительный взлет из социальных низов к вершинам власти, его близостью к самодержцу, тесный характер которой не укрылся от Я. А. Вишневецкого, а также той ролью, которую царский любимец играл в событиях первого десятилетия Северной войны, непосредственно затрагивавших Речь Посполитую. Вишневецкий явно не симпатизировал Меншикову (при том, что комплиментарно отзывался о других русских военачальниках – Б. П. Шереметеве 35 и Г. Гольце), иронизировал, хотя и не слишком явно, по поводу его претензий на польское шляхетство и определенно не прочил его равным себе, несмотря на высокое положение, всевластие и богатство царского фаворита. Он привел немало примеров жестокости, надменности и алчности Меншикова, но в то же время признавал за ним отдельные достоинства: смелость, способности к военному делу, ловкость и безусловную преданность своему патрону – царю Петру Великому. Несмотря на неприязнь к фавориту, Я. А. Вишневецкий не постеснялся написать, как пользовался его покровительством и помощью для облегчения участи брата – М. С. Вишневецкого, что в конец концов дало результат, пусть и не окончательный. Свидетельства Я. А. Вишневецкого безусловно не могут способствовать каким-то кардинальным сдвигам в отечественной историографии касательно изучения личности А. Д. Меншикова, но, несомненно, добавят новые штрихи в реконструкцию биографии этого незаурядного государственного деятеля России эпохи Петровских реформ.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Заслуги и подвиги его высококняжеской светлости, князя Александра Даниловича Меншикова, с основанным на подлинных документах описанием всего достопримечательного, что по всемилостивейшему повелению его императорского величества Петра Великого и всепресветлейшей императрицы Екатерины было совершено, под управлением и начальством его светлости, при дворе и в армии, равно как и во всем Российском государстве. Перевод с немецкой рукописи // Сын отечества. Журнал истории, политики, словесности, наук и художеств. 1848. Кн. 1. Январь. [Отд.] I. Русская история. С. 1–32.
История князя Меншикова / [пер. с франц, предисл. Л. Л. Альбиной; комм. и статья А. М. Шарымова]. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 56 с.
Манштейн К. Г. Записки о России. Ростов н/Д.: Феникс, 1998. 448 с.
Толстой А. Н. Петр Первый // Собрание сочинений в восьми томах. М.: Правда, 1972. Т. 7.
Wiśniowiecki J. A. Ilias Polski (1700–1710) / wyd. P. P. Romanuik, J. Burdowicz-Nowicki. Warszawa: Neriton, 2018. 330 s.
1 См.: История князя Меншикова.
2 Там же, 17–40.
3 Там же, 30–34.
4 Wiśniowiecki 2018. Здесь же в обширной вводной статье см. биографию Я. А. Вишневецкого, историю изучения рукописи, ее археографическое описание, обоснование авторства и др.
[5] Wiśniowiecki 2018, 58, 265, 269–270.
6 «Tam do Wilna przybiegł Mężyk, kochanek carski», – писал Я. Вишневецкий. Общепринятый перевод слова «kochanek» – любовник, возлюбленный, но возможно в данном контексте оно означает «любимчик».
8 В задачу данной статьи не входит анализ достоверности всех известных свидетельств о ложности либо правдивости принадлежности А. Д. Меншикова к литовской шляхте. Большую работу в этом направлении проделал Ю. Н. Беспятых [Беспятых 2005, 47–185], однако его аргументация в пользу литовского происхождения светлейшего князя вызывает сомнения, а сам этот сюжет нуждается в дополнительном исследовании.
9 Толстой 1972, 58.
10 Wiśniowiecki 2018, 188.
11 Заслуги и подвиги его светлости, 27. Н. И. Павленко писал об этом на основе обнаруженного им латинского черновика данного текста [Павленко 1981, 12].
12 Данный текст является републикацией (с небольшими изменениями и без указания на предыдущее издание) более ранней статьи тех же авторов [Дегтярев, Лавров 2000, 138–140].
13 Манштейн 1998, 15.
14 Wiśniowiecki 2018, 188.
15 Заслуги и подвиги его светлости, 3, 9.
16 Wiśniowiecki 2018, 188.
17 Ibidem.
[18] Обширная выдержка из этой работы приведена в комментарии к «Истории князя Меншикова»: История князя Меншикова, 36–38.
[20] Ibid., 193. Точная дата приема царя Вишневецким установлена публикаторами.
[22] Ibid., 197–198. В эти же дни, (26 ноября / 6 декабря), в ходе переговоров русской и польско-литовской делегаций, произошла еще одна ссора – между коронным стражником С. Потоцким и русским послом в Польше князем Г. Ф. Долгоруким. Первый, по свидетельству Вишневецкого, оскорбил не только князя, но и произнес какие-то язвительные слова в адрес самого самодержца. Петр в ярости выскочил из кабинета, чтобы расправиться с обидчиком, но Август II вновь сумел урегулировать конфликт, затолкав Потоцкого в свои покои и утихомирив гнев Петра. Через несколько дней были принесены официальные извинения. Точные даты событий установлены публикаторами записок Я. А. Вишневецкого.
24 Ibid., 275.
25 Ibid., 275–276.
26 Ibid., 268–269.
[27] Ibid., 273. Даты пребывания Алексея Петровича в Кракове и персона Ю. Ю. Трубецкого установлены публикаторами.
[29] Дата событий в Полоцке дана на основе этого исследования. О роли в них А. Д. Меншикова см. [Deruga 1933, 102, 109]. А. Деруга также привел свидетельства самих василиан, что квартировавшие в Полоцке Б. П. Шереметев и кн. Н. И. Репнин относились к ним гуманно и уважительно [Ibid., 98].
30 Я. А. Вишневецкий, как отмечалось, свидетельствовал о совместном пьянстве униатского духовенства с русским священником, и не исключено, что с Петром I и его сподвижниками, прибывшими на территорию замка. Кроме того, начав дискуссию о вере в ходе попойки, униаты некоторым образом спровоцировали трагическую развязку, что, впрочем, никак не оправдывает произошедшей кровавой расправы.
32 Ibid., 271–272. Точная дата прибытия М. С. Вишневецкого в Глухов установлена публикаторами.
33 Ibid., 266–267.
34 Ibid., 22.
[35] Я. А. Вишневецкий отметил военный талант последнего (Ibid., 173), указал, что Астраханское восстание 1706 г. Шереметев сумел прекратить не столько карательными мерами, сколько гуманным отношением к мятежникам (Ibid., 198). Общая оценка личности Б. П. Шереметева, который в «Польской Илиаде» выступал определенным антиподом Меншикова, была следующей: «Шеремет был очень достойным и честным человеком, умевшим вызывать у своих солдат любовь и страх одновременно, а у остальных людей – уважение с желанием приобрести его дружбу; вежливый и тактичный в беседе, способный держать военную дисциплину, благодаря чему мало чем досадил тем краям (Речи Посполитой. – К.К.), где ему пришлось квартировать» (Ibid., 198–199).
Sobre autores
Kirill Kochegarov
Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences
Autor responsável pela correspondência
Email: kirill-kochegarow@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-9877-7381
Cand. Sc. (History), Senior Researcher
Rússia, MoscowBibliografia
- Bespiatykh Iu. N. Aleksandr Danilovich Menshikov: mify i real’nost’. St. Petersburg, Istoricheskaia illiustratsiia Publ., 2005, 240 p. (In Russ.)
- Chistov K. V. Russkije narodnyje sotsial’no-utopicheskije legendy XVII–XIX vv. Moscow, Nauka Publ., 1967, 341 pp. (In Russ.)
- Degtiarev A. Ia., Lavrov A. S. Baloven’ bezrodnyi? Istochnikovedenije i krajevedenije v kul’ture Rossii: k 50-letiiu sluzheniia Sigurda Ottovicha Shmidta Istoriko-arkhivnomu institutu. Moscow, Rossiiskii gosudarstvennyi gumanitarnyi universitet Publ., 2000, pp. 138–140. (In Russ.)
- Degtiarev A. Ia., Lavrov A. S. O samom rannem dokumente, soderzhashchem svedeniia ob ottse A. D. Menshikova. Vlast’, 2019, no. 6, pp. 277–280. (In Russ.)
- Deruga А. Piotr Wielki a bazyljanie połoccy. Księga pamiątkowa koła historyków słuchaczy uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. 1923–1933. Wilno, Wydawnictwo zrzeszenia kół naukowych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Publ., 1933, p. 95–120.
- Jesipov G. V. Kniaz’ Aleksandr Danilovich Menshikov. Russkii arkhiv. 1875, no. 7, pp. 233–247. (In Russ.)
- Megorskii B. V. Boi pri Odolianuve, 1709 g. Maloizvestnaia neudacha posle Poltavy. Voina i oruzhije: Novyje issledovaniia i materialy. Trudy Deviatoi Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii 15–17 maia 2019 goda. St. Petersburg, VIMAIViVS Publ., 2019, ch. 2, pp. 48–62. (In Russ.)
- Mezin S. A. Pervyje frantsuzskije biografii A. D. Menshikova. Sankt-Peterburg – gorod petrovskoi mechty: materialy XVI Mezhdunarodnogo petrovskogo kongressa, Sankt-Peterburg, 9–10 iiunia 2023 goda, ed. by I. A. Karpenko, I. F. Sviderskaia. St. Petersburg, Jevropeiskii dom Publ., 2024, p. 471–485. (In Russ.)
- Pavlenko N. I. Aleksandr Danilovich Menshikov. Moscow, Nauka Publ., 1981, 198 p. (In Russ.)
- Solov’jev S. M. Sochineniia. Kn. 7. Istoriia Rossii s drevneishikh vremen. Moscow, Mysl’ Publ., 1993, t. 15– 16, 639 p. (In Russ.)