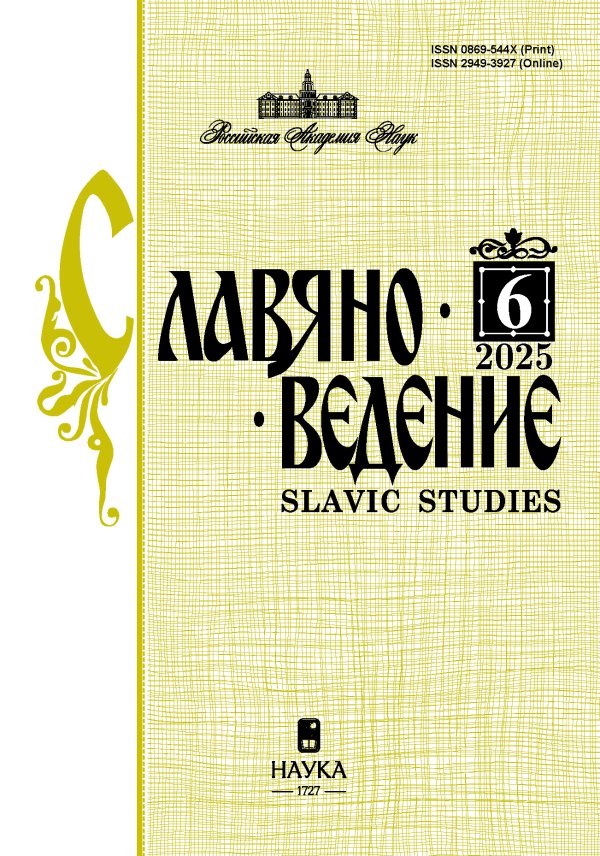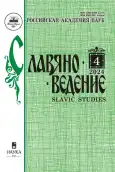Детская память о взрослой Истории. Травма Холокоста и миграции в «Спасении Атлантиды» З. Орышин
- Авторы: Адельгейм И.Е.1
-
Учреждения:
- Институт славяноведения Российской академии наук
- Выпуск: № 4 (2024)
- Страницы: 95-104
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/265136
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24040084
- EDN: https://elibrary.ru/WWMOTN
- ID: 265136
Полный текст
Аннотация
Роман Зыты Орышин (р. 1940) «Cпасение Атлантиды» (2012), подобно практически всему творчеству писательницы, порожден чувством вины – стремлением «накрыть словом» боль, которую причиняли детские воспоминания о травме участия (невольном соучастии в процессе изгнания немцев с Возвращенных территорий), травме свидетельствования (Холокост) и травме унаследованной (семейная память о насильственной миграции). Детское сознание, адаптируясь к взрослой действительности, вмещает в себя опыт силы и бессилия, захватчика, жертвы, свидетеля. С этой позиции в романе исследуется – во всей ее фрагментарности – автобиографическая память о бывшем немецком / ныне польском пространстве, функционирующем в парадигме насилия, пространстве, травмирующем и порождающем чувство неукорененности. Драматические истории нескольких семей, рассказываемые с разных перспектив, перекликаются и переплетаются, образуя горестный лабиринт страха, обид, сиротства, унижения, непреодолимой чуждости.
Ключевые слова
Полный текст
Своей незаслуженно малой популярностью Зыта Орышин (1940–2018) обязана не только тому, что до 1990-х годов печаталась в основном во «втором круге обращения», но и тому, что слишком жестко и слишком открыто – без ностальгического флера, без обезболивающей сентиментальности (свойственных особенно поэтичной «прозе малой родины» первого постсоциалистического десятилетия) затрагивала болезненные проблемы «не нанесенных на карты человеческих страданий», связанные с передвижением границ и «послевоенным исходом населения с востока на запад» [Miłosz 1996, 211]. И даже несмотря на очевидную ориентацию прозы 2000-х годов на «патогенез» травмы заселения Возвращенных территорий, отошедших к Польше после Второй мировой войны [Адельгейм 2018, 60–97], проза Орышин, по словам И. Ивасюв, вызывает невостребованные обществом эмоции: «…мы предпочитаем муляж боли или боль, поданную под соответствующим эстетическим и дискурсивным соусом» [Iwasiów 2012].
Писавшийся около двадцати лет и частично публиковавшийся в подпольной, а затем официальной печати [Kraskowska 2014, 223–224; Czyżak 2014, 101– 102] роман Орышин «Спасенная Атлантида» (2012) вызван к жизни чувством вины – стремлением «накрыть словом» боль, причиняемую прежде всего детскими воспоминаниями о невольном соучастии в процессе изгнания немцев из Нижней Силезии: «По сей день – заноза в сердце. Что человек так легко присваивает. И не плачет» 1.
Семья Орышин – добровольные переселенцы, однако фамильная память хранила и воспоминания о насильственных переселениях с Восточных Кресов. К этому прибавлялась травма свидетельствования – отрывочные детские впечатления, связанные с совершающимся Холокостом, и порожденные им страхи: «Он пришел к выводу, что все они погибнут совсем скоро, а может, еще скорее, если окажутся евреями […]. Может, они и есть евреи, иначе почему живут не дома, а в укрытии» 2. Детское сознание, адаптируясь к взрослой действительности, вмещало в себя одновременно опыт силы и бессилия, опыт захватчика, жертвы, свидетеля. «Хочу объяснить, о чем моя последняя книга – “Спасение Атлантиды”. – говорит Орышин. – Достаточно часа икс, момента безнаказанности. Пускай даже перед нами человек в принципе верующий, много переживший, испытавший страдания и несправедливость. […] Я тоже из семьи переселенцев. Я родилась в Прикарпатье, на Ославе, близ Санока. Во время войны я удивлялась, что к нам все время приходят какие-то чужие люди и что-то у нас забирают. Мама считала, что они и жизнь отберут, а не только картошку, самогон, овощи. Я боялась, что они захотят унести мои игрушки, и прятала их в укрытии под хлевом […]. Я помнила рассказы о своих подольских тетках, которым дали два часа на сборы и депортировали в Сибирь лишь за то, что они были “польские панночки”, но при этом (приехав на Возвращенные территории. – И.А.) видела, что и сама кого-то выгоняю из дома. […] Местные жители, еще остававшиеся там, нас попросту боялись. Понимали, что мы можем все у них отнять. А мы только и смотрели, чтó бы хапнуть […]; мы брали все совершенно безнаказанно. […] Сожаление и удивление, которое вызывал грабеж чужого, уничтожение могил, поиски белья получше, фарфора получше – не отпускают меня до сих пор. […] едва выбравшись из укрытий, в которых они во время войны прятались от чужих завоевателей, (переселенцы. – И.А.) немедленно принялись грабить чужую землю и чужое добро. […] тяжело травмированные войной поляки обижали местных жителей» 3.
Действие романа происходит в Валбжихе и Щавно: автор одновременно с вымышленными названиями (Leśny Brzeg и Dębno) дает читателю множество топографических подсказок, указывающих на историческую и географическую реальность. Валбжих в 2000-е годы неслучайно оказался в центре постпереселенческой прозы [Адельгейм 2018, 28–97, 322–341, 403–409] – в конце и после войны он стал местом смешения самых разных стихий. По словам Хенрика Гринберга, практически все «жители Возвращенных территорий были чужеземцами» [Grynberg 1998, 94].
Роман состоит из одиннадцати глав-новелл, образующих многоголосное и, на первый взгляд, хаотичное повествование о немецкой и польских семьях, а также их окружении. Среди персонажей – поляки, евреи, немцы, украинцы, лемки; репатрианты, беженцы, ссыльные, местные; бывшие бойцы Армии Крайовой, мародеры и бродяги; доносчики и бунтари; передовики производства, творческая интеллигенция и партийные деятели… Время действия охватывает с разной степенью подробности несколько драматических десятилетий: трагические предыстории переселенцев (бегство от немцев, вступление советской армии на Восточные Кресы в сентябре 1939 г., расстрел беженцев, существование в вырытом под овином тесном укрытии), переселение, адаптация к послевоенной реальности, начало Холодной войны, репрессии, «Солидарность», военное положение – вплоть до эха Чернобыльской аварии и заката ПНР.
Перекликающиеся, переплетающиеся, пересекающиеся истории, иногда объясняющие друг друга, а иногда и запутывающие, образуют драматический лабиринт послевоенных Возвращенных территорий – лабиринт страха, лжи, обид, сиротства, унижения, непреодолимой чуждости. Такая структура повествования передает неоднородность и непредсказуемость, одновременно реальность и иллюзорность мира переселенцев.
Повествование опирается на густую сеть ключевых слов – как семантических оппозиций, так и пучков слов, объединенных семантическим полем, т. е. «покрывающих определенную область человеческого опыта» [Потапова 2020, 22].
Прежде всего это оппозиция свой/чужой, определяющая отношения между персонажами, их самоидентификацию, это один из главных факторов формирования художественного пространства и его восприятия.
Немецко-польское пространство само по себе отмечено двойной принадлежностью, помимо этого, героев разделяют национальные, культурные, идеологические границы, происхождение, социальный статус, язык, кроме того, они вынуждены постоянно мимикрировать. Таким образом, это чуждость втройне: чужие друг другу и самим себе люди находятся в чужом пространстве: «Как тут выжить на чужой земле, в чужой квартире, в чужой шкуре, втиснутым в ящик чужого шкафа» 4.
Вторым важнейшим ключевым словом является страх (бояться). Это одна из стихий, которым подчинена реальность Возвращенных территорий: «Страх окутывал его, как туман», люди умирают, «окутанные этим туманом, страданием и страхом, болью и обидой» 5. Неслучайно привыкшие к разговорам о конце света, который словно бы все время рядом, герои спокойно встречают слухи о Чернобыльской аварии.
Сюда примыкают слова бежать (убегать), исчезать, прятаться, охота (охотиться), укрытие, убежище. «Охота» и «укрытие» вынесены также в названия первых двух глав романа. «Охота никогда не закончится» 6, – говорит один из персонажей. Это стержень детского военного опыта: они «должны были бы привыкнуть, что люди вокруг появляются и исчезают, прячутся в лесу и в укрытиях, а потом убегают, а другие люди гонятся за ними всеми возможными способами, пешком, на мотоциклах, самолетах, танках и даже на лошадях, а когда догоняют, убивают» 7. Укрытие в романе многозначно. Это и реальное – тесное, темное, вонючее – убежище, в котором будущие переселенцы прятались во время войны, и оставшееся после войны болезненное стремление спрятаться (прячутся прежде всего дети и старики: «в этой квартире негде было прятаться, разве что под кроватью или шкафу» 8), ощущение себя в замкнутом, несвободном пространстве (изображаемый мир разграничен географически – Железный занавес, зеленая граница, и во времени – «Страна-до-войны» / «Страна-после-войны»). Таким образом, убежище оказывается одновременно спасением и тюрьмой.
Способом убежать и спрятаться оказывается молчание. Во время войны детям затыкают рот тряпкой или сжимают шею, чтобы не закричали и не выдали – будь то евреи, поляки или немцы. После войны люди исчезают, «потому что слишком много говорят и не тем, кому надо, и не то, что надо» 9 – травма чуждости дополняется травмой вытеснения, замалчивания: «Так уж лучше бы совсем за границей какой-нибудь жить, в эмиграции самой худшей, и тосковать по родине. А так – как тосковать по родине, когда тебе говорят, что отчизна твоя и могилы вовсе не были твоей родиной и велят тебе жить на чужой родине среди не твоих могил. И еще велят – молчок на эту тему, не то заткнут рот раз и навсегда, что не уважаешь Возвращенные территории…» 10.
Оппозиция начало/конец связана с официальным мифом: власти ПНР пропагандировали заселение Возвращенных территорий как миссию переселенцев и соблазнительную возможность начать новую жизнь. Однако пространство бывших немецких территорий не становится землей обетованной: не может служить началом начал земля, под которой «лежит, растоптанная […] на помойках […], в чужих квартирах» 11 родина его бывших обитателей, а новая жизнь выстроена на страхе и лжи.
С темой Холокоста, а также ставшего в первые послевоенные годы важнейшим элементом повседневности Возвращенных территорий мародерства связаны слова сокровища, клад, спрятать/найти, копать, долбить, забирать, тащить, хватать, хапать.
Оппозиция память/забвение отсылает к процессам коллективной и индивидуальной психологии, а также манипуляции ими. Культурную, историческую память новая власть пытается в одних случаях вытеснить, в других создать с нуля, а семейную память старшее поколение стремится передать младшему: «Память поколений – это лучшее укрытие» 12. Однако память старших, как и окружающая реальность – пугающий и опасный лабиринт, вызывающий у детей инстинктивный страх: «Она оцепенела от страха. Как это – быть чьим-то убежищем? Убежища обычно слишком малы даже для одного человека, они воняют страхом и смертью» 13. И все же именно собственная память в шаткой реальности настоящего не только взрослым («Только память – единственная устойчивая реальность» 14), но и детям представляется единственным спасением: «Боже, верни мне память», – просит подросток, ощущая, что «все здесь исчезает, словно Атлантида» 15. Вынесенное в заглавие спасение Атлантиды, как ни парадоксально, отчасти удается лишь в отношении немецкой памяти – в сюжетной линии с фотоальбомом немецкого мальчика, который достается потом ребенку польских переселенцев, затем оказывается им утерян – и снова достается польскому ребенку, уже другого поколения, подобравшему его в куче выброшенных на свалку вещей. Выросший немецкий мальчик спрашивает у польского друга детства: «Скажи мне, как я выглядел, когда был маленьким. Кроме тебя, у меня из тех лет никого нет. И фотографий тоже нет» 16.
Детская перспектива, с которой ведется повествование, позволяет обнажить абсурд новой реальности, усиливает ощущение, что люди – всего лишь пешки. Детское видение в сочетании с гротеском дает кривое зеркало послевоенного мира.
Детей и взрослых в романе Орышин объединяют военный опыт соприкосновения со смертью и инстинкт выживания, а также условия послевоенной задачи: новое место и новое время, которые и тем, и другим приходится осваивать («учись послевоенным реалиям» 17), шок при соприкосновении с иной бытовой культурой, мучительное ощущение собственной неприспособленности, недоверие и опасения как основа картины мира.
Реальность дается не только глазами ребенка, но и на слух – это взрослое видение стихии Истории, в водоворот которой попали истории частные, семейные, переосмысленное детьми – со всеми гротескными аберрациями акцентов, масштабов, логики и пр. (например, многократно обыгрываемые детские представления о «железном занавесе» и новом мироустройстве).
Дети пытаются усвоить взрослые правила игры – прежде всего в мимикрию: «Взять хотя бы дядю Томека. Он был то Вонторским, то Розмариковским или Камашиньским, или еще кем-то. Приходилось эти его фамилии и имена заучивать наизусть. Как и то, что […], все зависит от того, кто спрашивает» 18.
Дети перенимают взрослые страхи: «… он […] трясся от страха. Мать полагала, что за каждым деревом могут прятаться бандиты, привидения, убийцы женщин и детей, немецкие реваншисты […]. Призраки и всевидящие гэбисты. Он все время ждал, что кто-то из этой многочисленной компании настигнет его и убьет…» 19; «… ему в каждом мужчине видится милиционер, он даже при виде папы римского рыдать начинает…» 20. И не могут избавиться от страхов собственных: «Оле это тоже не нравилось, и она хотела от этой новой Польши спрятаться. Особенно, когда подслушала, как кто-то кому-то сказал, что какой-то железный занавес отделил их от нормального мира. В Лесном Бжеге не было хлевов, только деревянные сарайчики; в таких сарайчиках помещался только уголь, там не было места для хитроумного укрытия с вентиляцией. А в трехкомнатной бывшей немецкой квартире, где они поселились, тоже негде спрятаться, даже в шкафу. И под кроватью даже маленькую яму не выкопаешь. […] по утрам она потихоньку, на четвереньках подползала к кухне, чтобы посмотреть, кто там» 21.
Дети играют – в жизнь довоенную, военную и послевоенную («Все дети, которые сидели в укрытиях в Стране-до-войны, в Стране-после-войны играли в такие игры» 22), в том числе в новые страхи – свои и взрослые: «Он начинает играть в обыск и арест, будит меня ночью и кричит: Пиши давай подписку о лояльности, не то отдам твоего ребенка в детский дом! Всё прячет – конфеты, хлеб […]. А потом проводит обыск и находит то, что спрятал» 23. Пытаются приспособить услышанное к увиденному, детские мечты о путешествиях в далекие страны – к взрослым реалиям. Осваивают взрослую риторику, новые мифы, новояз, а подрастая, попадают в шестеренки системы.
Этот недетский опыт чуждости и страха словно бы укрепляется, умножается как травмой Холокоста, так и травмой изгоняемого немецкого населения, свидетелем которых становятся польские дети. Орышин вводит «классический» польско-еврейский сюжет (на уровне действий, эмоций и рефлексии) времен оккупации. Это и обещавшая помощь и «обманутая» в своих ожиданиях полька («Йосек привез Мисяковой свою мебель и картины привез. И документ о крещении для Мириам, что якобы она Тереска и так далее, но золотые монеты не привез. Поэтому она его в укрытие не пустила. Немцы его схватили и застрелили. Тогда она Тереску, которая не Тереска, отнесла в лес, потому что знала, что в лесу где-то евреи бродят, может, они ее подберут, она ведь ихняя. И Тереска исчезла. То ли взяли ее действительно евреи, то ли еще что. Просто исчезла. А может, волк сожрал или что. Кстати, интересно, где там эти евреи, сама она ни разу на них в лесу не наткнулась» 24). Это и другая полька, тайком от всех спрятавшая еврейскую девочку, и долгое молчание травмированного ребенка.
Дети в «Спасении Атлантиды» смеются над взрослыми или боятся их, верят или не верят – но их детская жизнь не автономна, не является укрытием от взрослого ада. Роман Орышин – один из вариантов работы с травмой «послеялтинского детства» – процесса, характерного для польской прозы в 1990–2000-е годы. Это детство, по словам М. Черминьской, разыгрывается в «месте, сдвинутом с места, словно сразу после землетрясения». Это «детство в процессе перемещения», «расколотое между прошлым и настоящим, в атмосфере временности, в попытке укорениться или отторжении. Искушаемое и привлекаемое духом места, который открывается, прежде всего, ребенку» [Czermińska 2000, 47]. Для детей переселенцев полноценное укоренение в пространстве малой родины оказалось невозможным без рефлексии над судьбами предков (собственных и бывших жителей), без проработки отложенной травмы миграции, травмы утраты ощущения укорененности в собственной стране. Опыт детей тех, кто строил свой дом на руинах своей и чужой жизни, опыт детей, повседневное пространство жизни которых постоянно обнаруживало «прорехи на месте исчезнувшего прошлого» [Dąbrowski 2010, 211], получил разные воплощения: от мифологизации детства с его метафизическими тайнами и открытиями, неразрывно связанными с пространством Гданьска и его окрестностей, апологии детского ви́дения как более открытого, не искаженного взрослым сознанием – в 1990-е годы до образов не рая, но ада детства в фантасмагорическом пространстве Щецина и Валбжиха, впитавшем, но отнюдь не похоронившем множество трагедий – в 2000-е. Это кризисное, гетерогенное пространство, гетеротопическая территория смещений и аберраций, отражающая и деформирующая другие, одновременно реальная и иллюзорная, обладающая собственным временем и порождающая свои истории, которые «наряду с большими нарративами или вопреки им творят альтернативный образ мира» [Видугирите 2015, 62]. В ней сосуществуют в разных временных измерениях элементы польского и немецкого: «В земле лежат останки пястовких князей, а в стенах немецких домов замурованы золотые ложки» [Dylewska 2018, 272]. В пространстве, «очищенном» от прошлого (стерты клейма с немецкого фарфора, заменены названия улиц и большинства населенных пунктов, искоренена «непольская» лексика), это прошлое упрямо просвечивает – в архитектуре, в осколках вещном мире, остатках топонимики.
Орышин называет Нижнюю Силезию могильником памяти 25, некрополией похороненных надежд, вытесненных воспоминаний, отвергнутого прошлого и идентичности, где – что подтверждает гетеротопический характер этого пространства – «существование может быть уже только болезненной формой несуществования. А жизнь – болезненной формой умирания» 26. «Польша – это сплошной лабиринт. […] Лабиринт страха, унижения, презрения, безнадежности, удручающей нищеты. Лабиринт смерти» 27, – говорит один из героев.
Это не столько малая родина, сколько родина идеологическая [Ossowski 1984, 27, 35–39], хотя порой процесс адаптации все же происходит, о чем свидетельствует, например, разговор – спустя десятилетия – польского переселенца и изгнанного немца: «Кинте твердил, что на этой акварели изображен его родной дом. И чтобы я не смел думать, будто это был мой родной дом. Мы ругались, я ему – как это не мой родной дом […]? Я там знал каждую шишку и каждый корень…» 28). На идеологическую родину постепенно накладывается частная: «память […] славится умением тихо, но искренне сопротивляться в тех случаях, когда политическая власть грубо попирает историю и манипулирует прошлым» [Лавабр 1995, 233].
Творчество Орышин скорее следует назвать проигрыванием, чем проработкой травмы: в своих произведениях она десятилетиями словно бы постоянно «заново переписывала чуждость» [Czyżak 2014, 99], осваивая травматический опыт через горький юмор и проекцию. То, о чем писательница рассказывает в ряде интервью, рассыпано в текстах Орышин по разным сюжетным линиям: действия, эмоции и чувство вины спроецированы на ряд персонажей, пережиты многократно – в том числе с перспективы изгоняемых из Силезии немцев.
Орышин подтверждает плодотворность высказанной М. Черминьской идеи существования «комплексного синтетического субъекта всех сочинений автора» и необходимости максимально полно использовать в исследованиях точки соприкосновения биографии и творчества писателя – творчества, «понимаемого широко, как корпус всех сохранившихся высказываний данного автора» [Czermińska 2011, 83]. «След личности автора отпечатывается в каждом произведении, а во всем творчестве, рассматриваемом в целом, также существует след, более богатый, чем эти отдельные, хотя и не являющийся их простой суммой. Характер этого общего следа можно определить при помощи бахтинской концепции диалога, переосмысленной и использованной дискурсивной психологией для описания полифонической структуры “я”, состоящей из многих голосов» [Czermińska 2004, 216].
В разных текстах Орышин (как и в данном романе) появляются одни и те же элементы автобиографического опыта, которые разыгрываются разными героями – опыта принудительной изоляции, непреодолимой чуждости окружению, государству – и самому себе. «Орышин рассказывает одну и ту же историю, добавляет к ней очередные эпизоды, вводит очередных персонажей, отступая назад и не давая надежды на освобождение из замкнутого круга первоначального повествования» [Iwasiów 2012] Само название – «Спасение Антлантиды» – словно бы не гарантирует результата, если интерпретировать его как процесс. Это скорее задача.
Реальное пространство детства оказывается территорией так и не освоенной до конца, отравляющей героев чуждости: «Никому отсюда не вырваться» 29. Метафора чужой кожи неслучайно возникает и в прозе другого переселенца, Александра Юревича: «Чью кожу я надел и донашиваю, словно старый плащ, чья кровь бежит по […] жилам?» 30
Это опыт чуждости, отчаяния и чувства вины. Работа с этой виной оказывается не единовременным актом, а процессом – постоянно возобновляемым переписыванием в разных вариантах неуловимых аффектов, невыразимых эмоций. Это повествование, обреченное остаться обрывочным и незаконченным.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Jurewicz А. Pan Bóg nie słyszy głuchych. Gdańsk: Marabut, 1995.
Oryszyn Z. Ocalenie Atlantydy. Warszawa: Świat Książki, 2012.
Sulej K. Chciałam wytłumaczyć, o czym napisałam swoją ostatnią książkę – «Ocalenie Atlantydy» // Wysokie Obcasy. Dodatek do «Gazety Wyborczej». 20.05.2013. S. 18.
1 Sulej 2013, 18.
3 Ibid.
5 Ibid., 154.
6 Ibid., 13.
7 Ibid., 22.
8 Ibid., 18.
9 Ibid., 28.
12 Ibid., 19.
13 Ibid.
14 Ibid., 139.
15 Ibid., 190.
17 Ibid., 51.
18 Ibid., 22–23.
21 Ibid., 184.
23 Ibid., 174.
24 Ibid., 24.
27 Ibid., 170.
Об авторах
Ирина Евгеньевна Адельгейм
Институт славяноведения Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: adelgejm@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-5208-0848
доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
Россия, МоскваСписок литературы
- Адельгейм И. Е. Психология поэтики: аутопсихотерапевтические функции художественнного текста (на материале 19990–2010-х гг.). М.: Индрик, 2018. 648 с.
- Видугирите И. Гетеротопии: миры, границы, повествование // Гетеротопии: миры, границы, повествование. Вильнюс: Вильнюсский университет, 2015. 416 с.
- Лавабр М. К. Память и политика: о социологии коллективной памяти // Психоанализ и науки о человеке. М.: Прогресс, 1995. С. 233–244.
- Потапова О. Е. Вербальная репрезентация концепта. Лексико-семантическое поле как фрагмент языковой картины мира (на материале ЛСП «море»). Чебоксары: Среда, 2020. 164 с.
- Czermińska M. Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków: Universitas, 2000. 343 s.
- Czermińska M. Autor – podmiot – osoba. Fikcjonalność i niefikcjonalność // Polonistyka w przebudowie. T. 1. Kraków: Universitas, 2004. 721 s.
- Czermińska M. Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki // Teksty Drugie. 2011. № 5. S. 183–210.
- Czyżak A. Przepisywanie siebie, przepisywanie obcości – przypadek Zyty Oryszyn // Zagadnienia Rodzajów Literackich. 2014. T. 57. Z. 2. S. 99–110.
- Dąbrowski B. Postpamięć i trauma. Myśleć inaczej o literaturze «małych ojczyzn» (Na przykładzie powieści Pawła Huellego i Stefana Chwina) // Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania. Hierarcie. Perspektywy. Warszawa: Elipsa, 2010. 530 s.
- Dylewska A. Obcość i swojskość przestrzeni Dolnego Śląska w powieści Zyty Oryszyn Ocalenie Atlantydy (2012) // Prace Literaturoznawcze. 2018. № 6.
- Grynberg H. Życie ideologiczne, osobiste i artystyczne. Warszawa: Świat Książki, 1998. 410 s.
- Iwasiów I. Ręka w rododendronach. Tygodnik Powszechny. 2012. № 44. https://www.tygodnikpowszechny.pl/reka-w-rododendronach-17500 (дата обращения: 14.12.2023).
- Krаskowska E. Niny Rydzewskiej «Ludzie z węgla» (1951) i Zyty Oryszyn «Ocalenie Atlantydy» (2012): próba lektury palimpsestowej // Wałbrzych i literatura. Historia kultury literackiej i współczesność. Wałbrzych: PWSZ im. Angelusa Silesiusa, 2014. S. 223–240.
- Miłosz Cz. Szukanie ojczyzny. Kraków: Znak, 1996. 217 s.
- Ossowski S. O ojczyźnie i narodzie. Warszawa: PIW, 1984. 152 s.