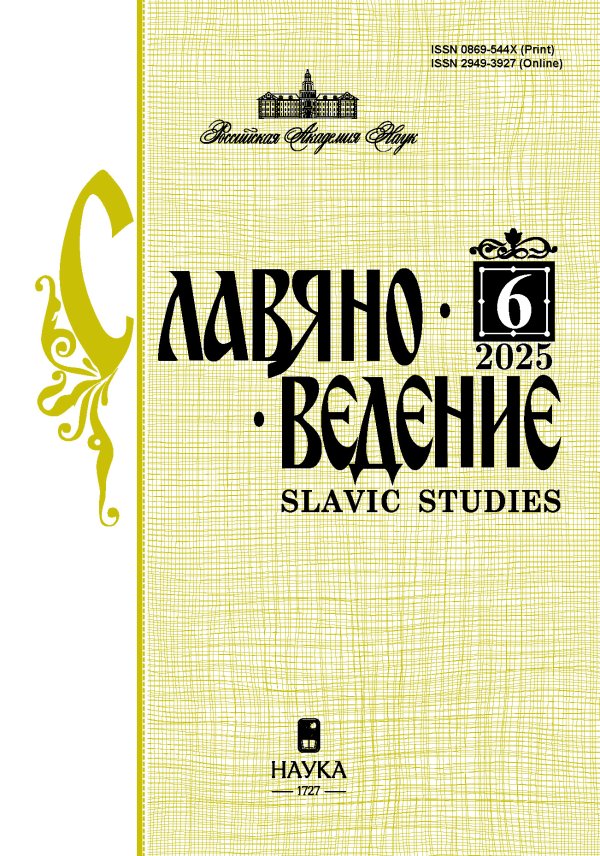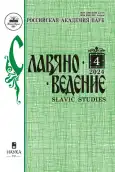Dissidence of Ahmet Şerif Şerefli: The Trauma of the «Revival Process»
- Authors: Lunkova N.A.1
-
Affiliations:
- Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences
- Issue: No 4 (2024)
- Pages: 105-115
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/265137
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24040095
- EDN: https://elibrary.ru/WWMHIF
- ID: 265137
Full Text
Abstract
The article explores the destructive effects of forced Bulgarianization on the identity of a national minority, illustrated by the life and career of Ahmet Şerif Şerefli, a Bulgarian writer of Turkish descent who endured the ‘Revival Process’ policies in the 1980s. The analysis focuses on excerpts from his memoir «We Were Born Turks and Died as Turks» and his essay collection «First and Foremost, They Shackled Our Thoughts». These works highlight the significance of the Turkish language and Turkish identity. Şerefli’s memoirs argue that maintaining one’s native language is crucial for preserving Turkish identity amidst attempts to distort it. The memoirs serve as a means of articulating, processing trauma, and striving to repair a fractured identity. The writer’s traumatic experiences are reflected both thematically and structurally in his memoirs, which resemble a series of short epic narratives without chronological order, forming a mosaic of stories about life in Bulgaria, imprisonment, and Şerefli’s musings on his craft, the fate of his people, language, and identity. This fragmented structure underscores how trauma influences the way memories are expressed.
Keywords
Full Text
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
НРБ – Народная Республика Болгария
БКП – Болгарская коммунистическая партия
ЦК БКП – Центральный Комитет Болгарской Коммунистической партии
Творческое наследие жертв «возродительного процесса» – принудительной болгаризации мусульманского населения во второй половине 1980-х гг. – это «травма, лишенная голоса, заглушенная, невысказанная» [Чернокожев]. Не имея возможности использовать родной язык, лишенные имен, данных при рождении, болгарские писатели турецкого происхождения оказались вычеркнуты из естественного хода литературного процесса: публикация ряда их произведений была осуществлена за пределами Болгарии (в основном в Турции) уже после 1989 г. Большинство рукописей было изъято во время обысков и уничтожено, их вывоз за пределы Народной Республики Болгарии был запрещен. Желание руководства страны разрушить национальную идентичность болгарских мусульман обернулось травматическим опытом для нескольких сотен тысяч людей, а законодательная попытка Болгарской Коммунистической партии «отменить» другие этносы с помощью запретов и масштабных чисток не привела к сплочению болгарской нации. Напротив, политика насильственной болгаризации стала одним из факторов, которые ускорили распад коммунистической системы. Права на турецкие имена и фамилии, а также на преподавание турецкого языка были возвращены после падения режима Т. Живкова, а часть турецкого населения смогла вернуться с «большой экскурсии» 1.
«Возродительный процесс», ставший кульминационной точкой ассимиляционной политики коммунистического руководства НРБ в отношении болгарских турок, основывался на искусственной идее гомогенности болгарского населения. В конце 1984 г. правительство приняло ряд решительных мер: у мусульманского населения заменялись арабо-турецкие имена на славянские, был введен запрет на использование турецкого языка, ношение традиционной мусульманской одежды, проведение религиозных обрядов.
«Турецкий вопрос» как таковой (религиозные права, использование турецкого языка, существование общественно-политических организаций национального меньшинства и другие аспекты) на протяжении всего существования Болгарии после Освобождения не оставался на периферии общественно-политической жизни страны. Само появление турецкого меньшинства в Болгарии – пример того, как народность, ранее преобладавшая в структуре мультинациональной Османской империи, не заняла ключевые позиции в рамках новых государственных образований на Балканах конца XIX в. После освобождения Болгарии от власти Порты болгарские турки оказались в довольно уязвимом положении, ибо не принадлежали ни конфессионально, ни этнически к доминировавшей части населения. Болгары несколько веков занимали подчиненное положение в прежней государственной системе, и болгарское общество хотело получить компенсацию за травму, нанесенную собственной идентичности, что подтверждает анализ национальной политики в отношении болгарских турок. Стоит отметить, что попытки насильственной болгаризации проводились не только применительно к туркам, но и к другим болгарским мусульманам – цыганам и помакам, что вписывалось в магистральную линию политики БКП по отношению к национальным меньшинствам. Комплексная политика ассимиляции, предполагавшая различные способы воздействия на болгарских мусульман, включала в себя и депортацию, и насильственную смену имен, и другие формы репрессий. Это среди прочего объяснялось тем, что «…и в буржуазной, и в социалистической Болгарии власти опасались концентрации больших масс мусульманского населения, усматривая в нем потенциальную “пятую колонну”» [Волокитина 2014, 211].
С конца 1960-х гг. этническая политика НРБ, основным идеологом которой выступал Т. Живков, неразрывно была связана с идеей болгарского происхождения всего населения страны. Т. В. Волокитина обращает внимание на то, что именно в этот период «с подачи партийно-государственного руководства» осуществлялась «кампания по возвеличиванию болгарской истории; большое внимание уделялось жизнеописаниям болгарских царей и ханов, староболгарским традициям и ритуалам. В печати, и особенно в устной пропаганде, упор делался на вклад Болгарии в мировую культуру, науку и пр.» [Там же, 223]. Создание нового болгарского мифа было следствием опыта национальной травмы, когда коллективные реакции на нее приобретают стандартизированные формы и складываются в легенды. Исследуя природу национальной травмы и коллективной памяти, А. Нил отмечает, что исторические воспоминания о прошлом важны для представлений о величии нации. Неслучайно в это же десятилетие, в 1964 г., в Болгарии появляется и знаменитый роман «Време разделно» («Час выбора») А. Дончева, повествующий об исламизации болгар в XVII в. Роман был экранизирован в 1988 г., фильм вышел в прокат под названием «Време на насилие» («Время насилия») в самый разгар «возродительного процесса». Ряд исследователей указывает на заказной характер книги, усматривая в ней пропагандистский характер (см., например [Горчева 2008]).
Особого внимания заслуживает и политика НРБ по отношению к турецкому языку. На заре установления коммунистической власти в болгарском государстве существовала иллюзия полиязычности, но уже в середине 1950-х годов ситуация для турецкого национального меньшинства резко изменилась, когда «все турецкие школы были объединены с болгарскими. В 1960 г. начала постепенно прекращать работу турецкая пресса: основные турецкие газеты “Нова светлина” («Новый свет») и “Нов живот” («Новая жизнь») объединены в журнал “Нов живот”, турецкие дома культуры были слиты с болгарскими, а турецкие книги, отобранные в их библиотеках, частично уничтожили, остальное же включили в cписок запрещенной литературы» [Муратова, Зафер 2020, 22]. В середине 1970-х годов был взят государственный курс на моноязычие. В частности, в ходе этого процесса было уволено большое количество турок, работавших в Турецком отделе издательства «Народна просвета» («Народное просвещение»), а на их место назначены не знающие турецкого языка болгары. «В начале 1970-го вместе с еще шестью редакторами меня отстранили от работы в издательстве. По тайному решению Политбюро ЦК БКП было запрещено издание книг на турецком языке», – вспоминал С. Тата, один из редакторов-турок 2. К печати был разрешен только Назым Хикмет. У турецкой интеллигенции (например, Р. Кюпчю, Р. и М. Молловых, К. Хаджиоловой, Ю. О. Эрендорука и др.) проводились обыски, изымались книги, рукописи, записи полевых исследований; за писателями, журналистами, учеными была установлена слежка, многие из них были арестованы, заключены в тюрьмы или убиты.
В процессе анализа травмы «возродительного процесса» важным представляется тезис Ю. Ф. Зудинова о характере вмешательства власти в жизнь турецкого меньшинства: «По существу происходило вторжение в глубинные, исторически сложившиеся пласты этнопсихологии, внутреннего духовного мира, жизненного уклада, т. е. в те сферы, которые в принципе трудно поддаются разрушающему их внешнему воздействию и регулированию. […] В ходе этого процесса и среди мусульман, этнических турок оказалось определенное количество его сторонников, энтузиастов, по крайней мере вербальных. Кого-то запугали или подвергли “партийной мобилизации”, кого-то уговорили или “ублажили”. Существенно расширилась почва для конформизма, двойной морали» [Зудинов 1994, 232]. Усилия правительства были направлены на разобщение мусульманской общности, на вмешательство в сферу их национальной идентичности, что неизбежно влекло за собой негативную реакцию: протесты мусульманского населения имели разные формы – от молчаливого несогласия до участия в открытом сопротивлении: «…в 1988–1989 годах болгарские интеллигенты и правозащитники присоединились к протестам болгарских турок и представляли их требования на международной арене. Стоит добавить, что и раньше в истории болгарского диссидентского движения было много примеров солидарности этнических болгар с болгарскими турками, а также с трагической судьбой болгар-мусульман (принявших ислам, но говорящих по-болгарски, – так называемых помаков)» [Неделчев 2022, 56].
Литература, созданная жертвами «возродительного процесса» 1980-х гг., являет собой способ, с одной стороны, эмоциональной переработки травмы, с другой – ментальной, а ее постулирование, актуализация необходимы для восстановления коллективной идентичности. Главными для мусульманских авторов стали вопросы языковой и национальной идентичности, определения родины, роли данного при рождении имени, памяти о насилии, темы боли, расставания и смерти, именно они определили общий нарратив о пережитой травме. В их литературе «травма-как-сюжет (курсив автора. – Н.Л.) является не только поводом для переосмысления утраченного прошлого: травма задает здесь общую систему повествовательных координат. Специфические ситуации жертв или очевидцев приобретают статус авторских позиций, с точки зрения которых репрезентируется прошлое и воспринимается настоящее» [Ушакин 2009, 9]. Воспоминания об общей национальной трагедии, возвращение к прошлому нужны, чтобы преодолеть коллективную и индивидуальную травмы.
Особое внимание разграничению индивидуальной и коллективной травмы уделил К. Эриксон, понимая под первой сильный удар по психике человека, который не в состоянии отреагировать на него должным образом, а под второй «удар по основным тканям социальной жизни, который разрушает узы, связывающие людей вместе, и ослабляет преобладающее чувство общности. Коллективная травма медленно и даже коварно проникает в сознание тех, кто от нее страдает, поэтому она не обладает той внезапностью, которая обычно ассоциируется с “травмой”. Но все же это своего рода шок, постепенное осознание того, что сообщество больше не существует как эффективный источник поддержки и что важная часть личности исчезла… “Я” продолжает существовать, хотя и имеет повреждения и, возможно, даже навсегда изменилось. “Ты” продолжает существовать, хотя на расстоянии, и с ним трудно взаимодействовать. Но “Мы” больше не существует как связанная пара или как объединенные ячейки в более крупном коллективном теле» [Erikson 1976, 154]. Травма применительно к переживаниям группы людей, по А. Нилу, происходит вследствие нанесенного ущерба или посягательства на социальную жизнь. Когда из общественной жизни исчезает предсказуемость и появляется хаос, люди перестают быть уверенными в том, что могут видеть события в их взаимосвязи, по причине чего возникают тревожные вопросы о связи исторических обстоятельств с их собственной жизнью [Neal 2005]. В работе «Смыслы социальной жизни: Культурсоциология» Дж. Александер, понимая под культурной травмой сообщества «какое-либо ужасающее событие, которое оставляет неизгладимые следы в их групповом сознании, навсегда отпечатывается в их памяти и коренным и необратимым образом изменяет их будущую идентичность» [Александер 2013, 255], говорит о необходимости ее «проговаривания» для восстановления поврежденной идентичности.
Среди болгарских писателей турецкого происхождения, пострадавших от «возродительного процесса», выделяется фигура Ахмета Шерифа Шерефли (1926–2000), в чьем творческом наследии особенно остро заявлена травма «отверженных приобщенных» (термин болгарской исследовательницы Е. Ивановой) и чья жизнь служит примером сопротивления тоталитарному режиму. Несмотря на то что в Болгарии не была развита система организованного противостояния коммунистической власти и не проводились такие масштабные акции протеста, как в других странах социалистического блока, «это, однако, не означает, что Болгария представляла собой этакое стоячее болото “реального социализма”, была страной без гражданского самосознания, где в отсутствие свободы царили лишь смирение и подхалимское верноподданничество» [Неделчев 2022, 53]. В связи с этим мы можем рассматривать этнических турок, несогласных с политикой насильственной ассимиляции и отстаивавших свое право на национальную идентичность, как один из типов болгарских диссидентов.
Шерефли родился в с. Хлебарово (сейчас – Цар-Калоян) в Разградской области. Получив начальное образование и окончив прогимназию, он продолжил обучение в Нюввабе – мусульманской духовной школе. По настоянию отца он выучился швейному делу, но всю жизнь мечтал заниматься литературой вопреки отцовской воле. В 1953 г. Шерефли получил вторую премию на поэтическом конкурсе газеты «Народна младеж» («Народная молодежь») и был приглашен работать в софийской детской газете «Септемврийче» («Сентябренок»). Затем он сотрудничал с турецкоязычными изданиями «Народна младеж» (тур. «Halk Gençliği», «Народная молодежь»), «Нова светлина» (тур. «Yeni ışık», «Новый свет») и «Нов живот» (тур. «Yeni hayat», «Новая жизнь»). В 1960-е годы у Шерефли вышло несколько сборников стихов на турецком языке, повесть «Ширин», путевые очерки «По стране шаг за шагом».
После введения запрета на использование турецкого языка для Шерефли, отказавшегося вступить в партию, двери редакций газет и журналов были закрыты, но он продолжал творить, не имея возможности быть опубликованным. В ходе обысков у писателя были изъяты рукописи, книги на турецком языке, а сам он в 1975 г. был арестован и отправлен в тюрьму, где подвергался пыткам (в том числе газом), об этом травматическом опыте он впоследствии будет вспоминать в своих книгах. Выйдя из тюрьмы в 1977 г. («…его здоровье было сильно подорвано – он весил всего 26 килограммов» [Зафер 2009, 364]), Шерефли с трудом нашел работу в мастерской по ремонту одежды. В 1985 г. в ходе очередных обысков у него снова конфисковали материалы на турецком языке, включая и те, что не были обнаружены ранее. После 18 лет отсутствия публикаций писатель вновь предпринял попытку быть напечатанным на болгарском языке, отправив в ряд издательств свои рукописи, которые сам и перевел, но они так и остались неизданными.
В возрасте 63 лет Шерефли навсегда покинул Болгарию, вынужденно эмигрировав в Турцию, где старался наверстать годы насильственного молчания. При пересечении границы по невнимательности таможни ему удалось вывести часть написанных им текстов за пределы Болгарии: в частности, речь идет о 180 страницах спрятанной им в родном селе рукописи, созданной еще в 1983–1984 гг. на основе тюремных записок арабской вязью, которые он смог вынести на свободу.
В первой половине 1990-х годов Шерефли сотрудничал с турецкими периодическими изданиями – печатными органами эмигрантов в Болгарии, в том числе с журналом «Турецкая культура на Балканах». В 1994 г. вышла книга стихов в прозе под названием «Пусть земля будет зеленой, а небо – синим». Писатель умер в 2000 г. в Бурсе, оставив готовыми к печати несколько книг, которые увидели свет благодаря его брату. В 2000 г. был опубликован сборник стихов «Слишком поздно», затем книга воспоминаний и эссе «Прежде всего они сковали наши мысли» (2001), исследовательская работа «Турки в Болгарии 1879–1989» (2002), роман «Ты не приезжай в Стамбул» (2003) и сборник «На прощание. Воспоминания, дневники, афоризмы и эпиграммы» (2006).
Одной из немногочисленных научных работ, специально посвященных А. Шерефли, в настоящий момент является статья «Диссидент в Болгарии – эмигрант в Турции (мемуары Ахмета Шерифа Шерефли)» [Зафер 2009] Зейнеп Зафер, где автор прослеживает основные этапы творческого и жизненного пути Шерефли, вписывая его в общественно-политический контекст и уделяя особое внимание периоду его тюремного заключения, теме взаимоотношений с надзирателями и заключенными 3. Нас же в творческом наследии Шерефли в первую очередь будут интересовать травматический опыт замены арабо-мусульманских имен и насильственного запрета на использование родного языка, рассуждения писателя об их роли в структуре национальной идентичности.
В контексте разговора о протестном поведении представителей турецкой интеллигенции, оказавшейся в ситуации, когда невозможно использовать свой язык ни для каких целей в пределах границ государства, важным оказывается факт взаимосвязи языка и идентичности: именно родной язык выступает средством внутренней и внешней идентификации личности, формируя ее самосознание и представляя собой способ бытования человека в мире. Общее пространство исторического и культурного опыта формируется благодаря языку, определяющему принадлежность к этнической группе и выступающему гарантом преемственности поколений, которые объединены общей культурной памятью, системой аксиологических норм.
При анализе высказываний Шерефли о языке представляется возможным опираться на философские рассуждения Х.-Г. Гадамера о взаимосвязи языка и бытия. Согласно его концепции, «подлинное бытие языка в том только и состоит, что в нем выражается мир. Таким образом, исконная человечность языка означает вместе с тем исконно языковой характер человеческого бытия-в-мире» [Гадамер 1988, 513]. Для Шерефли тождественны понятия жизни, родины, языка и национальности: «Когда исчезает язык, все заканчивается. Если язык мертв, нация или нации тоже мертвы. Сегодня я нахожу убежище в своем языке как в родине. Я хочу писать и творить на этом языке. Национальность – это кристаллизованное наследие крови. Наш язык – это наша земля, наша Родина, наша вера, наша культура и литература. Я хочу сохранить свой язык и свою Родину своим пером, даже в тюрьмах. Именно по этой причине я взращиваю свою свободу в этой тьме» 4.
Для писателя является априорной устойчивая связь между языковой и национальной идентичностью: «Знаете ли вы, что в этой стране потерянных предков, где я живу как арендатор, мои мысли всегда были на турецком языке? Я всегда любил своих близких турецкой поэзией и турецким сердцем. Поэтому я турок по сердцу и крови. Мой турецкий – мое национальное достояние, говорить на нем – мой долг. Этот язык был доверен мне» 5. В основе «турецкости», таким образом, для Шерефли лежит именно язык, и говорить на турецком – и значит быть турком.
В рамках рассуждений о невозможности использовать родной язык Шерефли неоднократно высказывает опасения о дальнейшей судьбе турецкого языка, который подвергается болгаризации, чахнет, «брошенный без садовника»: «Делиорманское наречие, на котором говорили мои родители, было очень богатым региональным языком. Это был язык семьи и дома. Ничего не было написано на народном языке… Народные песни, былины, народные стихи, анекдоты, поэмы, пословицы, сказки […]. Поскольку это богатство больше не подпитывается, оно вот-вот высохнет, как пресноводное озеро» 6. Руководство НРБ активно продвигало идею создания искусственного турецкого языка: под предлогом того, что болгарские турки не понимали турецкий литературный язык, сформированный на основе стамбульского диалекта, им стоило опираться на кырджалийский и/или делиорманский диалект турецкого, используемый на территории Болгарии. Шерефли обращал внимание на то, что власти настаивали на отказе от стамбульского диалекта совсем по другим, политическим причинам: «Мы социалистическая страна, а Турция – капиталистическая. У вас нет ничего общего с турками в Турции» 7. Заимствованные слова в турецком следовало писать и произносить в соответствии с правилами болгарской орфографии и фонетики и др. 8 Данная языковая политика привела к тому, что болгарские турки, по убеждению исследователей, «не могли создавать шедевры ни на родном турецком, ни на официальном языке страны, в которой они родились и жили. Таково мнение ряда писателей Турции, включая Азиза Несина, о творчестве болгарских турок. Писатели-переселенцы среднего возраста продолжали творить и печататься в Турции, но не могли достичь уровня художественного мастерства рожденных и выросших в ней писателей. Они были обречены остаться в границах литературы “среднего уровня”» [Зафер 2009, 374].
Насильственное вмешательство в бытование турецкого языка на территории Болгарии остро ощущалось Шерефли, для которого родной язык был оплотом идентичности, ее «убежищем». Рассматривая языковую и национальную компоненту своей личности в неразрывной связи друг с другом, писатель не мог не воспринимать происходящее с ним и другими «писателями, осужденными за свое свободомыслие» 9, как культурную травму, повреждающую мировоззрение всего этнического сообщества, испытывающего страдание. Неслучайно одним из сквозных в его воспоминаниях является мотив раны: он, как и другие болгарские мусульмане, подчеркивает, что постоянно чувствует себя подавленным и испытывает боль от отсутствия одобрения, поддержки, от жестокости («В рецензии были места, которые меня ранили» 10, «Их слова и сомнения сильно ранили меня» 11, «Социализм нанес глубокие раны и туркам, и болгарам» 12, «Неизлечима и очень глубока та рана, которую нанесли ятаганом насмешки» 13 и т. д.).
С мотивом раны у Шерефли тесно связан мотив одиночества, что в свою очередь отсылает к синдрому непризнания. Хотя Шерефли, как и другие болгарские писатели турецкого происхождения, страдал от насильственного молчания, он чувствовал непреодолимую потребность выражать свое творческое «Я», не отказывался от занятия литературой и использования родного языка, писал «в стол» вопреки официальному запрету, что приводило к травле, обыскам, допросам, заключению. Очевидно, что он, будучи частью травмированного сообщества, испытывал синдром отмены и неудовлетворенность в самореализации. В работе «Травма, признание и место языка» Дж. Митчелл обращается к исследованию М. Эрнандеса о пациенте, ставшем жертвой насилия в детском возрасте, однако «после происшествия никто из домашних не заметил подавленного состояния ребенка. У взрослого пациента сформировался симптом наваждения, связанный с ощущением того, будто все на него смотрят, смеются над ним, преследуют его» [Митчелл 2009, 788]. Человек ощущает травму, поскольку его «преследует память о не-признании или не-замеченности, а также симптом, указывающий на то, что он страдает от нежелательного и чрезмерного внимания» [Митчелл 2009, 788]. Шерефли все так же имел потребность в том, чтобы быть на виду, испытывал желание быть признанным в творческих кругах (как литератор), но стал объектом пристального внимания по иной причине (как турок, он был мишенью карательной политики) и вследствие репрессий был вынужден вести себя, напротив, наиболее незаметным образом. И, навсегда покидая свой дом, Шерефли старается все делать украдкой из опасений, что за ним опять кто-то наблюдает: «…чтобы мои шаги не слышали соседи (все они болгары) с седьмого этажа, где я жил в одиночестве и страдании. Идя бесшумно и не дыша, я был похож на вора» 14. Квартиру, на двери которой виднелись «кровавые раны» от милицейских сапог, писатель называет «клубком воспоминаний», «свидетелем страданий и того, что здесь он говорил и плакал на турецком», того, что сюда приходили, чтобы «отнять его благословенное турецкое имя» 15.
Необходимость отказа от своей национальной идентичности («Но ты болгарин. Для нас каждый болгарин очень ценен. Мы вас поневоле сделали турками… – Как?! – Как? Мы открыли турецкие школы. Распорядились, чтобы выходили турецкие книги. Мы издавали газеты на турецком языке. Постоянно взращивали ваше турецкое самосознание. А вы сейчас нам противостоите. Выступаете против политики партии. Вы отуреченные болгары. Пришло время, чтобы вы вернулись к своим корням, идентифицировали себя, пока еще не поздно. Вы возвращаетесь к своему настоящему самосознанию» 16) и тот факт, что часть его этнического сообщества приняла ассимиляцию, а некоторые – даже извлекли из этого выгоду 17, заставляли писателя испытывать чувство стыда: «Ни за кого мне не было стыдно больше, чем за тех, кто скрывает свои имена и национальность» 18, «…я знаю молодых людей, которые предпочитают скрывать свои благословенные имена. Эти подлецы больше всего ранят мою душу» 19. Отказаться от имени, данного по рождению, означает, по Шерефли, предать память предков, ибо «имя – родословное древо, что хранит честь поколений».
Шерефли – свидетель истории дискриминации болгарских мусульман, жертва антигуманного «возродительного процесса». Не только сама травма, но и невозможность вовремя «проговорить» ее на родном языке усилили негативный опыт прошлого. Травмированность сознания автора нашла отражение как на идейно-тематическом уровне его мемуаров, так и на уровне их поэтики: фрагментированность воспоминаний писателя, не выстроенных в логичный и хронологически последовательный ряд, подтверждает мысль о том, что событие-травма мешает адекватной языковой репрезентации и отражается на вербализации воспоминания о нем. «Давайте укроемся в нашем языке и будем существовать. Мы можем сохранить этот язык живым» 20, – писал Шерефли в книге «Прежде всего они сковали наши мысли», и, кажется, только его глубокая вера в необходимость противостоять официальным запретам на то, чтобы быть тем, кто ты есть по рождению («Это преступление не знать себя, Мехмет. Мы можем познать и познать себя только через наш язык…» 21), убежденность в собственной правоте, любовь к своему языку, а значит – нации, всему, что ей создано, помогли ему выдержать и тюремное заключение, и пытки и вернуться к нормальной жизни («Если мы создадим свою национальную личность, мы будем спасены от всех смертей» 22). Повествование о травме «возродительного процесса» стало для автора способом вернуть поврежденную идентичность.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Шерефли А. Най-напред оковаха мисълта ни // Когато ми отнеха името. «Възродителният процес» през 70-те – 80-те години на XX век в литературата на мюсюлманските общности / съст. З. Зафер, В. Чернокожев. София: Изток-Запад, 2015а. С. 149–159.
Шерефли А. Родихме се турци и турци умряхме // Когато ми отнеха името. «Възродителният процес» през 70-те – 80-те години на XX век в литературата на мюсюлманските общности / съст. З. Зафер, В. Чернокожев. София: Изток-Запад, 2015б. С. 116–148.
Alper O. R. Mülteci Komünist. İstanbul: Timaş Yayinlari, 1995. 518 s.
Şerefli A. Ş. Önce Düşünceler Kelepçelendi. İstanbul, 2001. 396 s.
Tata S. Türk Komünistlerinin Bulgaristan Macerası. İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1993. 157 s.
1 «Большая экскурсия» («Голямата екскурзия») – массовое выселение турецкого меньшинства летом 1989 г. В этот период из НРБ в Турцию эмигрировало более 350 тыс. человек.
2 Tata 1993, 29.
[3] Кроме того, З. Зафер наряду с В. Чернокожевым выступила составителем и редактором антологии произведений болгарских мусульман, жертв «возродительного процесса»: Когато ми отнеха името. «Възродителният процес» през 70-те – 80-те години на XX век в литературата на мюсюлманските общности / съст. З. Зафер, В. Чернокожев. София: Изток-Запад, 2015. 464 с.
4 Şerefli 2001, 26.
5 Ibid., 19.
6 Ibid., 41.
11 Шерефли 2015а, 153.
12 Шерефли 2015б, 144.
13 Ibid., 117.
17 См., например: Шерефли 2015б, 137–143.
18 Şerefli 2001, 26.
About the authors
Natalia A. Lunkova
Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: lunkova_n@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9193-3890
Junior Researcher
Russian Federation, MoscowReferences
- Alexander Jeffrey C. The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology. New York, Oxford University Press Publ., 2003, 296 p. (Russ. ed.: Aleksander Dzh. Smysly sotsial’noi zhizni: Kul’tursotsiologiia. Moscow, Izd. i konsaltingovaia gruppa «Praksis» Publ., 2013. 640 p.)
- Chernokozhev V. Vidiah edno nespodeleno, neizgovoreno stradanie. Vŭpreki. Available at: https://въпреки.com/post/111194945191/доц-вихрен-чернокожев-видях-едно-несподелено (accessed: 10.08.2023). (In Bulg.)
- Erikson K. T. Everything in its Path: Destruction of Community in the Buffalo Creek Flood. New York, Simon and Schuster Publ., 1976. 284 p.
- Gadamer H-G. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen, Mohr, 1960, 486 р. (Russ. ed.: Gadamer Kh.-G. Istina i metod: Osnovy filosofskoi germenevtiki, ed. B. N. Bessonova. Moscow, Progress Publ., 1988, 704 p.).
- Gorcheva D. Kogo razdelia ‘Vreme razdelno’. Bŭlgarskiiat helzinkski komitet. Available at: https://www.bghelsinki.org/bg/publication/kogo-razdelya-vreme-razdelno (accessed: 25.02.2024). (In Bulg.)
- Mitchell J. Trauma, Recognition, and the Place of Language. Diacritics, 1998, vol. 28, no. 4, pp. 121–133. (Russ. ed.: Mitchell Dzh. Travma, priznanije i mesto iazyka. Travma: punkty, eds. S. Ushakin i Je. Trubina. Moscow, Novoje literaturnoje obozrenije, 2009, pp. 785–808.)
- Muratova N., Zafer Z. Politicheski i nauchni represii – sluchaiat Haĭrie Memova-Siuleĭmanova. Balkanistic Forum, 2020, vol. 3, pp. 9–56. DOI: https://doi.org/10.37708/bf.swu.v29i3.1 (In Bulg.)
- Neal A. G. National trauma and collective memory: extraordinary events in the American experience. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2005. 254 p.
- Nedelchev M. Bolgariia. Istoricheskii ocherk. Entsiklopediia dissidentstva. Vostochnaia Jevropa. 1956–1989: Albaniia, Bolgariia, Vengriia, Vostochnaia Germaniia, Pol’sha, Rumyniia, Chekhoslovakiia, Iugoslaviia, ed. A. Iu. Daniel’. Moscow, Novoje literaturnoje obozrenije Publ., 2022, pp.53–58. (In Russ.)
- Ushakin S. «Nam etoi bol’iu dyshat»?: o travme, pamiati i soobshchestvakh. Travma: punkty, eds. S. Ushakin i Je. Trubina. Moscow, Novoje literaturnoje obozrenije Publ., 2009, pp. 5–41. (In Russ.)
- Volokitina T. V. Bolgarskoje gosudarstvo, musul’manskoje naselenije i plany sozdaniia ‘kommunisticheskoĭ natsii’ (1960-je – 1970-je gg.). Rossiĭsko-bolgarskije nauchnyje diskussii. Rossiĭskaia i bolgarskaia gosudarstvennost’: problemy vzaimodeĭstviia. XIX–XXI vv., ed. V. P. Kozlov. Moscow, Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Sciences Publ., 2014, pp. 209–230. (In Russ.)
- Zafer Z. Disident v Bŭlgariia – emigrant v Turtsiia (memoarite na Ahmet Sherif Sherifli). Antitotalitarnata literatura: Preodoliavane na totalitarniia mantalitet, eds V. Chernokozhev, B. Kunchev, E. Sugarev. Sofiia: «Boian Penev» Publ., 2009, pp. 361–375. (In Bulg.)
- Zudinov Iu.F. «Musul’manskiĭ factor» v zhizni bolgarskogo obshchestva. Ochagi trevogi v Vostochnoĭ Jevrope (Drama natsional’nykh protivorechiĭ), eds. V. N. Vinogradov, T. M. Islamov, Iu. S. Novopashin. Moscow, Institute of Slavic and Balkan Studies, Russian Academy of Sciences Publ., 1994, pp. 215–247. (In Russ.)