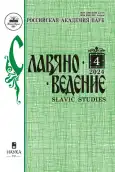Slovenian Poet and Austrian Writer: Maja Haderlap’s «Hybrid» Identity and Overcoming Post-Memory Trauma
- 作者: Starikova N.N.1
-
隶属关系:
- Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences
- 期: 编号 4 (2024)
- 页面: 116-125
- 栏目: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/265138
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24040107
- EDN: https://elibrary.ru/WWBOAK
- ID: 265138
全文:
详细
The cоntemporary literature of the Slovene minority living in Austrian Carinthia is a special phenomenon that combines national and multicultural components, as well as bilingualism. A striking example of this is the work of M. Haderlap (b. 1961), who writes poetry in Slovenian and prose in German. Her German-language novel «Engel des Vergessens» («Angel pozabe», 2011) is about the collective trauma of the past experienced by the Slovenian population who participated in the anti-fascist resistance during the Second World War (physical extermination and deportation to concentration camps), had a wide resonance in the European German-speaking sociocultural space. The plot is based on the personal story of the writer’s grandmother and father, who went through the Gestapo and Ravensbrück. One of the ways to express his attitude to a tragic topic and at the same time overcome the consequences of the post-memory mechanism was the choice of language for the author. By creating a novel in the language of the national majority on a topic that is «inconvenient» for its speakers and painful for the national minority, Haderlap, firstly, makes an attempt to distance himself from personal experiences, and secondly, to attract the attention of the general Austrian public to historical injustice, to evoke fellow citizens an impulse to repentance. The hybrid identity of the writer, who perceives her bilingualism as an undeniable advantage of creative self-expression, reflects the real trends in the literary development of Europe: the monolingual paradigm is being replaced by a focus on poly-and heteroglossia.
全文:
С момента расселения предков словенцев в восточно-альпийских областях (VI в. н. э.) территории их проживания постоянно оказывались объектом притязаний более могущественных соседей, что зачастую заканчивалось не в пользу словенского населения. В ХХ в. при определении новых государственных границ после Первой мировой войны крайне болезненным стал раздел южной Каринтии, некогда центра древнего словенского государства Карантания, т. е. исконно словенских земель. На протяжении столетий эти области являлись частью словенского культурного пространства, в середине XIX в. в городе Целовец (ныне Клагенфурт) было учреждено первое национальное просветительское издательство «Общество св. Мохора», крупнейший центр словенского книгопечатания своего времени. После распада Австро-Венгрии по результатам плебисцита 1920 г. каринтийские земли, на которых проживало более 80 000 словенцев [Vodopivec 2007, 253], были закреплены за Австрийской Республикой. Словенское население осталось в своих автохтонных областях, но вследствие передела границ оказалось под юрисдикцией нового государства. Вопреки обещаниям всячески способствовать сохранению языка и культуры национального меньшинства, на которые перед голосованием не скупились австрийские власти, немецкий язык оставался единственным официальным государственным языком Австрии. В этих условиях существенным фактором сопротивления ассимиляции стала для каринтийских словенцев литература на родном языке. До сих пор угроза ассимиляции для словенского национального меньшинства в Каинтии не теряет своей актуальности [Gračner 2016, 92].
Принципиальные изменения самой дефиниции «литература каринтийских словенцев» произошли в годы краха социализма, распада Югославии и провозглашения независимости Словении. Если до этого литературоведы и культурологи делали упор в основном на историко-культурной и этнической составляющей, то после 1991 г. на смену пришли интеграционные и кросс-культурные маркеры. На изменение акцентов повлияли новые эстетические концепции, дискуссии о межэтничности и мультикультурализме, курс политиков на трансграничное сотрудничество и не в последнюю очередь осознание разрыва между самим привычным монокультурным дискурсом и реальной литературной жизнью. В начале 1990-х выдающийся литературовед Б. Патерну констатирует, что разделение литературы на словенском языке государственными границами в новой реальности теряет смысл, ибо национальная словесность «едина и неделима» и все ее анклавы «чувствуют, думают и дышат на одном языке» [Paternu 1991, 1]. Через четверть века лингвистическая составляющая литературной практики каринтийских словенцев трансформируется: молодые авторы все чаще прибегают к билингвизму, проблематика их произведений начитает отдаляться от когда-то традиционной, нацеленной на сохранение родного языка, становится все менее обусловленной их этнической принадлежностью. Это стремление интегрироваться в мультикультурный австрийский контекст меняет сам статус литературы диаспоры – словенская каринтийская литература перестает быть периферийным компонентом литературного процесса, обретает языковую, культурную, эстетическую полифонию, важную роль в этом играет двуязычие. На смену языковому коду приходит региональный и формируется «особое каринтийское литературное пространство» [Bandelj 2008, 117] со своей художественной парадигмой. В XXI в. в рамках этого пространства сосуществуют произведения, написанные авторами словенского происхождения на родном языке, по-немецки и с использованием двуязычия [Старикова 2020, 453]. К последним относится принесший М. Хадерлап европейскую известность роман «Engel des Vergessens» / «Angel pozabe» / «Ангел забвения» (2011), созданный на пересечении нескольких актуальных для современной Каринтии дискурсов: партизанского (табуированная в Австрии тема антифашисткой борьбы), травматического (постпамять о коллективной военной травме) и лингвистического (выбор языка национального большинства для раскрытия трагической судьбы национального меньшинства). В 2012 г. роман был переведен на словенский язык, затем назван «одним из лучших литературных произведений, которое словенский автор […] предложил Европе» [Kuhar 2013, 160]. В течение последующего десятилетия книга была переиздана более 20 раз, в Словении вошла в школьную и вузовскую программу. Читательский успех европейского масштаба можно отчасти объяснить тем, что Хадерлап обратилась к практически неизвестным широкой аудитории эпизодам Второй мировой войны, поскольку и в Австрии, и в Словении трагическая судьба каринтийских партизан оставалась далеко на периферии писательского внимания. Помимо Австрии, широкий резонанс роман имел в Германии и Швейцарии. Хадерлап – первая в истории австрийской и словенской литератур женщина-автор, удостоенная за свое произведение премии Ингеборг Бахман, одной из самых значительных наград в современной немецкоязычной литературе (премия предназначена для писателей всего немецкоязычного европейского региона, т. е. социокультурной зоны и книжного рынка с населением более 95 млн человек).
Майя Хадерлап родилась в 1961 г. в местечке Железна-Капля в австрийской Каринтии в словенской семье. Языком ее образования был немецкий, языком детства – словенский. Билингвизм являлся данностью и оказал существенное влияние на формирование гибридной идентичности творческой личности Хадерлап. «Я себя не перевожу, я живу то на одном языке, то на другом в зависимости от конкретной ситуации, словенский – это мой родной язык, немецкий же, бесспорно, – второй родной» 1, – заметила она в одном из интервью. В семье поддерживался культ словенского языка, многие родственники (в том числе отец, тетя, брат) писали на нем стихи. Путь Хадерлап в литературу довольно типичен для современного европейского гуманитария: она изучала германистику и историю театра в Венском университете, защитила диссертацию по театроведению, преподавала в университете Клагенфурта, заведовала литературной частью клагенфуртского драматического театра, была главным редактором каринтийского литературного журнала на словенском языке «Mladje». Дебютировала как поэтесса сначала на словенском языке: сборники «Žalik pesmi» / «Волшебные стихи» (1983), «Bajalice» / «Палицы» (1987), «Gedichte – Pesmi – Poems» (1998), стихотворения, вошедшие в сборник «Dolgo prehajanje» / «Долгий переход» (2016) в оригинале написаны по-немецки и переведены на словенский Ш. Веваром. В Австрии в переводе Хадерлап на немецкий язык вышли произведения выдающегося словенского поэта-авангардиста С. Косовела (1904–1926). В культурном сообществе Каринтии она известна также своими публичными выступлениями и статьями, посвященными судьбе словенцев в Австрии во время Второй мировой войны и после нее. В основе отношения Хадерлап к этой теме лежат «опосредованные» воспоминания, возникшие под влиянием ее общения с членами своей семьи, являвшимися непосредственными участниками и очевидцами трагических событий военного прошлого. Именно воспоминания бабушки и отца, их оценка случившегося и их поведение стали основой ее восприятия этой проблематики в целом, определили эмоциональную палитру чувств, по сути, повторяющих те, что были пережиты старшими членами ее семьи. Таким образом, в соответствии с механизмом функционирования постпамяти «как структуры возвращения травматического знания и олицетворенного опыта – поверх и через поколения» [Hirsch 2008] на формирование взглядов будущей писательницы, внучки словенки, чудом вернувшейся живой из Равенсбрюка, оказали влияние события, произошедшие до ее рождения. Разоблачению роли Австрии в коллективной травме военного прошлого, пережитой каринтийскими словенцами, посвящена статья «Реальность теней», в которой Хадерлап называет ложными заявления Австрии о ее непричастности к зверствам Второй мировой войны и доказывает, что риторика и идеи нацистов возрождались в Каринтии и после нее, «когда политики в 1960–1970-е годы слово в слово повторяли мантру австрийских нацистов, что с этническими словенцами надо “покончить” раз и навсегда» [Haderlap 2012, 231]. В австрийском обществе активное сотрудничество властей с гитлеровским режимом в послевоенные годы последовательно замалчивалось, Австрия позиционировала себя как жертву нацизма, а не как его пособницу. Между тем во время войны словенское население Каринтии подвергалось преследованиям со стороны нацистов, физическому уничтожению и депортации в концентрационные лагеря, в частности за то, что оказывало врагам отпор. Выжившие участники антифашистского сопротивления после 1945 г. были вынуждены скрывать свое военное прошлое, потому что в Австрии, в отличие от Югославии, «их считали убийцами и предателями» [Zupan Sosič 2014, 33]. Австрийские власти подозревали подпольщиков-антифашистов в связи с коммунистическим режимом. После отказа Австрии по требованию Тито вернуть одной из республик СФРЮ – Словении – каринтийские территории, партизанские заслуги граждан капиталистического государства в социалистической Югославии не признавались. «Между официальной версией истории Австрии и ее реальной историей простирается ничейная земля, на просторах которой легко заблудиться. Я представляю себя мечущейся взад-вперед между темной, забытой частью подвала в австрийском доме и его светлыми, богато обставленными помещениями. Кажется, никто в светлых комнатах не догадывается или не хочет представить, что в этом здании есть люди, запертые политикой в подвале истории, где они окружены и отравлены собственными воспоминаниями» 2, – с горечью констатирует в романе Хадерлап. При этом она не выдвигает обвинений, не нападает на режим, а лишь репрезентирует воспоминания о событиях, которые продолжают тревожить поколения ее земляков. Не случайно доминирующей эмоцией повествования является ощущение тревоги и потери, которое рассказчица получает через механизм постпамяти «по наследству» от членов своей семьи, прошедших через пытки и нацистские лагеря. «Забыть ужас пережитого не дает “микроб памяти прошлого”. И страх, который присутствовал в жизни всех знакомых мне людей, пострадавших в годы войны […]. Они рассказывали друг другу военные истории, случаи, которые просто не могли держать в себе […]. Ребенком я часто слушала эти рассказы и чувствовала их боль» 3. Вербализируя табуированное в австрийском обществе прошлое посредством доступного этому обществу языкового нарратива, Хадерлап по сути реализует естественную потребность человека сохранить тождественность самому себе, поскольку «не будь у нас памяти, мы совсем не имели бы представления о причинности, а, следовательно, и о той цепи причин и действий, из которых состоит наше я, или наша личность» [Юм 1996, 407].
В основе сюжета произведения лежит реальная биография бабушки и отца писательницы (из живых свидетелей на момент публикации оставалась только мать Хадерлап, образ которой также выведен в романе и которая с большим энтузиазмом встретила книгу), рассказанная от лица героини-повествовательницы. Жизни этих самых близких ей людей – слепок истории, представленной через воплощение индивидуальных переживаний: в частной судьбе одной из многих словенских семей Австрии отражается хроника военной и послевоенной эпохи.
В жанровом плане роман «Ангел забвения» обладает выраженными чертами автобиографического романа воспитания (Bildungsroman), поскольку сфокусирован на истории формирования и развития личности [Бахтин 1979], для его композиции характерен принцип ступенчатости и поэтапности, который В. И. Пашигорев относит к специфике немецкой разновидности этого жанра [Пашигорев 2005, 11]. Первая часть (около половины текста) – это рассказ о раннем детстве писательницы, знáчимым взрослым для которой в это время является бабушка. Ее устные воспоминания о пережитом в годы войны, обстановка комнаты, предметы быта, привычки и правила становятся для девочки этически определяющими, воспитывают отношение к добру и злу. Вторая часть описывает процесс взросления героини в школьные и университетские годы, выбор профессии и языка творчества, трагическую смерть отца. Хотя бабушки уже нет в живых, память о ней, ее образ сопровождают рассказчицу, в сознании Майи бабушка продолжает оставаться ее наставницей, утешительницей, ангелом-хранителем. С возрастом внучка начинает понимать, через что пришлось пройти простой каринтийской крестьянке в концентрационном лагере Равенсбрюк, печально известном своими медицинскими опытами. Ей удалось выжить в нечеловеческих условиях, вернуться к семье и попытаться жить заново, потому что, в отличие от тысяч других, бабушке было к кому и куда возвращаться – многих ее соседей расстреляли, а дома сожгли. Прошлое оставалось с бабушкой всегда, поэтому в день поминовения на стол обязательно ставилось молоко в память о замученных в лагере детях, в шкафу долгие годы хранилось «пальто Гитлера» 4 – серо-зеленая шинель, спасшая бабушку от холодной смерти в Равенсбрюке, а среди бумаг и документов была спрятана алюминиевая лагерная ложка, «ложка-свидетель» 5. Ею можно было отскабливать пригоревшие остатки со дна кухонных котлов, которые чистили заключенные. «Наряд на кухню, – вспоминала она, – был большим везением! Я могла воровать эти отбросы и не только есть сама, но и относить в барак товаркам» 6.
Самая трагическая фигура в романе – отец писательницы, человек, которому так и не удалось справиться с травмой военного детства: за связь с партизанами его, десятилетнего мальчика, гестаповцы сначала зверски пытали, а потом приговорили к повешенью, и в живых он остался только чудом. Забыть такое невозможно, страшное прошлое не отпускает – став взрослым, отец не может найти себя в мирной жизни, ищет уединения, избегает социальных контактов, неоднократно оказывается в шаге от самоубийства, свидетелем чего становится его маленькая дочь («Отец входит в комнату и садится на лавку у печи. В руке у него веревка […]. Я с плачем кидаюсь ему на грудь. Отец бросает на меня растерянный взгляд, кажется, догадываясь, какие эмоции я сейчас испытываю. […] “Когда я надел петлю на шею, – произносит он, – то вдруг почувствовал, что меня что-то удерживает, знаешь, как будто бы ангел”» 7.) и в конце концов все-таки сводит счеты с жизнью.
Мотив ангела – хранителя судьбы, истории, родного языка – сквозной в произведении. Вынесенный в название, он отсылает к трем артефактам ХХ в.: гравюре художника П. Клее «Angelus Novus» (1920), философской интерпретации этого изображения, сделанной В. Беньямином в эссе «Тезисы по философии истории» (1940), и роману Ш. Аша «Назаретянин» (1939). В художественном образе, созданном Клее, немецкий критик и философ Беньямин увидел «ангела истории», отображающего его меланхолическую концепцию исторического процесса как непрекращающегося цикла отчаяния: «Его лик обращен к прошлому. Там, где для нас – цепочка предстоящих событий, там он видит сплошную катастрофу, непрестанно громоздящую руины над руинами и сваливающую все к его ногам» [Беньямин 2000]. Этот взгляд в будущее через призму трагического прошлого у Хадерлап дополняется аллегорией, позаимствованной у Аша: в его романе ангел забвения целует новорожденных, давая им счастливую возможность прожить жизнь, не отягощенную опытом предков. Вот только ангел этот рассеян, и случается, он забывает поцеловать младенца. Такой «непоцелованной» ангелом забвения, т. е. лишенной исторической амнезии, а значит, сохраняющей чувство исторической, этической и психологической преемственности, позиционирует себя писательница, для которой ежевечерняя молитва Ангелу-Хранителю была одним из главных ритуалов детства. Молитва эта произносилась по-словенски и именно в этом варианте вошла в немецкую версию романа: «Mutter betet mit mir sveti angel varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani, amen und sagt, das Engel in die Seele eines Menschen blicken und ihre geheimsten Gedanken lesen können» 8. («Мама вместе со мной произносит слова молитвы: свети ангел варух мой, боди ведно ти з меной, стой ми ночь ин дан об страни, всега худега ме брани, амен 9 и говорит, что ангелы могут заглядывать в душу человека и читать его самые сокровенные мысли»).
Словенский язык помимо очевидной художественной функции – создания национального культурного контекста, является в романе предметом размышлений, почти действующим лицом. Несмотря на то, что оригинал написан по-немецки, читателю абсолютно ясно, что действие происходит в словенской среде, герои общаются, молятся, поют на родном языке. Фамилии семей, члены которых выведены в качестве эпизодических персонажей, словенские: Расточник, Желодец, Перко, Майдич, в речь героев вкраплены цитаты из сказок, песенок, детских стихов О. Жупанчича, повествовательница вспоминает, как девочкой она с соседскими ребятами тайно смотрела словенский телевизионный канал, когда шел культовый детский фильм «Кекец». Родной язык имеет особую магическую силу оберега – семейная легенда гласит, что арестованный клагенфуртским гестапо дед-партизан в камере молился по-словенски и выжил, его погибшая в Равенсбрюке дочь, тетя Хадерлап, в лагере тайно писала стихи на родном языке, которые после войны были опубликованы. По мере взросления отношение к языку рождения у героини становится все осознаннее: чтобы сохранить возможность общения с родными и друзьями, «остановить угасание словенской речи в Каринтии» 10, еще студенткой она начинает писать словенские стихи, позже, работая в театре Клагенфурта и заметив, что в ее профессиональной деятельности родной язык почти полностью вытесняется немецким, принимает решение совершенствовать свое владение словенским, чтобы «не забыть, не бросить, не отказаться» 11.
Выбор Хадерлап языка национального большинства для создания произведения на тему, «неудобную» для его носителей и болезненную для национального меньшинства, «актуализируя вопрос об идентичности каринтийских словенцев, их “встроенности” в культурную жизнь Австрии» [Curk 2017, 41], несет в себе несколько мотивационных модальностей, о которых писательница говорит открыто. Первая – заместительная, т. е. использование немецкого языка как психологического защитного механизма: «Первым толчком к немецкому было ощущение, что он держит меня на расстоянии и мне легче писать, легче приближаться к этой болезненной и личной теме…»; «…немецкий язык, эмоционально дисциплинируя, дал мне возможность сохранить дистанцию по отношению к изображаемому. Я почувствовала, что это броня, которая защищает меня от пережитой боли, поняла, что выбор сделала правильно. Пиши я по-словенски, материал разрывал бы меня изнутри» 12. Таким образом, выбор языка стал для автора способом преодоления травмы постпамяти через нарратив, «языковое замещение […] дало автору возможность […] внутренне раскрепоститься и взглянуть на себя глазами другого» [Kos 2013, 260]. Вторая модальность, безусловно, этическая, – стремление привлечь внимание широкой австрийской общественности ко все еще актуальной исторической несправедливости, вызвать у сограждан если не чувство вины и стремление к покаянию, то хотя бы импульс к эмпатии. Рассказывая немецкоговорящей аудитории о трагическом военном прошлом своей семьи, писательница, подобно П. Целану, использует образы и слова, которые «отягощены» историей соучастия Австрии в войне: «Я хотела, чтобы этот сюжет был понятен не только каринтийским словенцам, которые знают свою трагическую историю, но и всему современному австрийскому обществу» 13, чтобы, как пишет одна из первых исследовательниц творчества Хадерлап в Словении С. Боровник, «австрийское большинство, наконец, посмотрело на себя в зеркало» [Borovnik 2012, 190]. Существенную роль сыграл, конечно, и прагматический стимул: роман, написанный по-словенски, не получил бы одну из престижнейших современных европейских литературных премий. На провокационный вопрос журналиста, не предательство ли словенской поэтессе из Каринтии писать прозу по-немецки ради тиража, Хадерлап ответила так: «Во-первых, поэзия более сокровенна, роман же всегда имеет эпическое, общественное измерение. Во-вторых, писать на языке малого народа, значит, попасть в зависимость от перевода. Да, тиражи романа на словенском, безусловно, были бы другими, но в Каринтии меня бы все равно не читали, поскольку мои земляки – заложники диалекта, они плохо владеют словенским литературным языком, так что даже моя поэзия “обречена” на читательскую аудиторию Словении» 14.
Гибридная идентичность каринтийской словенки Майи Хадерлап, ощущающей свой билингвизм как неоспоримое преимущество творческого самовыражения («Связующие нити, которыми я соединяю свои языки и культуры, – это конструкт, который поддерживает и защищает меня» [Haderlap 2016, 84]), отражает реальное состояние современной литературы словенского меньшинства, проживающего в Австрии: сочетание в ней национальных и поликультурных элементов. «В словенских литературоведческих исследованиях и литературной практике, – подчеркивает А. Корон, – в последнее десятилетие утверждается понимание того, что словенское культурное пространство больше не является одноязычным, что в нем сосуществуют, находясь в постоянном диалоге друг с другом, многие языки и культуры» [Koron 2020, 175]. В целом это отражает одну из актуальных тенденций литературного развития Европы: на смену монолингвальной парадигме приходит установка на поли- и гетероглоссию.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Haderlap M. Engel des Vergessens. Göttingen: Wallstein, 2011a. 288 s.
Haderlap M. Zdaj sem vse: slovenska pesnica in avstrijska pisateljica! Sprašuje Tanjа Lesničar-Pučko. Dnevnik, 27. avgust 2011b URL: https://www.dnevnik.si/1042468294/ljudje/intervjuji/1042468294 (дата обращения: 28.02.2024).
Haderlap M. Angel pozabe. Maribor: Litera, 2018. 210 s.
1 Haderlap 2011b.
2 Haderlap 2018, 98. Здесь и далее перевод цитат из словенской и немецкой версий романа сделан автором статьи. – Н.С.
3 Haderlap 2011b.
4 Haderlap 2018, 21.
6 Ibid.
7 Ibid., 85.
8 Haderlap 2011a, 123.
[9] Молитва Ангелу-Хранителю: «святой ангел, хранитель мой, будь же ты всегда со мной, днем и ночью за плечом, чтоб остеречь меня пред злом, аминь» (словен.). Словенские слова и выражения в немецкой версии романа выделены курсивом.
10 Haderlap 2018, 138.
12 Haderlap 2011b.
14 Ibidem.
作者简介
Nadezhda Starikova
Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences
编辑信件的主要联系方式.
Email: nstarikova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-1230-2244
D. Sc. (Philology), Head of the Department
俄罗斯联邦, Moscow参考
- Bakhtin M. M. Roman vospitaniia i ego znachenie v istorii realizma. Ėstetika slovesnogo tvorchestva. Moscow, Iskusstvo Publ., 1979, pp. 188–236 (In Russ.)
- Bandelj D. Večjezičnost v sodobni poeziji Slovencev v Avstriji: medkulturnost ali asimilacija? Slovenščina med kulturami. Celovec, Ljubljana, Slavistično društvo Slovenije Publ., 2008, pp. 106–118. (In Slovene)
- Borovnik S. Dvojna identiteta slovenske književnosti v Avstriji in roman Maje Haderlap Angel pozabe (2011). Večno mladi Htinj: ob 80-letnici Janka Čara, ed. Marko Jesensek. Maribor, Univerza v Mariboru Publ., 2012, pp. 187–199. (In Slovene)
- Curk M. Engel des Vergessens: pisanje o koroških Slovencih v nemškem jeziku. Primerjalna književnost, 2017, let. 40, št. 3, pp. 37–48. (In Slovene)
- Gračner U. Osebni, kolektivni spomin in identiteta v sodobnem slovenskem romanopisju na avstrijskem Koroškem. Colloquium: New Philologies, 2016, vol 1, no. 1, pp. 89–105. (In Slovene)
- Haderlap M. Die Wirklichkeit der Schatten. Begegnung mit einem Tabu. Sprache im technischen Zeitalter, 2012, vol. 50, no. 202, pp. 225–236.
- Haderlap M. Dolgo prehajanje. Ljubljana, Cankarjeva založba Publ., 2016, 84 p. (In Slovene)
- Hirsch M. Generation of Postmemory.
- URL: https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/ehrc/events/memory/poetics_today-2008-hirsch-103-28.pdf. (accessed 28.02.2024).
- Hume D. Sochineniia v 2 tt., vol. 1, Moscow, Myslʹ Publ., 1996, 736 p. (In Russ.)
- Koron A. Večjezičnost in večkulturnost v literarnih delih Josipa Ostija in Gorana Vojnovića. Literarna večjezičnost v slovenskem in avstrijskem kontekstu. Ljubljana, Založba ZRC Publ., 2020, pp. 165–177. (In Slovene)
- Kos M. Tako rekoč slovenski roman. Literatura, 2013, št. 25, pp. 255–264. (In Slovene)
- Kuhar P. Maja Haderlap: Angel pozabe. Sodobnost, 2013, let. 77, št. 1–2, pp. 158–160. (In Slovene)
- Pashigorev V. I. Roman vospitaniia v nemetskoĭ literature XVIII–XX vekov. Genezis i ėvoliutsiia. Avtoref. dis. … doktora filologicheskikh nauk: 10.01.03 / Mosk. ped. gos. un-t. Moscow, 2005, 32 p. (In Russ.)
- Paternu B. Vprašanje zavrtosti in prostosti v slovenski književnosti na Koroškem. Sodobnost, 1991, let. 39, št. 1, pp. 1–14. (In Slovene)
- Starikova N. N. Slovenskaia literatura v Avstrii (natsionalʹnoe i polikulʹturnoe). Slavianskii alʹmanakh, 2020, vol. 1–2, pp. 446–460 (In Russ.)
- Vodopivec P. Od Pohlinove slovnice do samostojne države. Slovenska zgodovina od konca 18. do konca 20. stoletja. Ljubljana, Modrijan Publ., 2007, 630 p. (In Slovene)
- Zupan Sosič A. Partizanska zgodba v sodobnem slovenskem romanu. Jezik in slovstvo,2014, let. 59, št. 1, pp. 21–42. (In Slovene)