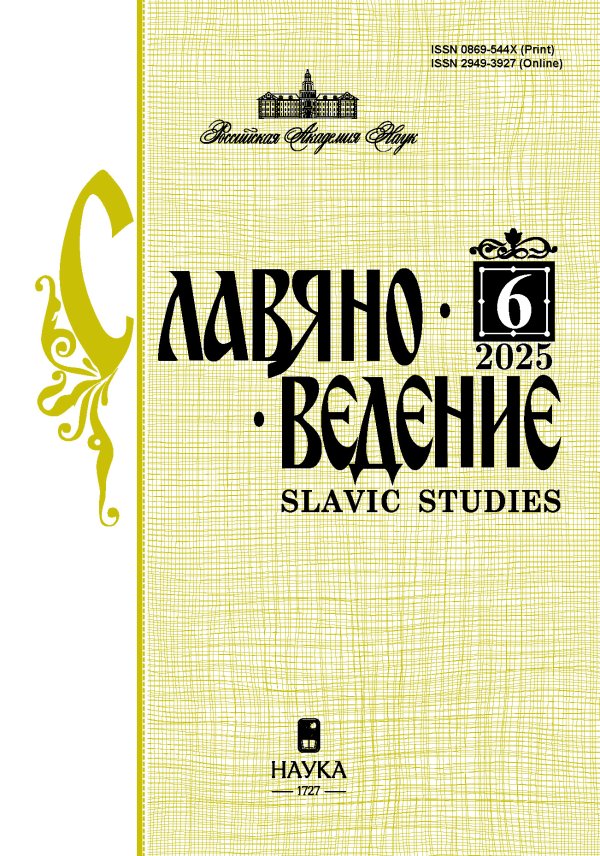The Warsaw Governorship General as a Transit Destination for Emigration from the Russian Empire in the Late 19th – Early 20th Centuries
- Authors: Komarov V.S.1
-
Affiliations:
- Center for Pedagogical Excellence (CPE)
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 5-18
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/266901
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24050013
- EDN: https://elibrary.ru/YUMAAE
- ID: 266901
Full Text
Abstract
The Warsaw Governorship General played a significant role in the illegal emigration from the Russian Empire, which became a significant state problem at the turn of the XIX–XX centuries. Based on pre-revolutionary legislation and a wide range clerical work documents from the archives of Russia and Poland, the peculiarities of crossing the state border within the Warsaw Governorship General up to the outbreak of the First World War are considered. The proximity to German ports on the Baltic Sea, the existence of extensive networks of emigration offices, the difficulty of legal emigration, the absence of natural barriers and the unsatisfactory state of border protection led most emigrants to choose an illegal crossing of the border. The authorities of the Russian Empire have developed an extensive system of norms regulating the border regime in the Warsaw Governorship General. The rules established to simplify cross-border contacts served to those who, pretended to be residents of the border strip, illegally crossed abroad. The connivance of officials contributed to this. The local population was also involved in the organization of illegal emigration and helped to supply emigrants with legal documents for the right to leave the empire.
Full Text
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации, Москва
AGAD - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Варшава
KGGW – Kancelaria Generał-Gubernatora Warszawskiego
PWGGSP – Pomocnik Warszawskiego Generał-Gubernatora do Spraw Policyjnych
Историю эмиграции из Российской империи едва ли можно назвать белым пятном в исследовательской литературе. В дореволюционной [Филипов 1906; Тизенко 1909], советской [Оболенский 1928; Тудоряну 1986] и современной [Кабузан 1998; Иванов, Котов 2020] историографии рассмотрены многие вопросы, связанные как с масштабами [Тудоряну 1998] и причинами [Klier 1996; Куприн 2000] эмиграции, так и условиями жизни эмигрантов в зарубежных странах [Бонч-Бруевич 1918]. Однако все еще остается определенное число лакун, связанных с практикой исхода подданных из Российской империи. Настоящее исследование освещает относительно слабоизученный аспект эмиграционного движения – особенности пересечения границы Варшавского генерал-губернаторства, ключевого региона, через территорию которого можно было оказаться в сопредельных странах.
Варшавское генерал-губернаторство находилось на стыке Российской империи с Германией и Австро-Венгрией. Оно глубоко вклинивалось в соседние империи. Этот регион, имевший самые интенсивные экономические и культурные связи с прилегающими странами (немаловажную роль играл феномен разделенной польской нации), одновременно являлся ареной противостояния с внешнеполитическими противниками [Горизонтов 2006, 20]. На этнически польских землях проживало многочисленное еврейское население, что имело большое значение в деле организации нелегального перехода границы.
Отсутствие природных рубежей делало границу достаточно условной линией на карте, тем более что демаркационное разграничение по итогам Венского конгресса 1815 г. и позднейшего присоединения Кракова и его окрестностей к империи Габсбургов [Дьякова, Чепелкин 1995, 38–39] нередко разделяло по разные стороны населенные пункты и помещичьи владения1.
Число эмигрантов, выехавших через западную границу, точно неизвестно. По приблизительным подсчетам В.В. Оболенского (Осинского), основанным на данных иностранных таможенных учреждений, Российскую империю с 1890-х годов безвозвратно покинули 3,34 млн человек [Оболенский 1928, 11], согласно В.М. Кабузану – более 3,5 млн [Кабузан 2004, 90]. От 75 до 90 % российских подданных пересекали границу без паспортов или с легитимационными билетами (о них см. ниже), предназначавшимися для выезда на сельскохозяйственные работы [Тарле 1997, 35]. По сведениям Главного управления торгового мореплавания и портов, «в среднем за трехлетие 1901–1904 гг. в Соединенные Штаты Северной Америки прибывало из России ежегодно до 110 000 человек»2. В 1909 г. статский советник О.Г. Фрейнат прогнозировал, что «эмиграция у нас скоро дойдет до 400–500 тысяч человек в год»3.
Говоря о причинах эмиграции и контингенте эмигрантов, подполковник С.Н. Мясоедов, долгие годы занимавшийся борьбой с нелегальной эмиграцией в Варшавском генерал-губернаторстве, отметил: «Причины, вызывающие эмиграцию, главным образом, конечно, экономические. Крестьяне и евреи […], не отличающиеся зажиточностью, ищут в заокеанских странах заработков и, большей частью, собрав деньги, возвращаются обратно на родину или высылают нажитое почтовыми переводами в Россию»4.
Местные власти понимали причины предпочтения нелегального пути легальному: «Эмигранты, неоднократно спрашиваемые, почему они избрали именно тайный путь для эмиграции, а не явный при посредстве паспорта, который, без сомнения, и дешевле, отвечали прямо, что, пока паспорт выйдет, то до тех пор можно двадцать раз проехать. Между тем многим время чрезвычайно дорого»5. Агенты и эмиграционные конторы, имевшие представителей как в пограничных районах, так и во внутренних губерниях империи, обещали выезд без долгого ожидания и оформления документов.
В большей степени проблема эмиграционных контор была актуальна для российско-германской границы: по сведениям начальника Границкого отделения Варшавского жандармского полицейского управления железных дорог, «австрийские власти не склонны сочувственно относиться к подобным конторам»6.
За агентами стояли пароходные компании7, пользовавшиеся поддержкой властей иностранных государств. Особенно активным было германское правительство, организовавшее вдоль границы сеть контрольных станций, которые занимались проверкой состояния здоровья эмигрантов и обеспечивали все необходимое для их доставки в порты.
В Российской империи пограничная полоса определялась как «пятиверстное от границы до второй линии и двухверстное от сей линии во внутрь империи расстояние, а всего пространство семи верст, как по сухопутной европейской границе, так и по берегам Белого, Балтийского, Черного и Азовского морей» [Парсуков 2017, 34]. Кроме того, существовали непосредственно прилегающие к границе 100-, 250- и 875-саженные полосы (около 0.2, 0.5 и 1.8 км, соответственно), морская таможенная, 21-, 50- и 100-верстная пограничные полосы (около 22, 53 и 106 км соответственно) [Там же].
Охрана границы возлагалась на созданный в 1893 г. Отдельный корпус пограничной стражи. За участок границы в Сувалкской и Ломжинской губерниях отвечали бригады II округа пограничной стражи (5-я Гродненская, 6-я Таврогинская, 7-я Вержболовская, 8-я Граевская и 9-я Ломжинская), в Плоцкой, Варшавской, Калишской, Петроковской и Келецкой губерниях, а также за отрезок от Кракова до Полянца – бригады III округа (10-я Рыпинская, 11-я Александровская, 12-я Калишская, 13-я Велюнская, 14-я Ченстоховская и 15-я Новобережская), а часть границы в Радомской и Люблинской губерниях являлась зоной ответственности бригад IV округа (16-ой Сандомирской и 17-ой Томашевской) [Лятавец 2007, 80].
Пересечение российской границы допускалось лишь при наличии специального разрешительного документа – заграничного паспорта. Согласно статье 214 Устава о паспортах 1903 г., «без паспорта никто, ни по какой причине, ниже ради богомолья, из пределов Империи выпускаем быть не должен, и всякого такового, по задержании, надлежит отсылать на прежнее его жилище»8. Для Варшавского генерал-губернаторства были установлены особые, во многом льготные, правила пересечения границы и получения соответствующих разрешительных документов. По мнению Т.О. Матвиенко, объяснялось это, «во-первых, необходимостью защиты экономических интересов владельцев имений, разделенных границей. Во-вторых, необходимостью сохранения целостности указанных имений. В-третьих, необходимостью предотвращения возможных проявлений недовольства в случае ущемления прав и интересов жителей пограничных территорий» [Матвиенко 2010, 30].
Для разрешения повседневных проблем жителей пограничной полосы между империями были заключены специальные соглашения, установившие льготные правила пересечения границы Варшавского генерал-губернаторства и включенные в Устав о паспортах. В соответствии со статьями 239 и 241, жители пограничных местностей обладали правом льготного перехода границы с Германией и Австро-Венгрией на короткий срок. Таковыми, в частности, признавались «имеющие оседлость в смежных с прусскою границею городах и селениях таможенно-граничного двадцатиодноверстного пояса»9. На практике протяженность пограничной полосы была весьма условной.
Согласно статьям 238, 241 и 242 Устава о паспортах, для жителей пограничной полосы с Германией и Австро-Венгрией устанавливалась особая трехмильная полоса, в пределах которой действовали специальные правила. Полоса эта с течением времени расширялась. По определению Правительствующего сената от 13 февраля 1902 г., действие льготных правил распространялось уже на жителей 21-верстной полосы (эквивалентно трем милям)10. В дополнительной конвенции 1904 г. к российско-германскому договору о торговле и мореплавании 1894 г. фигурировала 30-километровая (около 28 верст или четыре мили) зона действия правил выдачи 28-дневных билетов11. В соответствии с разъяснениями к пункту 3 статьи 2 Устава таможенного, к пограничным жителям относилось население 30-верстного пояса (порядка 4.2 мили)12.
Все эти изменения лишь пространственно расширяли действие миграционных послаблений, не затрагивая льгот населения пограничья. При этом, как писал один из чиновников департамента полиции, «несомненную услугу эмиграционному движению оказывает весьма льготный порядок выдачи легитимационных билетов. Согласно разъяснению Правительствующего Сената, билеты эти выдаются всем фактически проживающим в пределах 21-верстной пограничной полосы вне зависимости от того, записан ли он в книги народонаселения или нет. Такой порядок получения легитимационных билетов создает возможность каждому прожившему некоторое время в 21-верстной пограничной полосе воспользоваться бесплатным билетом, с которым он и покидает границу»13.
На местах власти нередко не разделяли столь вольного подхода к определению жителей пограничной полосы. Например, в г. Калише решили, что только лица, прожившие полгода в городе, имеют право на получение лигитимационных билетов14. Впрочем, начальник Калишского губернского жандармского управления высказывал сомнения в правомерности такого подхода15.
В 1901 г. петроковский губернатор направил запрос варшавскому генерал-губернатору о допустимости выдачи билетов лицам, длительное время проживающим в пределах 21-верстной полосы, но не записанным в книги постоянного народонаселения. Из Варшавы ответили, что лигитимационные билеты выдаваться временным жителям пограничной полосы не могут: «Этими билетами могут пользоваться только пограничные жители, имеющие оседлость в 21-верстной пограничной полосе, т.е. записанные там в книги постоянного народонаселения»16. Одного факта проживания было недостаточно17.
Для перехода границы жившими вблизи нее устанавливались особые проездные документы – легитимационные билеты. В отличие от заграничных паспортов, которые, согласно статье 164 Устава о паспортах, выдавались губернскими властями, легитимационные билеты пограничным жителям выдавались уездным начальством18. Если при получении заграничных паспортов требовались документы об отсутствии препятствий следовать за границу, то лица с легитимационными билетами, согласно циркуляру департамента полиции от 27 февраля 1886 г., таковые представлять были не должны19.
Легитимационные билеты являлись срочными и выдавались, согласно статьям 239 и 241 Устава о паспортах, на три, восемь и двадцать восемь дней для перехода германской границы20 и на три дня и две- четыре недели для перехода австрийской границы21. Если в течение пятнадцати дней билет не был использован, действие его прекращалось22. Срок действия билета отсчитывался с момента первого пересечения границы23. Билеты выдавались бесплатно и изготавливались на простой бумаге. У выдающей инстанции оставался экземпляр билета (уникат), идентичный выданному дубликату24. Особыми льготами при пересечении границы, согласно статьям 236, 237 и 241 Устава о паспортах, обладали российские, австрийские и германские помещики, чьи владения находились по обе стороны границы, – им выдавались годовые паспорта25. Также жители пограничной полосы по российско-германскому договору о торговле и мореплавании 1894 г. могли получать особые 8½ месячные (с 1 апреля по 15 декабря) бесплатные паспорта для сельскохозяйственных работ в Германии26. Дополнительной конвенцией 1904 г. к этому договору действие паспорта продлили до 10½ месяцев (с 1 февраля по 20 декабря)27.
Легитимационные билеты действовали в пределах пограничной полосы по обе стороны границы. Согласно циркуляру департамента полиции от 28 мая 1910 г., перемещение с такими документами за пределы обозначенного района допускалось исключительно с санкции местного начальства28.
В соответствии с циркуляром департамента полиции от 19 ноября 1883 г., легитимационный билет считался действительным, «когда он выдан совершеннолетнему лицу, когда он выдан на каждое лицо отдельно и указаны в нем его приметы»29. В билет вносились сведения о возрасте, росте, цвете волос и глаз, форме бровей, носа, рта, подбородка и лица, а также особые приметы30.
Фотографии и подписи владельца билета не требовалось, в чем чиновники видели существенный недостаток правил. Начальник Вержболовского пограничного отделения Санкт-Петербургско-Варшавского жандармского полицейского управления железных дорог С.Н. Мясоедов отметил, что «желательно было бы прописывать в паспортах приметы или припечатывать фотографическую карточку их владельца, так как паспорта существующего ныне образца содержат лишь имя, отчество, фамилию и редко звание, и потому ими свободно пользоваться может всякий»31. В качестве аргумента в пользу изменения правил приводился иностранный опыт: «Во всех иностранных государствах (кроме Англии) в паспорте прописаны подробно все приметы их владельцев, причем рост обозначен даже в сантиметрах. Прописывание примет там никого не стесняет, так как все понимают, что паспорт имеет серьезное значение документа, по которому можно установить личность предъявителя. Отсутствие прописывания примет в паспортах привело к тому, что в Лондоне, например, русские паспорта, использованные лишь на выезде из Империи, выставляются для продажи в окнах магазинов. В местечке Эйдкунене (Эйдткунен в Восточной Пруссии. – В.К.) […] почти всегда можно купить у евреев прусский паспорт, годный для возвращения в Россию»32.
Согласно циркуляру департамента полиции от 6 июля 1910 г., отдельные легитимационные билеты выдавались несовершеннолетним только по достижении ими 16 лет. Что же касается малолетних, то последние могли выезжать за границу по легитимационным билетам лишь при включении в билеты родителей или замещающих их лиц33. После издания циркуляра департамента полиции от 15 января 1911 г. разрешена также была выдача билетов лицам с 14 лет в тех случаях, «когда по местным условиям совместное родителей и детей отправление через границу и возвращение представляется затруднительным»34.
Легитимационный билет давал право многократного пересечения границы. Таможни обязывались подтверждать правомочность билетов при каждом переходе границы из Варшавского генерал-губернаторства и обратно, фиксируя их в пассажирских регистрах. По истечении срока билеты предписывалось изымать в таможнях и возвращать уездному начальнику35. По циркуляру департамента полиции от 19 октября 1907 г., лица, следовавшие с легитимационными билетами, могли пересекать границу вне пределов уезда, где документы выдавались36.
Пересечение границы без разрешительных документов являлось уголовно наказуемым деянием. Согласно циркуляру департамента таможенных сборов Министерства финансов от 10 апреля 1890 г., «тайный переход границы составляет самостоятельное закононарушение, преследуемое в губерниях Царства Польского по ст. 103837 и 103938 Уст. там., а в других местах Империи по ст. 62 Уст. о нак.39»40.
Пересечение границы разрешалось только в специально определенных для этого таможенных пунктах. В 1906 г. было установлено, что лица, имеющие право на восьмидневные билеты, за переход границы без билета или с ним, но в недозволенном месте, а также с просроченным документом подвергаются взысканиям, предусмотренным статьями 1038 и 1039 Устава таможенного41. Впрочем, как показывает практика, опасаясь взысканий и потери права получения легитимационных билетов, многие жители пограничной полосы в случае их просрочки предпочитали переходить границу тайно42. Согласно циркуляру департамента полиции от 12 июня 1908 г., «переходящие границу не в установленном для сего пункте […], подлежат денежному взысканию» 43.
Только в 1912 г. Министерство внутренних дел по согласованию с Министерством финансов, торговли и промышленности и Министерством иностранных дел разрешило пограничным жителям переходить границу по легитимационным билетам, не только отправляясь за рубеж, но и возвращаясь назад, через любой пункт западной границы Российской империи. Данный порядок, в соответствии с принципом взаимности, распространялся и на иностранцев, прибывающих в Россию по легитимационным билетам и имеющих поэтому право выбирать любой пограничный пункт44. Однако нахождение даже в непосредственной близости к границе не являлось преступлением. Как с досадой констатировал начальник Сосновицкого отделения Варшавского жандармского управления железных дорог, «нелегальный эмигрант неуязвим: он не является преступником, пока не совершит попытки тайно перейти границу. – Циркуляр Департамента полиции без № […], изданный в 1910 г., воспрещает аресты в пути и на станциях высадок»45.
Билеты печатались в губернских правлениях и затем рассылались уездным начальникам46. На каждого жителя пограничной полосы, имеющего, согласно подаваемым войтами гмин и бургомистрами спискам право на переход границы, уездным начальникам выделялось в год по три билета47. Предполагалось, что суммарно в течение года человек может провести за границей 24 дня. Право на большее число переходов законом не ограничивалось. Как отмечали местные власти, поскольку «далеко не все этим правом (получения билетов. – В.К.) пользуются […], не розданными билетами могут вновь воспользоваться лица, уже получившие три билета»48. Начальник Калишского губернского жандармского управления информировал, что возможность занести в списки народонаселения любого человека активно эксплуатировали эмиграционные агенты и желающие пересечь границу: «Бывали нередки случаи, что с 10½-месячными паспортами для полевых рабочих [...] проходили за границу интеллигенты, не имеющие ничего общего с хлебопашеством; а по легитимационным билетам лица, разыскиваемые по делам Департамента полиции»49.
Если выделенных билетов оказывалось недостаточно, то войт гмины или бургомистр мог потребовать дополнительные50. Тот же порядок устанавливался в случае прибытия «по формальному переселению или по законным свидетельствам в услужение к пограничным жителям до десяти человек»51. Указанная возможность нередко использовалась для нелегальной выдачи паспортов. Например, полицейский надзиратель посада Кибарты, желая придать законность своим действиям по выдаче легитимационных билетов, довольствовался даже фиктивным контрактом на наем квартиры52. В ходе негласной ревизии книг непостоянного населения посада обнаружилось много лиц, числившихся его временными жителями, но в действительности проживавших в других уездах и губерниях. Все они нуждались в свободном пересечении границы53. Заплатив полицейскому надзирателю 25 рублей, любой желающий мог получить в Кибартах легитимационный билет54.
Впрочем, не всегда возникала необходимость легально получать билеты. Дореволюционный юрист Н. Боженко писал: «Что касается первого способа приобретения вида для перехода границы (покупка билета у местных крестьян. – В.К.), то он среди крестьян получил очень большое распространение. Обыкновенно поступают так. Крестьянин, имеющий право получить билет или паспорт, запасается таковым в гминном управлении, хотя сам вовсе не намерен отправляться за границу, и переуступает полученный вид другому лицу. По истечение 28 дней есть возможность снова получить лигитимационный билет. По одному легитимационному билету, не говоря уже о паспорте, может постепенно пройти границу несколько человек, и, таким образом, “ни за что ни про что” крестьянин, занимающийся продажей билетов, получает изрядный доход» [Боженко 1900, 152–153].
Аналогичная практика имела место и по другую сторону границы. Например, в мае 1899 г. на Александровском пограничном пункте при попытке возвратиться назад были задержаны двое жителей Киевской и Люблинской губерний, прибывших по легитимационным билетам на имена германских поданных55.
Выявление обладателей чужих паспортов требовало особой изобретательности. Российское консульство в Львове уведомило в 1909 г. департамент полиции, что, «по дошедшим до него сведениям, многие русско-поданные студенты и слушатели местного Политехникума, желая избегнуть платы за паспорта, выдаваемые Консульством на шесть недель на въезд и выезд из России, а равно и скрываясь от властей, как подлежащие призыву, ездят в Россию с австрийскими паспортами, каковые достают на имя своих товарищей»56. Предлагалось «производить самую тщательную проверку имеющихся обыкновенно в австрийских паспортах примет»57.
Легитимационные билеты для пересечения российско-германской границы изготовлялись на русском и немецком языках58. Время перехода на них отмечалось властями обеих стран. Пропуск по легитимационным билетам, составленным только на одном языке, считался, согласно циркуляру Министерства финансов от 26 января 1900 г., незаконным59. Билеты на пересечение российско-австрийской границы составлялись в Российской империи на русском языке с переводом на польский, а в Австро-Венгрии на польском с переводом на немецкий60. Попытки отступления от этого правила жестко пресекались властями. В 1905 г. после постановления гминных сходов о ведении делопроизводства на польском языке войты гмин Липновского уезда Плоцкой губернии стали выдавать билеты на польском и немецком языке. Информация об этом дошла до варшавского генерал-губернатора, который распорядился не пускать лиц с такими документами за границу и немедленно прекратить их выдачу61.
В отдельных случаях выдача билетов могла ограничиваться. По согласованию департамента таможенных сборов и департамента полиции циркуляром от 25 сентября 1898 г. можно было отказать в праве на получение билетов на краткосрочные отлучки за границу лицам, «неблагонадежность коих в таможенном отношении будет удостоверена какими-либо документальными данными: протоколами о задержании контрабанды, сведениями, заключающимися в конфискационных делах и т.п.»62. Также паспорта не должны были выдаваться уличенным полицией в краже, укрывательстве краденого и содействии эмиграции; иногородним евреям, не приписанным ни к одному из обществ, входящих в 50-верстную полосу; лицам мужского пола по достижении ими 18-летнего возраста без предъявления свидетельства о приписке к призывному участку; достигнувшим призывного возраста без предоставления документа об исполнении воинской повинности63. В 1908 г. ввели новое положение, согласно которому «состоящим под судом, следствием или надзором полиции лицам, о которых в полицейском отношении имеются предписания высшего начальства, легитимационные билеты выдаваемы быть не могут»64. В случае обнаружения таможенным ведомством или пограничной стражей нарушения правил пользования билетами сведения об этом передавались уездным начальникам, которые должны были поступать согласно Уставу уголовного судопроизводства. Последний предусматривал, что «по решении дела виновный из списков лиц, имеющих право на получение легитимационных билетов, выключается»65. В соответствии с решением Правительствующего сената в сентябре 1901 г., дела о просрочке легитимационных билетов относились к компетенции уездных управлений, а не судебных учреждений66.
В связи с нахождением в Варшавском генерал-губернаторстве большого количества евреев чрезвычайно актуальным становилось правовое регулирование их эмиграции. Согласно закону 1892 г., Еврейскому колонизационному обществу разрешалось переселять евреев: «а) целыми семьями, причем семьей считается: отец, мать, неженатые сыновья и незамужние дочери всех возрастов, и б) одиночками (не имеющие ни отца, ни матери) обоего пола и всякого возраста, причем евреям, выезжающим из России при содействии названного общества, выдаются местными губернаторами бесплатные выходные свидетельства. Евреи, выехавшие по означенным выходным свидетельствам, признаются покинувшими навсегда пределы России»67.
Топографические и правовые условия функционирования пограничной полосы Варшавского генерал-губернаторства определенно влияли на условия пересечения границы. Наиболее явно это проявлялось в широком распространении нелегального перехода. Начальник Ломжинского губернского жандармского управления в донесении департаменту полиции так характеризовал границу с Германией: «Прусская граница по топографическому положению является весьма удобной для тайного перехода, и так как она охраняется редкими постами пограничной стражи, то переход ее совершенно нетруден»68. Проходившие через территорию Варшавского генерал-губернаторства железные дороги также упрощали перемещение к границе.
Нелегальное движение населения через Томашевский, Яновский и НовоАлександрийский уезды Люблинской губернии объяснялось крайне благоприятной для этого пограничной местностью – «сплошь леса до самой границы»69, что «до невозможности затрудняет наблюдение со стороны пограничной стражи за границей и в то же время способствует эмигрантам проходить незамеченными вплоть до границы»70.
Протяженность границы являлась еще одним важным фактором функционирования пограничной полосы. «Если при всем этом иметь в виду, что посты пограничной стражи расположены по линии границы на расстоянии не менее полуверсты друг от друга, – указали в департаменте полиции, – то станет вполне понятным та сравнительная легкость тайного перехода границы, которую и учитывают из корыстных побуждений эмиграционные агенты»71. Сувалкский губернатор отметил, что «при существующем положении, а именно: две смены часовых, часовой охраняет пространство около версты, даже и при пересеченной местности она (пограничная стража. – В.К.) не может служить существенным препятствием к переходу границы»72.
Нелегальному переходу также способствовал порядок выдачи билетов, предоставленной «бургомистрам, войтам гмин и полицейскому надзирателю […]. Здесь происходит целый ряд злоупотреблений, т.к. билеты выдаются по личному усмотрению названных лиц и писарей войтов гмин»73. «В то же самое время огромное количество лиц, имеющих право на получение легитимационных билетов, до крайности затрудняет контроль за лицами, переходящими границу по чужим легитимационным билетам»74. Как отметил Н. Боженко, «количество предъявляемых ежедневно на таможне билетов […] можно считать сотнями, что отнимает у служащих немало времени и труда» [Боженко 1900, 155].
Особенностью Варшавского генерал-губернаторства являлась возможность нелегального перехода через так называемую «зеленую» границу75. Решившимся, как это называли сами эмигранты, «красть границу»76, приходилось преодолевать множество препятствий, неудобств и даже опасностей. Им надо было «по несколько верст идти по непролазной грязи, переходить ручьи и т.д.»77.
Итак, для населения пограничных местностей Варшавского генерал-губернаторства были созданы исключительно льготные условия для пересечения границы, которыми стремились воспользоваться не только жители пограничной полосы. Возможность простого и быстрого получения краткосрочных билетов на пересечение границы привлекала эмигрантов. Многочисленные случаи нарушения закона в целях извлечения выгоды со стороны официальных и частных лиц, несовершенство правового регулирования эмиграции – все это создавало благоприятную почву для нелегального перехода границы.
Особенности перехода границы определялись также географическими характеристиками Варшавского генерал-губернаторства. Отсутствие естественных природных рубежей, протяженность и, как следствие, сложность охраны границы, деятельность эмиграционных агентов и контор, поддерживаемая властями соседних государств, – все это сделало Варшавское генерал-губернаторство главным каналом нелегального выезда из Российской империи.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
ГАРФ. Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. Оп. 60. Д. 19ч. 5а., Д. 19ч. 5б., Оп. 71. Д. 8ч. 4. Оп. 231. Д. 2365.
ГАРФ. Ф. 215. Канцелярия Варшавского генерал-губернатора. Оп. 1. Д. 85.
ГАРФ. Ф. 217. Варшавское губернское жандармское управление. Оп. 1. Д. 459.
ГАРФ. Ф. 238. Люблинское губернское жандармское управление. Оп. 1. Д. 271.
ГАРФ. Ф. 265. Канцелярия помощника Варшавского генерал-губернатора по полицейской части. Оп. 1. Д. 1351, 1357, 1360, 1366, 1371.
ГАРФ. Ф. 1662. Жандармское управление Влоцлавского, Нешавского и Гостынского уездов Варшавской губернии. Оп. 1. Д. 62, 68.
ГАРФ. Ф. 1671. Жандармское управление Маковского, Остроленского и Островского уездов Ломжинской губернии. Оп. 1. Д. 93.
Роговин Л.М. Устав о паспортах (Св. Зак. т. XIV, изд. 1903 и по прод. 1906, 1908, 1909 и 1910 гг.). Изд. неофиц., 2-е, пересмотренное и значительно дополненное. СПб.: Законоведение, 1913. 328 с.
Сборник торговых договоров и других вытекающих из них соглашений, заключенных между Россией и иностранными государствами / сост. в М-ве торговли и пром-сти под ред. Н.В. Верховского; СПб.: Типография В.Ф. Киршбаума, 1912. 695 с.
Тимофеев Л.А. Обязанности жандармской железнодорожной полиции: По жандармско-полицейской части / сост. полк. Тимофеев. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Типография Министерства внутренних дел, 1912. 1195 с.
Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями // Изд. Н.С. Таганцев. 14-е изд., доп., неофициальное. СПб.: Государственная типография, 1902.
Устав таможенный // Свод законов Российской империи. 1910. Т. VI.
AGAD. KGGW. 1904. Sygn. 191., 1904–1910. Sygn. 260.
AGAD. PWGGSP. 1900. Sygn. 515.
1 Согласно приложению к ст. 241 п. 4. Устава о паспортах 1903 г, помещики, по чьим владениям проходила пограничная полоса, определяли дорогу, по которой можно было следовать за границу, и устанавливали препятствующие несанкционированному перемещению шлагбаумы.
2 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 60. Д. 19. Ч. 5а. Л. 60.
3 Там же. Ч. 5б. Л. 33.
4 Там же. Ч. 5а. Л. 18–19.
5 Там же. Ф. 265. Оп. 1. Д. 1357. Л. 7об.
6 Там же. Л. 15.
7 Там же. Ф. 102. Оп. 71. Д. 8. Ч. 4. Л. 48.
8 Роговин 1913, 102.
9 Там же, 205. Эта норма была закреплена в «Инструкции о порядке выдачи в генерал-губернаторстве Варшавском пограничным жителям восьмидневных, а владельцам имений, пересекаемых граничною чертою, годовых билетов».
10 Там же, 115.
11 Сборник торговых договоров 1912, 140.
12 Роговин 1913, 118.
13 AGAD. KGGW. 1904–1910. Sygn. 260. K. 72.
14 ГАРФ. Ф. 265. Оп. 1. Д. 1351. Л. 4.
15 Там же. Л. 4об.
16 Там же. Л. 8.
17 Там же.
18 Роговин 1913, 205.
19 Там же, 119.
20 Там же, 117, 119–120.
21 Там же, 125.
22 Там же, 205.
23 Там же, 207.
24 Там же, 205.
25 Там же, 116, 120.
26 Там же, 120.
27 Сборник торговых договоров 1912, 140.
28 Тимофеев 1912, 1021.
29 Роговин 1913, 119.
30 Там же, 210.
31 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 60. Д. 19ч. 5а. Л. 21об.
32 Там же. Л. 22.
33 Роговин 1913, 121.
34 Там же.
35 Там же, 207.
36 Там же, 119.
37 Согласно статье 1038 Устава таможенного, виновный в переходе границы в неустановленных пунктах наказывается денежной пеней в размере до 15 рублей (Устав таможенный 1910).
38 Согласно статье 1039 Устава таможенного, в губерниях Варшавского генерал-губернаторства за просрочку легитимационных билетов устанавливался штраф в размере от одного рубля за каждые сутки. Просрочившие билет более месяца навсегда лишались права на его получение.
39 Виновные в отлучке за границу без паспорта подлежали штрафу в размере стоимости его получения, а также денежному взысканию в размере не более 35 рублей (Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1902, 166).
40 Роговин 1913, 102.
41 Там же, 209.
42 ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 85. Л. 2об.
43 Там же. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 62. Л. 23.
44 Там же. Ф. 1671. Оп. 1. Д. 93. Л. 70.
45 Там же. Ф. 217. Оп. 1. Д. 459. Л. 4.
46 Роговин 1913, 209.
47 Там же, 205–206.
48 ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 85. Л. 2.
49 Там же. Д. 1371. Л. 2.
50 Роговин 1913, 206.
51 Там же.
52 ГАРФ. Ф. 265. Оп. 1. Д. 1360. Л. 13.
53 Там же.
54 Там же.
55 AGAD. PWGGSP. 1900. Sygn. 515. K. 18.
56 ГАРФ. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 68. Л. 74.
57 Там же.
58 Роговин 1913, 122.
59 Там же.
60 Там же, 125.
61 ГАРФ. Ф. 265. Оп. 1. Д. 1351. Л. 15.
62 Роговин 1913, 119.
63 Там же, 118.
64 Там же, 205.
65 Там же, 210.
66 Там же, 119.
67 Там же, 102.
68 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 231. Д. 2365. Л. 131об.
69 Там же. Оп. 71. Д. 8ч. 4. Л. 51об.
70 Там же.
71 Там же. Л. 54.
72 Там же. Ф. 265. Оп. 1. Д. 1366. Л. 2об.
73 Там же. Ф. 102. Оп. 60. Д. 19ч. 5а. Л. 57.
74 AGAD. KGGW. 1904–1910. Sygn. 260. K. 72.
75 AGAD. KGGW. 1904. Sygn. 191. K. 6.
76 ГАРФ. Ф. 238. Оп. 1. Д. 271. Л. 119.
77 Там же.
About the authors
Vladimir S. Komarov
Center for Pedagogical Excellence (CPE)
Author for correspondence.
Email: vladimir.s.komarov@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-5745-3655
Master in History, Methodologist
Russian Federation, MoscowReferences
- Bonch-Brujevich V.D. Dukhobortsy v kanadskikh preriiakh. Petrograd, tipografiia aktsionernogo obshchestva «Kadima» Publ., 1918, 276 p. (In Russ.)
- Bozhenko N. Neskol’ko zamechanii o pogranichnykh pasportakh v Privislinskom Kraje. Zhurnal ministerstva iustitsii, 1900, no. 10, pp. 150–161. (In Russ.)
- D’iakova N.A., Chepelkin M.A. Granitsy Rossii v XVII–XX vekakh. Prilozhenije k istorii Rossii. Moscow, ShiK Publ., 236 p. (In Russ.)
- Filipov Iu.D. Emigratsiia. St. Petersburg, Tip. V.F. Kirshbauma Publ., 1906, 92 p. (In Russ.)
- Gorizontov L.Je. Russko-pol’skoje protivostoianije XIX – nachala XX veka v geopoliticheskom izmerenii. Jevropeiskije sravnitel’no-istoricheskije issledovaniia. Moscow, 2006, vyp. 2: Geografiia i politika, pp. 9–31. (In Russ.)
- Ivanov A.A., Kotov A.E. Ekonomicheskoje znachenije i popytki regulirovaniia zarubezhnoi trudovoi migratsii na zapadnykh okrainakh Rossiiskoi imperii (konets XIX – nachalo XX veka). Noveishaia istoriia Rossii, 2020, t.10, no. 1, pp. 70–88. (In Russ.)
- Kabuzan V.M. Emigratsiia i reemigratsiia v Rossii v XVIII – nachale XX veka. Moscow, Nauka Publ., 1998, 268 p. (In Russ.)
- Kabuzan V.M. Dvizhenije naseleniia v Rossiiskoi imperii. Otechestvennyje zapiski, 2004, no. 4 (19), pp. 82–93. (In Russ.)
- Klier J.D. Emigration Mania in Late-Imperial Russia: Legend and Reality. Patterns of Migration, 1850–1914: Proceedings of the International Academic Conference of the Jewish Historical Society of England and the Institute of Jewish Studies, University College London, ed. A. Newman and S.W. Massil. London, Jewish Historical Society of England, 1996, pp. 21–30.
- Kuprin D.O. Emigratsiia iz Rossii v kontse XIX – nachale XX vv.: dis. kand. ist. nauk. Moscow, 2000, 187 p. (In Russ.)
- Liatavets K. Poliaki v Otdel’nom korpuse pogranichnoi strazhi Rossiiskoi imperii na rubezhe XIX–XX vv. Poliaki v Rossii: istoriia i sovremennost’. Krasnodar, Kuban. gos. un-t Publ., 2007, pp. 77–87. (In Russ.)
- Matvijenko T.O. Pravovoje regulirovanije peredvizheniia cherez granitsu zhitelei porubezhnykh territorii Rossiiskoi imperii. Vestnik Permskogo universiteta. Iuridicheskije nauki, 2010, vyp. 4(10), pp. 27–31. (In Russ.)
- Obolenskii (Osinskii) V.V. Mezhdunarodnyje i mezhkontinental’nyje migratsii v dorevoliutsionnoi Rossii i SSSR. Moscow, 3-ia tipografiia Transpechati Publ., 1928, 136 p. (In Russ.)
- Parsukov V.A. Nekotoryje teoreticheskije i istoriko-pravovyje podkhody k opredeleniiu deiatel’nosti Otdel’nogo korpusa pogranichnoi strazhi v pogranichnom prostranstve Rossiiskoi imperii. Vestnik Omskogo universiteta. Seriia Pravo, 2017, no. 3 (52), pp. 34–36. (In Russ.)
- Tarle G.Ia. Emigratsionnoje zakonodatel’stvo v Rossii do i posle 1917 goda. Istochniki po istorii adaptatsii rossiiskoi emigratsii v XIX–XX vv. Sb. statei. Moscow, 1997, pp. 31–62. (In Russ.)
- Tizenko P.D. Emigratsionnyi vopros v Rossii, 1820–1910. Libava, 1909, 53 p. (In Russ.)
- Tudorianu N.L. Ocherki rossiiskoi trudovoi emigratsii perioda imperializma (v Germaniiu, Skandinavskije strany i SShA). Kishinev, Shtiintsa Publ., 1986, 309 p. (In Russ.)