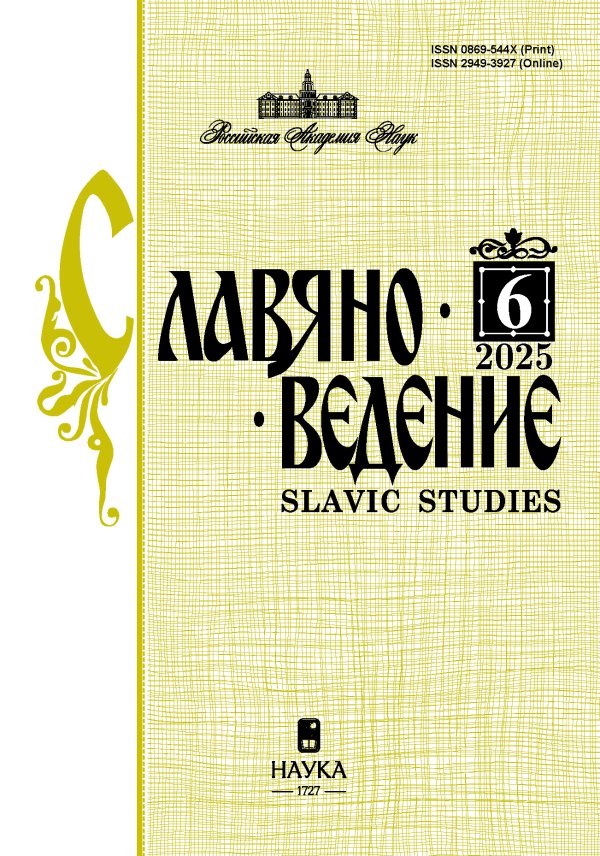«Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд»: проект, разработка, состояние, проблемы, решения
- Авторы: Варбот Ж.Ж.1
-
Учреждения:
- Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук
- Выпуск: № 5 (2024)
- Страницы: 67-78
- Раздел: К юбилею Жанны Жановны Варбот
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/266911
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24050065
- EDN: https://elibrary.ru/YTLBQO
- ID: 266911
Полный текст
Аннотация
В статье освещаются важные аспекты работы над «Этимологическим словарем славянских языков» (ЭССЯ), грандиозным проектом, основанным на концепции выдающегося лингвиста академика О.Н. Трубачева. Описывается контекст возникновения и развития идеи создания уникального словаря, формулируются основные принципы реконструкции праславянского лексического фонда, положенные в его основу. Первоначальный замысел предполагает этимологизацию не только литературной, но и других страт всех славянских языков (историческая, диалектная и жаргонная лексика). Обозначаются насущные проблемы в мировой этимологической науке (кадровые, финансовые), которые испытывает и коллектив ЭССЯ, в силу которых он вынужден немного отступать от первоначального замысла. Однако основная задача остается неизменной, проблемы решаются путем ограничения праславянских производных третьей ступени и некоторых поздних образований славянских языков.
Ключевые слова
Полный текст
Из истории разработки словаря
Проект «Этимологического словаря славянских языков» (ЭССЯ)1 был предложен О.Н. Трубачевым в 1957–1960 гг. и опубликован в 1963 г. под названием «Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд). Проспект. Пробные статьи» (далее Проспект). Основная группа разработчиков была сформирована в Институте русского языка в 1961–1965 гг., с некоторыми последующими изменениями состава, никогда не превышавшего количества семи научных сотрудников. В настоящее время над словарем работают четверо лингвистов.
Актуальность проекта для середины XX в. определялась значительными успехами славянской исторической лексикологии, исследований в области словообразования и собственно этимологических исследований славянских и индоевропейских языков. Большую роль в актуализации этимологических проектов сыграла активизация диалектной и исторической лексикографии: появление диалектных словарей и начало разработок словарей исторических. Об актуальности проблематики праславянского словаря свидетельствует одновременное начало работы над похожими лексикографическими трудами в Германии, Чехии и Польше.
В Германии «Vergleichendes Wörterbuch der slavischen sprachen» Л. Садник и Р. Айтцетмюллера опубликован в пяти выпусках (a-b) [Sadnik, Aitzetmüller 1963–1970], затем, после смерти авторов, работа над словарем прекратилась. В Чехии по проекту «Etymologický slovník slovanských jazyků» изданы два тома «Slova gramatická a zájmena» Фр. Копечного [Kopečný 1973; 1980]. Этот труд уникален по тематике, тщательности разработки и этимологической значимости, но дальнейших публикаций не последовало. Работа над праславянским словарем, издаваемым в Польше («Słownik prasłowiański», далее SP), была надолго остановлена. После того как в 1974–2001 гг. вышли первые восемь томов (*a – *gyža), лишь в 2023 г. был опубликован т. 11 (*kǫb(ъ)lati – *kyvati) [SP 1974–2023], тома 9 и 10 готовятся к печати.
Принципы создания словаря, проблемы и трудности
Характеризуя в Проспекте принципиальную новизну ЭССЯ, О.Н. Трубачев подчеркивал, что не только существовавшие праславянские реконструкции Ф. Миклошича и Э. Бернекера, но и более новые проекты базируются на словниках, составленных по результатам этимологических трудов, объектом которых являлась преимущественно литературная лексика (см., например, брненский список [Kopečný 1981]). В отличие от известных словарей Ф. Миклошича [Miklosich 1886] и Э. Бернекера [Berneker 1908–1913], а также других проектов, словник ЭССЯ базируется на этимологическом анализе лексики всех славянских языков во всех стратах (литературный язык, исторический фонд, диалекты, жаргоны). При этом объем словника определяется представлением о праславянском языке как языке с развитой системой словообразования, способном обслуживать этнос с высокоразвитой социальной организацией, материальной и духовной культурой. Практически это означает, что фундаментом словника ЭССЯ должны были стать 15 этимологических словарей типа болгарского этимологического словаря [БЕР]. В задачи ЭССЯ входила не только реконструкция праславянского лексического фонда, но и создание своего рода справочника по этимологии. Из необходимости этимологизации лексики славянских языков как основы для реконструкции праславянского лексического фонда вытекает и третья задача: создание «справочника по праславянскому словообразованию» [Проспект, 13]. Очевидный колоссальный объем исследований, предполагаемый уже формулировками задач, кажется, все-таки не был осознан автором проекта, ориентировавшегося на словарь из десяти выпусков по 20 а.л. [Там же, 36].
Трудности работы, связанные с необходимостью освоения постоянно нарастающего количества лексикографических источников славянской лексики с учетом первоначальных методических установок, были особенно остро осознаны составителями при переходе к лексике с чисто грамматическими по функции префиксами (*na-), но автор проекта не считал возможным отход от заявленных принципов. Видимо, подобные же трудности испытал и краковский «Праславянский словарь», о чем свидетельствуют опубликованные первые его восемь томов. Краковский словарь SP сходен с ЭССЯ по объему этимологизируемого материала и по представлениям о праславянском словообразовании, поэтому (не утверждая определенно), думаю, не исключено, что именно с этими проблемами связано его определенное «замирание».
Практика создания ЭССЯ, особенно первых 13 выпусков, написанных целиком О.Н. Трубачевым, свидетельствует об ориентации автора проекта не только на этимологизацию лексики славянских языков как базы праславянской реконструкции, но и на включение в ЭССЯ славянской лексики, которая получает объяснение на базе реконструированного праславянского фонда, с широким охватом производных, в том числе производных третьей ступени, независимо от степени их этимологической прозрачности [Проспект, 27]. В ЭССЯ, наряду с *drobiti – *drobъ – *drobьnъ(jь) входит и *drobьnica, ср. аналогично *dvorьnikъ, *dъždževьnikъ, также *domoltъkъ2. Такова же, в сущности, и практика SP (см. те же позиции). При структурном соответствии славянских лексем определенной праславянской реконструкции, разброс их значений как правило не оговаривается, поскольку признается реальность семантических изменений первичного значения лексемы.
Коллектив авторов ЭССЯ руководствуется этими методическими установками и не отходит от них: мы не можем отказаться от этимологизации лексики славянских языков в их разных состояниях как базы праславянской реконструкции, от ориентации на диалектное членение праславянского языка, на реальность специфических лексических схождений славянских языков и реальность праславянских диалектизмов.
Между тем, очевидная трудность отражения в ЭССЯ этимологического анализа лексики 15 славянских языков (по типу статей в болгарском словаре [БЕР] или в [Фасмер]) в сочетании с допуском многоступенчатой производности усугубилась к настоящему времени трудностями кадрового порядка и проблемой финансирования публикации. Назрела необходимость ускорить темпы работы над ЭССЯ путем сокращения объема словника для будущих выпусков.
Основанием для сокращения словника ЭССЯ служит параллелизм развития словообразования в истории отдельных славянских языков. Этот параллелизм предписывает осторожность в отнесении к праславянскому состоянию производных образований (особенно далее второй ступени). Соответственно, основное внимание следует уделять критериям оценки производных.
Очевидна необходимость учета в отношении каждого производного слова диахронических характеристик словообразовательной структуры слова: степень древности и продуктивности модели, наличие в слове чередований, как в корневых, так и в словообразовательных морфемах, наличие неславянских цельнолексемных соответствий и, что весьма существенно, возможность праславянской реконструкции производящей основы как цельной лексемы. Еще один критерий – представленность лексемы в славянских языках. Признание реальности праславянских диалектизмов допускает реконструкцию праславянской лексемы даже на основе единичной реализации. Подобные реконструкции в ЭССЯ вызывали постоянную критику Ф. Славского на страницах SP (116 статей под звездочкой), что, в свою очередь, породило недоумение польского рецензента [Lewaszkiewicz 2020, 14], отметившего противоречие между этой критикой и собственным признанием Ф. Славским наличия праславянских диалектизмов. Правда, в SP случаи праславянской реконструкции на базе одной фиксации слова в славянских источниках крайне малочисленны. Очевидно, что количество языковых отражений праславянской лексемы может толковаться в пользу ее праславянской древности. Но здесь появляется проблема семантического тождества/семантической близости/семантических различий слов-рефлексов. Признание вероятности семантических изменений праславянских лексем в истории славянских языков не отменяет проблему надежности генетического отождествления структурно тождественных славянских слов в качестве праславянских рефлексов. Степень надежности подобного отождествления уменьшается с усложнением структур, особенно с продуктивными словообразовательными морфемами, т.е. с увеличением ступеней производности возрастает вероятность параллельного словообразования.
Основываясь на этих соображениях, мы считаем возможным свести до минимума включение в словник реконструкций славянских производных третьей ступени, оставляя только случаи семантического тождества соответствующих групп славянских рефлексов. Очевидно, сокращение текста за счет производных незначительно, но это дает выигрыш не только в объеме будущей публикации, но и во времени по написанию словаря.
При наличии частичного (группового) тождества признается вероятность как праславянской древности, так и параллелизма в истории славянских языков. Например, *pętak3:
болг. петáк ‘прежняя медная или никелевая монета стоимостью в 2½ стотинки; (перен.) что-л. незначительное’ (БТР 547), диал. петáк (петачé) ‘пятачок’ (Ив. Кепов // СбНУ XLII, 272), пéт’ък ‘кусок, полоска’ (Ковачев Ст. Троянск. // БД IV, 217), пéтак ‘пятница’ (Бунина. Г-р ольшанских болгар 39), макед. петак, -ци арх. ‘пятак’ (Димитровски и др. РМJ / Конески 157), сербохорв. petak ‘пятерка, quinarius, денежный знак’ (Belost., Bart.) (Mažuranić II, 913), пèтāк, петáка м.р. ‘пятиклассник, солдат пятого полка, пятерка (денежный знак), пятилетний мальчик' (Толстой 593), petak ‘пятилетний ребенок или животное’ (Mikalin, Belin, Bjelost., Stulic, Vuk), ‘крупный денежный знак равный пяти мелким (Vuk); размер бочки равный пяти меньшим (Славония); один из пяти опанков, вырезаемых из одной кожи (в Лике); груда в пять снопов (в морав. Сербии); камешек в детской игре’ (в Лике и Темничи) (RJA IX, 810), диал. pètāk, -áka ‘размер бочки равный пяти меньшим; пятилетний конь’ (Peić, Bačlija. Rečnik bačkih Bunjevaca 238), петáк ‘ковер размером 5×4 аршина’ (Живковић. Пиротск. 113), словен. peták ‘стоимость в пять динаров; прежде австрийская банкнота в пять золотых динаров’, (диал.) обычно в сочетаниях: gosak petak ‘пятилетний гусак’ (SSKJ III, 581), petak quinarius (Kastelec – Vorenc 278), pétak ‘пятница’ (Sl. Prekmurja 431), чеш. pět’ak, -u ‘пятак, пятерка; (Прежде) четверть златого ’ (PSJČ IV,1, 221), paták, -u ‘монета в пять грошей; (морав.) четверть гроша; (слвц.) семь крейцеров’ (Kott II, 508; Kott. Dod. k Bart. 75), диал. paták ‘старая медная монета; (валаш.) горшок в пять мерок (žejdlíků)’ (Bartoš. Dial. sl. morav. 283; Jindřich. Chodsk. 208)), pěták ‘нож за пять крейцеров’ (Kott. Dod. k Bart. 76), ст.-слвц. päták [pä-, pa-, pe-] ‘пятилетний молодняк; монета достоинством в пять единиц (динаров и т.п.), грош; монета достоинством в 1¼ динара, 6¼, 7½, 10, 5, 2, 5 дин.’ (Histor. sloven III, 491), слвц. piatak (нов.) ‘ученик пятого класса, пятого года обучения (в школе)’ (SSJ III, 65), слвц. диал. päták (piet’ak, piaták), центр.-слвц., зап.-слвц. устар. ‘монета в десять галеров’ (Sloven. nár. II; 759), в.-луж. pjatak, -a ‘пятый (слуга), пять крейцеров’ (Pfuhl 457), польск. piątak, диал. piętak ‘монета стоимостью в пять самых мелких монет (диал.) сорт меда’ (Warsz. IV, 136–137; Sl. gw. pol. IV, 84, 101), помор. ṕǫtäk, ṕǫtk ‘пятница’ (Lorentz. Pomor. Wb. II, 1, 26), русск. пятáк, -á (простореч.) ‘монета в 5 копеек, сумма в 5 копеек’ (Ушаков III: 1090), диал. пятáк ‘небольшое ровное место, где гуляет молодежь; окно с чистой водой в болоте’ (ворон.), ‘небольшой карась’ (свердл.), ‘небольшое круглое пятно (в окраске змеи)’ (псков.), чушиный пятáк ‘пятачок свиньи’ (Р. Урал) (СРНГ 33, 218), ‘пятно, (экспр.) лицо’ (Селигер 5, 225), ‘синяк, ушиб’ (Сл. рус. г-ров Прибайкалья О-Р, 128), ‘мелкая камбала’ (Мызников. Рус. г-ры Беломорья 352), ‘предмет, который прячут в ладонях в игре «колечко, золото хоронить», игрок, у которого колечко’ (Востриков. Традиционная культура Урала IV, 56–58), раскатать пятак ‘преувеличить’ (Сл. перм. г-ров II, 253), разговор., жарг. пятáк ‘(пренебр.) что-л. числом или количеством пять единиц; (груб.) о лице или носе человека’ (Сл. разговор. речи 516), (шк.) ‘оценка «отлично»’, (арест, угол.) ‘пять лет лишения свободы, холодное оружие «наладошник», место сбора воров’, (молод.) ‘место встречи гомосексуалистов, проституток и т.п., анальное отверстие, лодырь, глупый, некрасивый мужчина’, (нарк.) ‘окурок папиросы с гашишем’ (Мокиенко, Никитин. БСлРусЖарг 494; Сл. молод. сл. 443; Сл. тюрем.-лагер. 202), надавать пятаков (одобр.) ‘неожиданно для всех ответить четко, ясно, без запинки’ (Аннушкин. Сл. шк. жарг. 226), ст.-укр. *пѣтакъ (пѣтока XV в.) ‘пятилетний конь’ (Cл. ст.-укр. мови XIV–XV ст. II, 281), укр. п’ятáк, -á (разгов.) ‘пятикопеечная монета’, (перен.) ‘небольшая площадь, огороженный чем-л. участок земли’ (СУМ VIII, 420), диал. п’ятáк ‘бревно длиной в 5 саженей’ (Онишкевич. Сл. бойк. г-рок II, 165), ‘две с половиной копейки’ (Сл. укр. г-рiв Одещини 167), п’атáк, -á ‘ученик пятого класса’ (Чабаненко. Сл. нижн. Надднiпр. 3, 303), ‘пятикопеечная монета, (устар.) связка из пяти снопов соломы для покрытия крыши’ (Корзонюк 205), п’єт áк, -á (гончар.) ‘большой горшок емкостью в 18 литров’ (Шило. Надднiстр. сл. 199), ст.-блр. пятак, пяток ‘пятилетнее животное’ (1565, 1588, 1593 гг.) (Гiстар. сл. белар. мовы 24, 271), блр. пятáк, -кá (разгов.) ‘пятак’ (БРС/ Крапива 771), диал. пятáк ‘мера вытрепанного льна’ (Атлас белар. г-рак 4, 64), ‘пятая часть надела, укладка из пяти снопов’ (Сельская гаспадарка 181, 189; Сцяшковiч. Грод. 407), ‘открытая площадка для танцев’ (Сцяшковiч. Слоўн. 395), ‘высокое людное место’ (Яшкiн. Блр. геагр. назвы 160); сюда же русск. диал. пятáка, -и м. и ж. р. ‘лошадь на пятом году жизни’ (Сл. донск. казачества 440).
Сущ., производное с суф. -akъ от числ. *pętь (см.)4 или *pętъjь (см.).
Как видим, здесь очевидна реализация разных мотиваций наименования предмета: пятый по счету, обладающий другим количественным признаком (‘лошадь на пятом году’), состоящий из пяти частей, пятая часть, с разнообразными переносными значениями. Это свидетельствует о наибольшей вероятности наслоения на праславянскую семантику параллельных (хотя иногда и тождественных) изменений в истории славянских языков.
Нам импонирует предложение польского рецензента [Lewaszkiewcz 2020, 14] отмечать знаком вопроса спорные в каком-либо отношении статьи ЭССЯ, но мы не можем отойти от принятого автором проекта формального представления. Полагаем, что сомнения могут высказываться в тексте статей.
Современное состояние работы над ЭССЯ
К настоящему времени изданы 42 выпуска ЭССЯ (1974–2021), содержащие реконструкцию и этимологизацию праслав. лексики в объеме *a – *perzъ; ведется работа по написанию 43 выпуска, ориентировочно *petьl’a – *plьvati. Представляется необходимым остановиться подробнее на реализации в ЭССЯ принципа максимального привлечения в исследование диалектного материала. Общепризнано, что в этимологических исследованиях диалектная лексика расширяет и обосновывает представления о языковой и территориальной представленности лексем, их фонетических, морфологических и словообразовательных вариантах и преобразованиях, их семантическом объеме и реализации в разных сферах функционирования языка, что создает условия для уточнения этимологических результатов, в том числе – лингвогеографических характеристик лексем и обнаружения праславянских диалектизмов5.
Как и в предыдущих выпусках, в исследование вовлекается по возможности максимальный доступный диалектный материал. Ниже излагаются некоторые результаты расширения славянской диалектной базы для решения проблем реконструкции и этимологизации праславянской лексики в процессе подготовки 43 вып. ЭССЯ (*petьl’a – *plьstь).
- Впервые в праславянский словарь вводятся как самостоятельные позиции два непроизводных праславянских существительных, производящих для суффиксальных существительных.
1.**pěsъ: непроизводное существительное индоевропейского происхождения, являющееся производящей основой для праслав. *pěsъkъ (см.); возможность существования праслав. *pěsъ предполагается в связи с наличием непроизводных и.-е. соответствий: др.-инд. pāṁsú ‘пыль, песок’, авест. pąsnuš ‘то же’ (см. *pěsъkъ). Собственно славянские основания для реконструкции непроизводного существительного, при отсутствии его непосредственных продолжений в славянских языках, немногочисленны, но все-таки должны быть рассмотрены ввиду наличия противоречивых толкований некоторых производных образований в различных славянских языках. Авторы «Этимологического словаря старославянского языка» [ESJS 11, 639] впервые обсудили в этимологическом словаре возможность реконструкции непроизводного праслав. *pěsъ и обобщили некоторые материалы для этой реконструкции: русск. супесь, н.-луж. pěs (которое Шустер-Шевц считает вторичным образованием (Schuster-Šewc. Histor.-etymol. Wb. 14, 1058), польск. piach ‘песок’ – вероятнее всего, экспрессивное образование от piasek, чеш. диал. морав. písnik ‘высокий берег, где добывают песок’ – «возможно, младший дериват при регулярном чеш. písečnik» [ESJS 11, 639]. Этот материал можно дополнить местными названиями и гидронимами, в которых, однако, можно предполагать фонетическое упрощение исконных структур с -ъč: словен. Pešnca, Pešenk, Pšenk < *pěsъčen- (Bezlaj. Sl. v. imena II, 87), словен. Pésnica, Píšnica, чеш. Pisnica, польск. Piaśnica < *pěsъčenica (Snoj. Etym. sl. sloven. zemljepisn. imen 303, 308), однотипные н.-луж. стар. Pěsnica (Muka II, 33), кашуб. Pjôšńica (Ramułt. Sł. Kaszub. II, 36), апеллятив укр. пiснище ‘земельный участок с песчаным и глиняным грунтом; место добычи песка’ (Сл. нарoд. геогр. терм. Кiровоградщины 148). Необязательно, однако, видеть фонетическое преобразование песчина в русск. диал. пешина ‘песок’ (арханг., олон. СРНГ 27, 13). Но есть еще образования, где невозможно или маловероятно упрощение групп согласных. Это болг. диал. шумен. песовник ‘песчаник’ и песуляк страндж. ‘вид почвы’, пирот. ‘оползень на горе’, которые авторы «Болгарского этимологического словаря» считают производными от праслав. *pěsъ ‘песок’ (БЕР 6, 132), и русск. диал. песьяной ‘песчаный’ (см. *pěsъčanъ(jь), песнóй ‘песчаный’ (см. *pěsъčьnъ(jь), песóвый ‘песочного цвета’ (см. *pěsъkovъ(jь), песовина ‘песчаное место на реке, мель’ (см. *pěsъkovina). В этих болгарских и русских диалектизмах можно предполагать обратное образование от *pěsъkъ (при восприятии -ъkъ как суффикса уменьшительности), но, с другой стороны, допустимо предположение, что эти диалектизмы являются (как и русск. супесь) производными от праслав. **pěsъ, непосредственные продолжения которого в славянских языках вытеснены производным *pěsъkъ.
- Относительно праслав. *plěsnь преобладает версия о структуре с суффиксом –snь, см. (Brückner 418; Machek2 460; Skok II, 683; Schuster-Šewc. Histor.-etym. Wb. Sorb. Sp. 1103; Králik 446; Rejzek 476; Фасмер III, 279; БЕР 5, 336–337; ЕСУМ IV, 449). О суфф. cтруктуре см. (Sławsky. Zarys I, 118). Однако Скок предположил существование производящего *plěsъ: сербохорв. plijes м.р. ‘плесень’ (Mikaļin, употреб. в Далмации) (RJA X, 1, 62), словен. plês м.р. ‘плесень’ (Plet.2 II, 56), plés (plĕs), то же (Erjavec LMS 1880, 170), ples ‘то же’ и (агр.) ‘грибковая болезнь’ (Zatolmin. 44), к которым теперь присоединяются кашуб. ples, -e м.р. ‘плесень’ (Sychta IV, 73) и имена с -i- основами: польск. диал. plesz ‘плесень’ (M. sł. gw. pol. 192), pleś ж.р. ‘плесень’ (Olesch. Annaberg 207), помор. ples, -e ж.р. ‘плесень’ (Lorentz. Pomor.Wb. I, 634), русск. диал. плесь ‘плесень’ (ряз., орл.) (СРНГ 27, 119), ‘плесневая пучка, зонтичное растение с горьким стеблем’ (Сл. рус. г-ров Низовой Печоры 2:47), блр. диал. зап.-гом. плесь ‘налет на квашеной капусте’ (Дыял. атлас белар. мовы 4).
Существительные с -о- и -i-основами могут быть результатом фонетического упрощения *plěsnь (см. особенно -i-основы), что вероятно в истории отдельных языков (ср. русск. разгов. и диал. жись < жизнь). Однако не исключена также возможность субстантивации прилагательного **plěsъ, родственного с лит. peléti, peléja ‘плесневеть’, лтш. pelêt то же, лит. pálšas ‘светло-серый (только о скоте)’, лтш. pàlss ‘то же’, при общем происхождении из и.-е. *pel- ‘серый’ (Pokorny I, 805). (См. Snoj 453; Boryś 441, допускает сущ. *plěsъ; Bezlaj 3: 55 (c доп. М.Ф. по Сною); ЭСБМ 9, 190–191.)
Принятие реконструкции праслав. *plěsъ (см.) позволяет предполагать для *plěsnь другую словообразовательную модель: от *plěsъ с суффиксом -nь, возможно, через ступень прилагательного *plěsnъ: см. ст.-слав. плѣснь ‘заплесневелый, серый’ (Zach.), реальность которого подвергается сомнению (см. ESJS 11, 657), или **plěsьnъ (см. Snoj 453; Bezlai 3, 55, доп. М. Фурлан по Сною; Boryś 441; ЭСБМ 9, 191).
- Диалектные материалы служат основанием для новых этимологических толкований.
- Праслав. *pětati:
русск. диал. пéтать, -аю несврш. ‘бить, колотить’ (зап., твер., курск., южн.), ‘мучить, терзать, изнурять’ (волог., вят.), ‘выполнять тяжелую работу’ (арханг., курск., сарат.), ‘едва, через силу говорить’ (олон.), ‘знать, понимать’ (арханг.) (СРНГ 26, 325; также Даль2 III, 105; Дилакторский. Сл. волог. наречия 424; Волог. словечко 198; Сл. вят. г-ров, 260), ‘трудиться’ (Новг. обл. сл. 7, 134), ‘давить, душить’ (Дуров. Сл. помор. яз. 296), ‘понимать, соображать; топтать, мять’ (Сл. рус. г-ров Карелии 4, 490), ‘с усилием тащить; до предела класть, пихать’ (Устьян. народ. Сл., 239), ‘быстро, с аппетитом есть’ (Сл. волог. г-ров. Полка – по-рядному 52), пéтаться, -аюсь ‘стараться, трудиться, усиленно заниматься чем-л.’ (арханг., волог. север., вят., новг., посков., смол., курск., брян., колым.), ‘сильно уставать’ (волог., новгор.), ‘добиваться чего-л., заботиться о чем-л.’ (север., курск.), ‘ходить взад и вперед, шататься’ (мурман.), ‘торговаться’ (тамб.) (СРНГ 26, 325–326; также Даль2 III, 105, 550; Дуров. Сл. помор. яз. 296; Псков. обл. сл. 26, 81; Дилакторский. Сл. волог. наречия 358; Мосеев. Поморьска говоря 94 и др.), ‘мучиться’ (Сл. волог. г-ров. Полка – по-рядному 52–53), то же и ‘баловаться, шалить; буянить, безобразничать’ (Сл. рус. г-ров Карелии 4, 490), петáться ‘отбиваться, корячиться (во время борьбы)’ (Богораз 106; Зотов. Сл. лекс. Сев.-Вост. России 35), пéтаться и пéхтаться ‘усиленно или изнеможденно возиться с чем-л., делать тяжелую или кропотливую работу’ (Устьян. народ. сл. 239), блр. пѣтаць ‘бить, колотить’ (Носович 542 ); сюда же соотносительное русск. диал. пéтиться, -чусь ‘стараться, трудиться, усиленно заниматься чем-л.’ (перм.), ‘добиваться чего-л., заботиться о чем-л.’ (СРНГ 26, 327), производные русск. диал. пéтовать, -аю и петовáть, -áю ‘бить, колотить’ (зап., южн., брян., смол.), ‘мучить, тиранить’ (СРНГ 26, 328), петоваться, -туюсь ‘поднимать что-л. тяжелое’ (калуж). (СРНГ 26, 328), укр. диал. пєтувать, -ую ‘мучиться, страдать от тяжелой работы’ (Чабаненко. Сл. нижн. Надднiпр. 3, 109), блр. диал. пéтаваць и пéтывыць ‘бить’ (Бялькевiч. Магiл. 326), пéтавацца ‘непосильно, тяжело работать’ (Стрэшин, правобер. Днепра) (Жывое слова 118); сюда же относят (вероятно, как производное от утраченной *-nǫ-основы) болг. диал. пéтним ‘воспитывать, обучать, исправлять’, *‘гнать’ (петни врага до прага) (БЕР 5, 202); сюда же производные сущ-ные русск. диал. пéтарь м.р. ‘слишком старательный, работящий человек’ (волог.) (СРНГ 26, 325), петарúца ‘старательная, работящая женщина’ (волог.) (СРНГ 26, 325), блр. пéтун ‘обжора’ (Бялькевiч. Магiл. 326).
Существующие этимологические версии вызывают критические замечания: производность от пехтать (Преобр. II, 52), что сомнительно фонетически (русск. диал. устьян. пéхтаться при пéтаться – результат народной этимологии); родство с греч. παίω ‘бить, толкать’ (Носович 542), не учитывающее греч. корневое *u в греч. глаголе; родство с *pitati и соответственно происхождение из гнезда и.-е. *pei(ә )- ‘быть тучным, изобиловать’ (Соболевский ЖМНП 1886, сент., стр. 145 и РФВ 15, 412; Фасмер III, 251; Куркина Этимология. 1972. М.: 1974, 60–64; ЭСБМ 9, 106–107), не объясняющее семантику ‘бить’, см. критику толкования болг. материала, аргументирующего семантику давления для *pitati (БЕР 5, 203, 264: пита).
Опираясь на значения ‘совать, пихать’ (см. выше русск.), ‘топтать, мять’ и ‘бить, колотить’ (русск., блр.), которые могут как первичные объяснить появление вторичных ‘быстро, с аппетитом есть, мучить(ся), трудиться, стараться, добиваться’ (вост.-слав.), можно предположить глубинное, на и.-е. уровне, родство *pětati с *pьxati / *pěšiti – соотношение двух глаголов как и.-е. однокоренных вариантов с различными детерминативами: s в *pьxati и t в *pětati при и.-е. корне **pei- / *poi- с семантикой давления (для иранских языков предполагается, хотя и с сомнениями, корень *pai- / *pi- ‘раздроблять, раздавливать’, см. Эдельман ЭСИЯ 6, 83). Ср. и.-е. *pē(i)- / *pī- ‘вредить, повреждать’: гот. faian ‘ненавидеть’, др.-инд. pīyati ‘хулить’(Pokorny I, 792; LIV 459–460, в последнем весь материал подвергается сомнению: гот. – как темный, вед. – как контаминация).
- Русск., укр. и блр. глаголы дали основу для реконструкции вост.-слав. диалектизма праслав. языка:
*pětriti / *pětrati: русск. диал. пéтрить ‘понимать, соображать’ (волог., костр., влад., пенз., смол., моск., тамб., свердл., кемер., новосиб, курган.) (СРНГ 26, 329; также Сл. перм. г-ров II, 97; Псков. обл. сл. 26, 88; Сл.рус. г-ров Респ. Мордовия II, 809), ‘объяснять’ (Сл. вят. г-ров 7, 260), ‘ощущать, чувствовать (о руках)’ (Сл. рус. г-ров Карелии 4, 492), разгов. пéтрить ‘понимать, соображать; разбираться в каком-л. вопросе’ (Сл. разгов. речи 435), то же и ‘воровать’ (Сл. народ.-разг. речи г. Архангельска 1, 131), жарг. пéтрить ‘понимать что-л., знать что-л, догадываться о чем-л.; (угол.) проговариваться, нечаянно выдавать какую-л. информацию’ (БСЖ 431; Сл. тюрем.-лагер. 174), пéтриться ‘(угол.) догадываться о чем-л’ (БСЖ 431), блр. диал. пéтрыць, пéтрiць ‘понимать’ (Народная лексiка Гомельшчыны 112; Сл. Вiцеб 2, 142; Янкоўскi III, 94; Сцяшковiч. Сл .Грод. 357; Сл. паўн.-заход. Беларусi 3, 510), ‘понимать, соображать’ (Жывое наша слова 174);
укр. пéтрати, -аю разг. ‘понимать’ (СУМ 6, 345), диал. пéтрати, -раю ‘понимать’ (Ващенко. Сл. полтав. I, 73; Москаленко. Сл. дiал. Одес. 56).
Глаголы обычно признаются трудными, существующие версии: родство с *pęti sę (Брандт РФВ 23, 292; Преображенский II, 166; Bezlaj 3, 31; Фасмер III); c *pętiti (ЭСБМ 9, 108); образование от собств. имени Петро (ЕСУМ 4, 361). Наиболее вероятна производность от *pětati ‘давить, бить’ (см.) с экспрессивным -r-, предположение см. (Елистратов. Толк. сл. рус. сленга: 288), ср. русск. диал. пéтать ‘топтать, мять; понимать, соображать’ (Сл. рус. г-ров Карелии 4, 490), болг. диал. пéтним ‘воспитывать, обучать, исправлять’ и петря´ть ‘щупать, проверять руками’ (Громов. Жгон. яз. 59) и русск. простор. вбить в голову ‘объяснить, вразумить’.
- Семантика движения послужила основанием для отделения от глагола *pęditi со значением ‘измерения пядью’ глаголов
*pęditi (sę) II / *pędati (sę): чеш. редк. píditi, píditi se ‘сильно спешить’ (PSJČ IV, 1, 236), pídit ‘вытекать’ (Bartoš. Dial. sl. morav. 288), ṕádit’ ‘тянуть с трудом (например, о коне, корове)’ (Bartoš. Dial. sl. morav. 276), слвц. pádit’ экспр. редк. ‘быстро бежать’ (SSJ III: 8), piadit’ книжн., редк. ‘бежать, убегать, стремиться’, piadit’ sa редк. ‘спешить’(SSJ III, 65), русск. диал. пядúть ‘попадать, бить чем-л. по чему-л. (напр., при игре в бабки)’ (олон.) (СРНГ 23, 210);
Возможно также сербохорв. pdati, pdâm ‘медленно, вяло идти; копаться; говорить неясно, тягуче’ (Stulić, Popović) (RJA IX, 751).
Предполагается исходный праслав. глагол *pęditi, родственный праслав. *pǫditi ‘гнать, побуждать’ (см.) и восходящий к и.-е. *(s)pend- ‘тянуть, натягивать’ (производному от *(s)pen- ‘тянуть’), с семантической реконструкцией ‘тянуть на веревке’ → ‘гнать’, при родственном лит. spȩsti, spéndžia ‘устраивать ловушку, западню’.
- Предлагаем новое этимологическое толкование для *plovьma / *plujьma / *plyjьma:
*plovьma / *plujьma / *plyjьma русск. диал. плóйма ж.р. ‘множество, большое количество кого-л., чего-л., о детях’ (псков., смол., брян.), ‘о скоплении насекомых, червей’ (смол.), ‘о детях в многодетной семье или стечении их где-л.’ (брян., смол.) (СРНГ 27, 145–146; также: Расторгуев. Сл. рус. г-ров Зап. Брянщины; Добровольский 606; Сл. рус. г-ров Респ. Мордовия II, 824), блр. плóйма ж.р. (разг.) ‘большое количество, уйма; (о людях) скопище, орава’ (БРС / Крапiва 697; Байкоў, Некрашэвiч БРС 239; Готовец, Мясникова. Блр.-рус. сл. 166), диал. плóйма ‘множество чего-л’. (Дыял. сл. Брэстчыны 168; Сцяшковiч. Грод. 375; Шатэрнiк. Кр. сл. Чэрвен. 218 и др.), ‘орава’ (Касьпяровiч. Вiцеб. сл. 244), ‘множество, дети, детвора’ (Бялькевiч. Магiл. 333), ‘гурьба детей; пух’ (Чалавэк. Тэмат. сл. 17, 13 и др.), ‘табун , стадо коров, овец’ (Жывëльны свет 104, 109; Атлас блр. г-рак 1, 31);
блр. диал. плӳйма (наряду с плóйма) ж.р. ‘множество чего-л.; гуляка, бездельник’ (Сл. паўн.-заход.Белар. 4, 14);
укр. диал. пли́йма ж.р. ‘толпа, стая’ (Корзонюк. Мат. захiдноволин. 186), плы́jма ‘уйма, тьма (о живых существах)’ (Лексика Полесья 57), блр. диал. плы́йма (наряду с плóйма) ж.р. ‘множество чего-л.’ (Сл. паўн.-заход. Белар. 4, 14);
сюда же ст.-чеш. plovmo нареч. ‘потоком’ (StčSl 16, 266); ср. еще ст.-русск. плоимыи прилаг. ‘относящийся к плаванию’ (ВМЧ, Окт. 1–3, 208. XVI в. ~ XII в.) (СлРЯ XI–XVII вв. 15, 97).
Существительное, производное с суф. -ьma от вариантных корней *plov- /*plu- / *ply- глаголов *plovati (см.), *ploviti (см.),*pluti (см.), *plyti (см.).
Наиболее вероятна первичность формы *plovьma c последующим преобразованием в сторону сближения с актуальными глаголами.
Относительно -vьm- > -jm- в *plovьma см. *plovьba.
- *plovьba: сербохорв. plóvba,-y ж.р. ‘плавание’ (Popovic; RJA X, 1, 87), словен. plóvba ‘плавание’ (SSKJ III, 646); сюда же сербохорв. диал. plôjba, -е и pjôjba ж.р. ‘место, где капает и набирается вода’ (Dulčić. Brušk. 595), относительно -vьb- > -jb- cр. plôjka и plovka ‘детская игра в плоские округлые камешки’ (Iveković – Broz II: 48), ср. еще *plovьma (см.); предложенная ранее авторская реконструкция (Варбот // Этимология 1986–1987, 62–63) основы *ploi- должна быть отвергнута, но гипотеза о конечном происхождении из и.-е. гнезда *pel- ‘наполнять, лить, течь’ (откуда и праслав. гл. *pluti) остается в силе; по Скоку plôjba – заимств. вульг.-лат. plǫvia (Skok II, 687-688).
Cущ., производное с суф. -ьba от гл. *plovati (см.), *ploviti (см.) или от основы наст. вр. гл. *pluti, *plovǫ (см.).
Заключение
Формулировка профиля словаря – этимологический словарь славянских языков – обязывает включать в словарь толкования «непрозрачных» исконных, хотя и вторичных производных. Соответственно в статью о праслав. глаголе *plěti ‘слабо гореть, тлеть’ включено как дополнение объяснение русск. диал. плящий ‘сильный, жгучий’ (чаще о морозе) как адъективированного действительного причастия *plętjьjь. Причастие, несомненно, праславянская форма, но адъектив – русская.
В словарь включена также реконструкция *pl’usati на базе только кашуб. plȯsac ‘извергать пену, слюну’, как интенсив от *pl’uti < *plьvati / *pl’ujǫ, и *pl’udati на базе русск. диал. плюдáть ‘плевать’, также от *pl’uti < *plьvati / *pl’ujǫ.
К подобным реконструкциям на базе единичных или редких этимологически непрозрачных лексем славянских языков, образованных от основ/слов праславянского лексического фонда, относится вызывающая возражения у рецензентов и критиков ремарка «праслав. древность проблематична». Этимологизация вторичных производных предполагается самим названием словаря.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
БЕР – Български етимологичен речник. София, БАН. Т. I–VIII-. 1971– .
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / перевод с немецкого и дополнения О.Н. Трубачева. М.: Прогресс, 1964–1973. Т. I–IV.
ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1–42 / под ред. О.Н. Трубачева (вып. 1–31), О.Н. Трубачева и А.Ф. Журавлева (вып. 32), А.Ф. Журавлева (вып. 33–39), А.Ф. Журавлева и Ж.Ж. Варбот (вып. 40), Ж.Ж. Варбот (вып. 41, 42). М.: Наука, 1974–2021.
ESJS – Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zajmena. Sv. 1. Sest. Fr. Kopečný. Sv 2. Sest. Fr. Kopečný, V. Šaur, V. Polák. Praha: Academia, 1973, 1980.
SP – Słownik prasłowiański / рod red. Fr. Sławskiego. T. 1–8, 11. Wrocław- Warszawa; Kraków; Gdańsk: Wyd. PAN, 1974–2023.
1 В статье источники и научная литература, за исключением нескольких позиций (в квадратных скобках), даются в соответствии с принципами ЭССЯ в круглых скобках, см. [ЭССЯ 1, 41–42].
2 Кстати, именно разработка славянских производных различных ступеней в ЭССЯ вызвала особенно острые замечания В.Б. Крысько в его рецензии, где он критикует ЭССЯ за то, что словарь становится тезаурусом праславянского словообразования и его отражения и развития в славянских языках [Крысько 2014, 118].
3 Далее приводится материал соответствующей статьи в т. 43 ЭССЯ, готовящемся к публикации. Выделение жирным шрифтом сделано только для настоящей публикации.
4 Здесь и далее (см.) означает отсылку к соответствующей статье в ЭССЯ.
5 См. публикации последнего времени: о соотношении гапаксов славянских диалектов и праславянских диалектизмов [Варбот 2018, 35–40], о восточнославянских праславянских диалектизмах [Куркина 2021, 128–153]. Кстати, прошу считать принципиально противоречащей позиции авторского коллектива ЭССЯ статью А.К. Шапошникова [Шапошников 2021], хотя он был одним из авторов ЭССЯ (вып. 34–42).
Об авторах
Жанна Жановна Варбот
Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: zhannavarbot@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-9783-4292
доктор филологических наук, зав. отделом
Россия, МоскваСписок литературы
- Варбот Ж.Ж. Праславянские диалектизмы, гапаксы славянских языков и относительная хронология лексики реконструируемого праславянского лексического фонда // Славянское языкознание. Доклады российской делегации. XVI Международный съезд славистов. Белград., 20–27 августа 2018. М., Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 2018. С. 35–40.
- Крысько В.Б. Маргиналии к «Этимологическому словарю славянских языков» (вып. 34–38) // Вопросы языкознания. 2014. № 1. С. 110–119.
- Куркина Л.В. Праславянские лексические диалектизмы восточнославянского словаря (по материалам ЭССЯ, вып. 1– 41) // Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова. 2021. № 4. С. 128–153.
- Проспект – Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд). Проспект. Пробные статьи. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 214 c.
- Шапошников А.К. Старые русские диалектизмы и лексикографические фантомы ЭССЯ // Лексический атлас русских народных говоров. Материалы и исследования. 2021. СПб.: ИЛИ РАН, 2021.
- Berneker E. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908–1913.
- Kopečný F. Základní všeslovanská slovní zásoba / spolupracovali: PhDr. Eva Havlová, CSc. PhDr. Hermína Plevačová, PhDr. Antonín Mátl. Academia. Praha, 1981.
- Lewaszkiewicz T. Hasła z gwiazdkami w Słowniku prasłowiańskim (1974–2001) pod redakcją Franciszka Sławskiego // Studia z filologii Polskiej i Słowiańskiej, 55, 1–17.
- Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der Slavischen Sprachen. Wien, 1886. 558 p.
- Sadnik L., Aitzetmüller R. Vergleichendes Wörterbuch der Slavischen Sprachen. Wiesbaden: Harrassowitz, 1963–1970. 653 p.