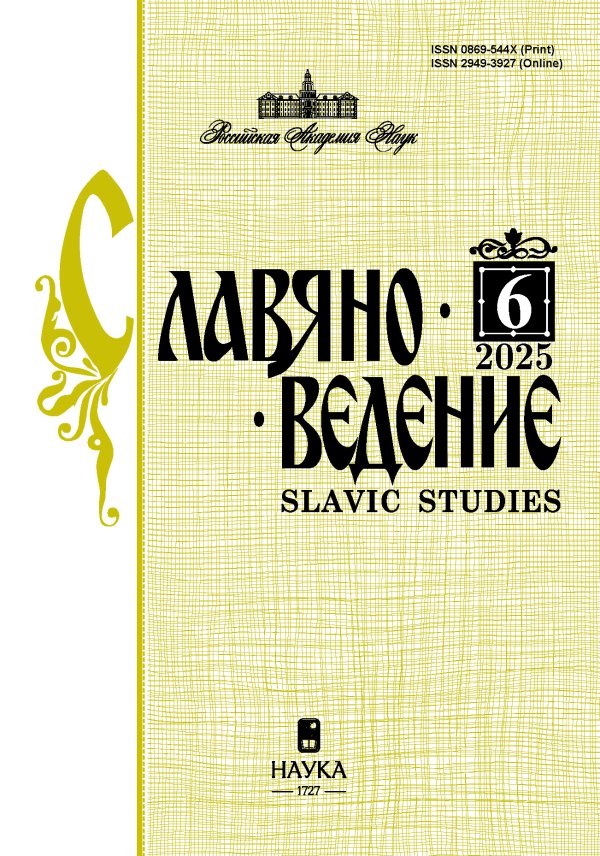К столетию историка-полониста: Владимир Александрович Якубский
- Авторы: Аржакова Л.М.1
-
Учреждения:
- Институт славяноведения Российской академии наук
- Выпуск: № 5 (2024)
- Страницы: 121-135
- Раздел: Из истории славистики
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/266921
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24050107
- EDN: https://elibrary.ru/YSLVWZ
- ID: 266921
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена видному отечественному историку, специалисту по истории Польши В.А. Якубскому (1924–2013). В контексте общей характеристики творческого наследия ученого показана четкая взаимосвязь между его социально-экономическими изысканиями и наблюдениями над общим ходом польской истории, включая наиболее дискуссионные вопросы. Подчеркнут вклад В.А. Якубского, совместно с Г.Е. Лебедевой, в создание коллективного портрета-образа кафедры истории Средних веков Ленинградского университета, в историографию истории отечественной полонистики. Особо акцентировано, что участие В.А. Якубского в претворении в жизнь крупных академических исследовательских проектов выступало свидетельством неразрывных научных связей ленинградской/петербургской славистики со славистикой московской.
Полный текст
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ЛГУ – Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова.
ЛОИИ – Ленинградское отделение Института истории АН СССР.
СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет.
В середине декабря 2013 г. подготовка к предстоящему 23 января 2014 г. 90-летнему юбилею известного советского и российского историка-полониста Владимира Александровича Якубского была приостановлена, точнее – приняла иные формы вследствие смерти ученого. Прощание с заслуженным работником высшей школы (1999), доктором исторических наук, профессором – и почетным профессором СПбГУ (2009), В.А. Якубским (23.01.1924–15.12.2013) проходило в Князь-Владимирском соборе Санкт-Петербурга. В последние годы жизни Владимир Александрович редко выбирался в родной университет, друзей и коллег радушно принимал у себя дома, а в тот декабрьский день повидаться с Владимиром Александровичем – и проститься, – уже не к нему домой, а в храм на Петроградской стороне, пришло много ленинградского/петербургского народу.
В 2024 г. Владимиру Александровичу Якубскому исполнилось бы 100 лет. Лишний повод вспомнить и сказать (пусть сознавая ограниченность сказанного) о Человеке и о деле его жизни.
В.А. Якубский принадлежал к тому опаленному войной поколению, стойкость и мужество которого были видны и в мирной жизни. Уроженец села Боярка, что вблизи Киева, с тринадцати лет Владимир Александрович вместе с родителями жил в Ленинграде, до конца своих дней сохранив привязанность и теплые чувства к родной украинской земле. Не успев окончить среднюю школу до войны, в 1942 г. он был эвакуирован из блокадного Ленинграда в Кировскую область, откуда в августе 1942 г. его призвали в действующую армию.
Гвардии красноармеец В.А. Якубский был определен сапером (подрывником-минером) в инженерно-минную роту 22 гвардейской мотострелковой Фастовской Краснознаменной, Ордена Богдана Хмельницкого II степени и Ордена Суворова II степени бригады (сначала она входила в состав Брянского, а затем 1-го Украинского фронтов). Вместе со своей бригадой Владимир Александрович прошел боевой путь от Мценска до Берлина. Воевал на Курской дуге, форсировал Днепр, участвовал в Киевской, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Берлинской наступательных операциях. Не раз был награжден1: медалью «За отвагу» (1943), Орденом Красной Звезды (1944), Орденом Славы III степени (1945), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), Орденом Отечественной войны I степени (1985). В одном из последних наградных листов военного времени (26.04.1945), где речь шла о форсировании Тельтов-канала, подчеркивалось: «Несмотря на сильный обстрел противником места переправы, гв[ардии]. кр-[асноармее]ц Якубский сделал 13 рейсов. Несколько раз лодка была пробита осколками, быстро заделывая пробоины, т. Якубский продолжал переправу пехоты. Получив легкое ранение, герой Якубский не ушел с переправы до тех пор, пока вся пехота не была переправлена. За умелую организацию переправы, за проявленные при этом мужество и героизм, гв[ардии]. кр-[асноармее]ц Якубский достоин правительственной награды – Ордена Ленина»2.
За этим наградным листом последовало представление к награде от подразделения (датировано 29.06.1945), но в 1945 г. Владимир Александрович Орден Ленина не получил: при штурме Берлина он был тяжело ранен, следы раненого бойца затерялись. Орден Ленина, как и Орден Славы III степени, профессору В.А. Якубскому были торжественно вручены в 1983 г. – в Актовом зале Ленинградского университета…
Поневоле краткое обращение к деталям жизни и непростым обстоятельствам становления будущего ученого, есть лишь слабая попытка понять, какие люди приходили в науку после большой войны. В 1945 г. для В.А. Якубского все еще было впереди: продолжив лечение, он доучивался в вечерней школе, по окончании которой поступил в 1947 г. на исторический факультет Ленинградского государственного университета, избрав для себя специализацию по кафедре истории Средних веков. В ту пору на кафедре трудились такие видные ученые-медиевисты, как А.Д. Люблинская, О.Л. Вайнштейн3, М.А. Гуковский. Впоследствии В.А. Якубский называл своими учителями А.Д. Люблинскую, Б.Я. Рамма, В.В. Штокмар, Б.А. Романова.
Что касается славистики, на кафедре истории Средних веков она была представлена О.Е. Ивановой4, немало способствовавшей тому, чтобы славистическое направление стало неотъемлемой частью научно-учебного подразделения. Во многом ее же стараниями курс истории южных и западных славян в 1943 г. (в период пребывания университета в эвакуации) был включен в учебный план исторического факультета Ленинградского университета как обязательная дисциплина. Первую часть курса (Средние века) тогда читала О.Е. Иванова5, вторую часть (Новое и новейшее время) – У.А. Шустер и В.Н. Белановский. Впоследствии этот курс на истфаке многие годы вели В.А. Якубский (Средние века и раннее Новое время) и С.М. Стецкевич (Новое и новейшее время).
Известно, что после революционных гонений [Робинсон 2004] отечественное славяноведение, с конца 1930-х – в 1940-е годы вставшее на путь возрождения [Аксенова 1990; 2000; Досталь 2009; 2012], заметно активнее развивалось в Москве, чем в Ленинграде. В отличие от Москвы, где в 1939 г. в университете была открыта кафедра истории южных и западных славян, а в Институте истории АН СССР – сектор славяноведения, на воссозданном в 1934 г. историческом факультете Ленинградского университета не нашлось места для специальной славянской кафедры [Аржакова 2004, 266–267]6.
После закрытия Института славяноведения АН СССР (1931–1934 гг.) исторической славистике в академической системе Ленинграда была уготована второстепенная роль. Подтверждением тому могут служить крайне скудные сведения о деятельности сектора славяноведения7, который в 1938 г. по инициативе академика Н.С. Державина (и под его руководством) был создан в ЛОИИ АН СССР8.
Но это отнюдь не означало оторванность ленинградских славистов от активно развернувшейся научно-исследовательской работы в воссозданном в 1947 г. (теперь в Москве) Институте славяноведения АН СССР9. Достаточно отметить, что среди авторов академической «Истории Польши»10 (1954), своего рода пилотного для Института славяноведения проекта, были ленинградские полонисты О.Е. Иванова, Л.В. Разумовская, У.А. Шустер.
Именно под руководством О.Е. Ивановой в годы учебы на истфаке Владимир Александрович приобщился к разработке социально-экономической проблематики, сосредоточив внимание на средневековом Кракове. Позднее О.Е. Иванова и В.А. Якубский пару раз выступали соавторами [Иванова, Якубский 1956; 1960]. По окончании университета в 1952 г. возглавивший после О.Л. Вайнштейна11 кафедру истории средних веков византинист М.В. Левченко предложил В.А. Якубскому занять на кафедре место лаборанта. По признанию Владимира Александровича, в условиях отсутствия в Ленинграде работы по специальности (как своеобразного отголоска борьбы с космополитизмом12) он воспринял такое предложение как безусловное для себя везение. Вскоре нового лаборанта, способности которого были замечены и оценены по достоинству (о чем свидетельствовал сам факт того, что его оставили на кафедре), стали привлекать к научно-педагогической деятельности: с тех пор проведение семинаров и чтение ряда лекционных курсов стало неотъемлемой частью его повседневных обязанностей.
В те же годы В.А. Якубский участвовал в составлении «Путеводителя по Архиву Ленинградского отделения Института истории»13, где его коллегами по кропотливой работе были В.И. Рутенбург, В.С. Люблинский, Г.Е. Кочин (известный как составитель «Материалов для терминологического словаря древней Руси» (1937) под редакцией Б.Д. Грекова) и др.
Не замыкаясь в рамках польской истории и сознавая насущную потребность школы в учебной литературе по славянской истории, О.Е. Иванова и В.А. Якубский вместе с другими коллегами участвовали в написании «Очерков истории южных и западных славян» [Белановский и др. 1957]14. Правда, впоследствии Владимир Александрович весьма критически отзывался об этих «Очерках…», справедливо отмечая свойственную им описательность.
Параллельно с этим, Якубский продолжал научные изыскания на ниве социально-экономической истории средневековой Польши. Вскоре они получили завершение в виде подготовленной и успешно защищенной в 1958 г. кандидатской диссертации на тему «Промышленное развитие Краковской земли с конца XV и до середины XVII вв.» (официальные оппоненты – Л.В. Разумовская, В.Н. Бернадский, неофициальный оппонент – В.И. Рутенбург). Несмотря на высокую оценку представленной соискателем работы, в дальнейшем он практически не возвращался к сугубо урбанистическим исследованиям, убедившись в том, что они малоперспективны по причине слабой обеспеченности источниками.
Важно отметить, что почти одновременно с защитой В.А. Якубским кандидатской диссертации и корректировкой предмета своих научных интересов, в конце 1950-х годов на истфаке ЛГУ, по решению Ученого совета факультета, был создан межкафедральный сектор истории южных и западных славян. Изначально сектор возглавил В.Н. Белановский, а затем (после его кончины) – С.М. Стецкевич. Образование славянского сектора и, как вскоре выяснилось, проявленный студентами интерес к занятиям славянской тематикой позволили открыть на истфаке специализацию по истории славян (была официально оформлена в начале 1960-х годов). Причем, содержание учебного плана специализации (с акцентом на специальные исторические дисциплины: источниковедение, историографию) отличалось от утвердившегося на славяноведческой кафедре истфака Московского университета.
В профессиональном сообществе историков-славистов, как известно, не было (пожалуй, нет и сейчас) единства относительно тематической насыщенности общего курса истории южных и западных славян. В периодически возникавшую по этому поводу полемику не раз включался В.А. Якубский, поддерживаемый С.М. Стецкевичем [Стецкевич, Якубский 1969; Легуров и др. 1974]. Товарищи по факультету, а зачастую и соавторы, настаивали, в частности, на том, что в общих курсах по истории южных и западных славян необходимо подчеркивать стадиально-типологические особенности всего региона, в который входили представители южного или западного славянства. Иными словами, Якубский и Стецкевич убеждали коллег, что в контексте славяноведческих общих курсов никак нельзя обойтись без освещения истории Венгрии, Румынии или Албании. Вообще, как преподаватель, В.А. Якубский охотно откликался на предложение принять участие в подготовке учебно-методических пособий и хрестоматий по истории южных и западных славян [Якубский 1982; 1987а; Шаферова, Якубский 1982].
Другими словами, львиную долю времени и сил Владимир Александрович отдавал педагогической деятельности, и, не в последнюю очередь, научному руководству студентами и аспирантами (в этом деле равных Владимиру Александровичу было мало), однако не будет преувеличением сказать, что приоритетом для него оставалась наука. Если даже бегло взглянуть на перечень его трудов [Библиографический указатель трудов 2008, 196–204], видна внутренняя логика, которой были подчинены научные интересы, исследовательская работа ученого и педагога, стремившегося по возможности детально разобраться в ключевых проблемах польской истории (отнюдь не только социальноэкономического характера), а также методах изучения этих проблем.
В научных изысканиях В.А. Якубского прослеживается три более или менее явно выраженных исследовательских направления. Первое было связано с аграрной проблематикой, в пользу изучения которой он сделал выбор в конце 1950-х годов и которую (не забывая о других вопросах) развивал примерно до конца 1970-х годов.
В эти годы Якубский стал постоянным участником симпозиумов по аграрной истории Восточной Европы15, наладил и поддерживал особенно тесные научные связи с львовскими коллегами (Д.Л. Похилевичем, Ю.М. Гроссманом, В.Ф. Инкиным). Всех объединяла не только устремленность досконально изучить специфику польского варианта барщинно-крепостнической системы (по сравнению с ситуацией в других землях восточнее Эльбы), но и выявить, что, наверное, не менее важно, степень ее воздействия на политические судьбы Польши / Речи Посполитой.
Когда польские и советские историки с энтузиазмом обратились к применению математических методов в исторических исследованиях, В.А. Якубский тоже не остался в стороне [Якубский 1972; Маркарянц, Якубский 1972]. Взявшись за кропотливые обсчеты малопольских податных реестров, ученый предположил, что, с одной стороны, это поможет выявить структуру сельского населения, а, с другой, зафиксировать происходившие в этой сфере на протяжении XVI–XVII вв. перемены16. Увлечение математическими методами не пропало даром: построение модели производства и потребления сельскохозяйственной продукции в Речи Посполитой позволило советскому ученому убедительно доказать, что доля барской запашки в Польско-Литовском государстве составляла не более 15–20 %, в то время как в историографии она, как правило, оценивалась в два-три раза выше.
В историко-аграрных изысканиях Якубский не только шел в ногу с польскими и отечественными коллегами, занимавшимися сходными проблемами (В. Кулей, А. Вычаньским, А. Мончаком, Е. Топольским, Л.В. Разумовской, Д.Л. Похилевичем), но в силу свойственной ему остроты взгляда на предмет исследования зачастую вступал с ними в полемику. Это ярко продемонстрировано в его монографии «Проблемы аграрной истории позднесредневековой Польши» [Якубский 1975а, 25–26, 28–31, 41, 48, 53–54 и др.], вызвавшей заинтересованный и благожелательный отклик такого знатока предмета, как Анджей Вычаньский (см. подробнее: [Wyczański 1976, 124–128]).
Проведенное исследование убедило автора, что «по своему экономическому уровню Польша второй половины XVIII в. не уступала соседним монархиям»17, а потому позволило сделать вывод, что фольварочная система в Речи Посполитой XVI–XVII вв., во многом порождая кризисные явления, все-таки не содержала в себе признаков бесповоротного упадка. Больше того, еще не утратив жизнестойкости, она, с точки зрения автора, оказалась способной умело (даже после выпадавших на ее долю потрясений) адаптироваться в новых социально-экономических условиях [Якубский 1975а, 103]. В том же 1975 г. в Ленинградском университете В.А. Якубским была блестяще защищена докторская диссертация, основу которой составила незадолго до этого вышедшая его монография [Якубский 1975b].
Параллельно с разработкой сугубо аграрной проблематики (см., например, [Якубский 1966; 1971; 1974]) Якубский все чаще акцентировал внимание на фундаментальных идеях исторической полонистики, связанных, прежде всего, с выявлением причин гибели Речи Посполитой [Якубский 1970; 1974; 1987b]. Кроме того, историк-полонист, за плечами которого было не одно десятилетие конкретно-исторических исследований, на очередном этапе своей творческой деятельности все больше склонялся в сторону историографических студий [Стецкевич, Якубский 1981a; Якубский 1996; 2000; 2001]. Интерес к изучению историографии, по его собственному признанию, в молодые годы ему привил О.Л. Вайнштейн, но для таких занятий, как считал Осип Львович, должно было настать время.
Иначе говоря, В.А. Якубский обнаружил (условно) второе тематическое направление своих научных интересов и исследований, всегда, в любой комбинации, ориентированных на глубокое постижение польского прошлого. Условно – потому, что выявление причин гибели Речи Посполитой было теснейшим образом связано с его наблюдениями над характером аграрного строя позднесредневековой Польши и социально-политической структуры польского общества, над польской политической литературой и над русской дореволюционной полонистикой [Якубский 1970; Стецкевич, Якубский 1974; Стецкевич, Якубский 1981b; Мыльников, Якубский 1982; Иванова, Якубский 1984]. Этот накопленный В.А. Якубским опыт многолетних наблюдений над спецификой развития Польши / Речи Посполитой обеспечивал историку необходимый контекст, в известной степени наделявший его правом судить о причинах гибели Речи Посполитой (из-за чего, как известно, в самой польской историографии было сломано немало копий), привлекая набор разнородных аргументов.
Среди работ этого периода хотелось бы выделить статью, написанную в соавторстве с В.В. Кутявиным и с наиболее частым соавтором, и добрым товарищем В.А. Якубского, С.М. Стецкевичем, напечатанную в воронежском сборнике «Вопросы истории славян» [Кутявин и др. 1980]. В этой статье авторы коснулись вопросов, связанных с польскими восстаниями и в значительной мере до сих пор остающихся дискуссионными. Обычно принято говорить о трех великих польских национальных восстаниях, подразумевая восстание Тадеуша Костюшки (1794), Ноябрьское восстание (1830) и Январское восстание (1863). В настоящее время в польской историографии нет единого мнения по поводу того, правомерно ли считать Барскую конфедерацию (1768–1772) первым национальным восстанием, хотя, казалось бы, все признаки налицо. Что касается статьи советских историков сорокалетней давности, то в ней речь шла о тех же трех восстаниях, но с добавлением восстаний 1846 и 1848 г. Обращает на себя внимание, что при сравнении восстаний 1794 г. и 1830 г. авторы подчеркивали имевшиеся между ними различия стадиального характера. С другой стороны, они настаивали на очевидной преемственности между повстанческими событиями 1830–1831 гг. и 1846–1848 гг.
При этом ленинградские ученые настаивали на том, что если первые два восстания (1794 г. и 1830 г.) следует отнести к типу не трансформационных революций, а национальных, преследующих цель только восстановление национальной независимости, то Краковское восстание 1846 г. ознаменовало собой завершение этапа сугубо национальной польской революционности (тем самым высвечивая специфику Январского восстания). В этом смысле авторы склонны были солидаризироваться с Иоахимом Лелевелем (1786–1861), в свое время назвавшим Краковское восстание «первой социальной революцией, которая открыто появилась на польском горизонте» [Там же, 76–77]. На современном этапе термин революция свою былую актуальность, в основном, утратил, но сути дела это особенно не меняет. Недаром с определением места Барской конфедерации в польской историографии возникли трудности, в чем убеждает хотя бы тот факт, что в самом начале XXI в. признанные знатоки истории польских восстаний по-прежнему поместили под одну обложку лишь три знаменитых польских национальных восстания [Kieniewicz, Zahorski, Zajewski 2000], разумеется, предпочитая обходиться без термина «революция»…
Отдельно надо сказать, что В.А. Якубский не раз входил в авторские коллективы по подготовке крупных академических проектов, что, помимо прочего, служило свидетельством неразрывных научных связей, продуктивного сотрудничества, московских и ленинградских историков. Так, перу Якубского принадлежали главы, посвященные крестьянству Польши и Чехии в XII–XIV вв. (в соавторстве с Л.В. Разумовской) и крестьянству Чехии и Польши в XV в., во втором томе капитального труда «История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма» [Разумовская, Якубский 1986; Якубский 1986a]. Также им были написаны аналитические главы для третьего тома этого труда («Основные проблемы истории крестьянства Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы» и «Польское крестьянство в XVI – середине XIX в.») [Якубский 1986b; 1986c]. Помимо этого, В.А. Якубский был среди авторов фундаментального академического проекта «История Европы» (в восьми томах), подготовив для третьего тома этого издания раздел «Австрия, Чехия, Польша» [Якубский 1993a]. Историк, в частности, отметил безусловное сходство социально-экономического развития в австрийских и чешских землях, заодно подчеркнув и обосновав своеобразие польского варианта второго издания крепостничества, ставшего следствием ослабления центральной власти наряду с ростом дворянских привилегий [Там же, 111].
В 1993 г. в серии «История стран Центральной и Юго-Восточной Европы», издававшейся под эгидой Академии наук, вышла очередная книга: «Краткая история Польши. С древнейших времен до наших дней». Первые три главы, от Средних веков и раннего Нового времени до 1764 г., – «Формирование и развитие феодального общества (до середины XV в.)», «Польша в конце XV и в XVI в.», «Кризис Речи Посполитой», были написаны В.А. Якубским [Якубский 1993b]. На страницах «Краткой истории…» в полной мере проявила себя характерная для В.А. Якубского манера ясно и четко (и по-своему увлекательно) излагать эмоционально трудный для польского национального сознания материал. Историк был отнюдь не склонен закрывать глаза на заблуждения, а то и ошибки поляков, но и о политике соседних стран, меньше всего отвечавшей интересам пребывавшей в состоянии кризиса и занятой поисками выхода из него Речи Посполитой, говорил открыто, что вместе взятое было по достоинству оценено его польскими коллегами.
Первые годы XXI в. ознаменовались переменами как в судьбе профессора кафедры истории Средних веков В.А. Якубского, так и в судьбах ленинградской/петербургской славистики, которая по причинам объективного и субъективного характера на исходе ХХ в. переживала не лучшие времена.
В 2002 г. по инициативе А.Ю. Дворниченко на историческом факультете СПбГУ была открыта славянская кафедра, идея которой возникла, как уже упоминалось выше, давно. Отличие кафедры истории славянских и балканских стран СПбГУ от славяноведческой кафедры исторического факультета Московского университета было не столько в ее названии, сколько в избранном подходе к изучению истории славянских народов как составной части определенных регионов.
Следует сказать, что по формальным требованиям, предъявляемым к инициативам такого рода, новую кафедру можно было открыть лишь при условии, если два профессора факультета выразят согласие перейти в новое структурное подразделение: одним таким профессором был А.Ю. Дворниченко, другим стал В.А. Якубский. Владимиру Александровичу это согласие далось нелегко: он уходил с родной для него кафедры истории Средних веков, где, так сказать, в западноевропейском и византинистском окружении, в атмосфере творчества и доброжелательности прошли лучшие годы (полвека!) его научной и научно-педагогической деятельности (1952–2002 гг.). После кончины С.М. Стецкевича Владимир Александрович оставался на факультете единственным действующим сотрудником из прежнего состава межкафедрального славянского сектора…
Сначала кафедру славянских и балканских стран возглавил инициатор ее создания А.Ю. Дворниченко, затем функции заведующего перешли к В.П. Денисенко (1953–2006), недолгий период руководства которого, как справедливо констатировал Владимир Александрович, «остался в памяти его коллег, как время спокойной, конструктивной работы» [Якубский 2011, 105]. После безвременной кончины Владимира Павловича кафедра вступила в новый период своей истории…
Заведующей кафедрой истории Средних веков СПбГУ тогда оставалась (1990–2015 гг.) профессор Галина Евгеньевна Лебедева (1935–2021), известный советский и российский византинист, плодотворное сотрудничество с которой украсило последние годы творческой жизни Владимира Александровича Якубского.
Так замкнулся круг. Настал черед (условно) третьего исследовательского направления В.А. Якубского. Полвека на медиевистической кафедре должны были быть запечатлены, благодарность предшественникам была обязана принять четкие формы. Закипела кропотливая работа. Опираясь на архивные разыскания, а порой и на собственные воспоминания, Галина Евгеньевна и Владимир Александрович кирпичик за кирпичиком воздвигали памятник своей кафедре: на протяжении нескольких лет (2001–2008 гг.) выходил цикл написанных в соавторстве статей, посвященный блестящей плеяде ленинградских медиевистов 1930–1950 гг. Когда работа в основном завершилась, было решено собрать все статьи под одну обложку: так в 2008 г. появилась монография18 [Лебедева, Якубский 2008], во вступительной части которой авторы говорили о традициях [Там же, 4–20]. Поскольку традиции служили им опорой, Г.Е. Лебедева и В.А. Якубский сочли нужным подчеркнуть, что «возрожденная в 1934 г. кафедра с первых своих шагов и по сей день в педагогической и научной работе опирается на опыт предшественников» [Там же, 5]. Ни Владимир Александрович, ни Галина Евгеньевна («Галечка», как дружески величал ее Владимир Александрович) не мыслили себя без почитания традиций и своих предшественников.
Владимир Александрович мемуаров не писал, на вопрос «Почему?», отвечал иронично и спокойно: «Боюсь не то вспомнить»; никаких распоряжений насчет своего архива не оставил, такое впечатление, что его это не заботило.
Остался неподражаемый стиль его письма (доступный для изучения), избранным счастливцам остались воспоминания о его неповторимой манере вести беседу, о редкой способности ненавязчиво увлекать собеседника в дальние дали (знак доверия). Владимир Александрович был настоящим Историком и настоящим Учителем – для тех, кто желал учиться, а таких на просторах нашей необъятной родины (и за ее пределами) нашлось немало.
Низкий поклон Учителю, своими трудами вписавшему славную страницу в летопись отечественной исторической полонистики.
1 Как четко было зафиксировано в наградных листах при описании боевых подвигов, гвардии красноармеец В.А. Якубский достоин правительственной награды – «за проявленную решительность», «за отважные и решительные действия», «за исключительную храбрость и самоотверженность», «за умело организованные действия в ходе выполнения полученного задания», «за мужество и героизм»…
2 URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_predstavlenie46955878/
3 Об истории и традициях довоенной медиевистической кафедры Ленинградского (Петербургского) университета см. подробнее очерк О.Л. Вайнштейна, составленный в 1939 или 1940 гг., в бытность его зав. кафедрой (1935–1951 гг.): [Вайнштейн 2010].
4 В Российской национальной библиотеке, и в «Материалах для биобиблиографического словаря – Писательницы России» (сост. Ю.А. Горбунов), О.Е. Иванова указана как историк-методист.
Следует добавить, что О.Е. Иванова, специалист по аграрной истории Польши, трудилась на истфаке ЛГУ с 1936 г., на кафедре истории Средних веков, как явствует из формуляра штатного профессорско-преподавательского состава ЛГУ, с 1944 г. в должности доцента, кандидатская диссертация была ею защищена в 1943 г., когда университет находился в эвакуации в Саратове.
5 См. подробнее: [Лебедева 2004, 210].
6 Не было это сделано и позднее, несмотря на то что, по предписанию августовского 1941 г. постановления Ученого совета ЛГУ, такая кафедра должна была быть открыта.
7 Так, в биобиблиографическом справочнике «Сотрудники Института славяноведения РАН» сказано, что после закрытия Института славяноведения в Ленинграде У.А. Шустер с 1937 г. работал в ЛОИИ, не уточняя, что с 1938 г. – в секторе славяноведения ЛОИИ. Также не отмечен факт работы в довоенный период в секторе славяноведения ЛОИИ и Л.В. Разумовской, лишь указано, что в 1951–1967 гг. она являлась снс ленинградской группы Института славяноведения АН СССР [Сотрудники 2012, 510, 353].
8 Известно, что в секторе трудились историки-полонисты М.В. Джервис (Бродский) (1899–1942?) (см. [Ганелин 2006]) и У.А. Шустер (1907–1997) – бывшие сотрудники ленинградского Института славяноведения (научный руководитель и его бывший аспирант), их коллегой по сектору была и Л.В. Разумовская (1897–1969), работавшая в ЛОИИ с 1936 г.
9 С 1950 г. под руководством Н.С. Державина действовала ленинградская группа Института славяноведения, среди сотрудников которой были, в частности, полонисты Л.А. Разумовская и У.А. Шустер.
10 О дискуссиях, которые этот капитальный для своего времени обобщающий труд по истории Польши вызвал в польской и советской историографии, см. подробнее: [Носов, Марней 2021].
11 Как вспоминал В.А. Якубский, в разгар «борьбы с космополитизмом», О.Л. Вайнштейн был уволен из университета [Якубский 2011, 203].
12 На волне борьбы с космополитизмом жесточайшей критике была подвергнута книга зав. кафедрой О.Л. Вайнштейна «Историография Средних веков в связи с развитием исторической мысли от начала Средних веков до наших дней» (Л., 1940). Об этом подробнее см. [Лебедева, Якубский 2005, 104–105].
13 В.А. Якубским были подготовлены разделы по западнославянским фондам [Путеводитель по Архиву 1958, 313–314, 379–382, 490–497].
14 Спустя лет десять В.А. Якубский и С.М. Стецкевич сочли нужным откликнуться на выступление харьковских историков и высказать свое мнение о проблемах преподавания истории славян в высшей школе. См. подробнее: [Стецкевич, Якубский 1969]. Впоследствии именно С.М. Стецкевич (1921–1994) – добрый приятель и единомышленник, чаще всего становился соавтором В.А. Якубского.
15 В юбилейных статьях не раз было отмечено, что первое же выступление В.А. Якубского с докладом на межреспубликанском симпозиуме по аграрной истории Восточной Европы в 1959 г. («Некоторые вопросы истории городского землевладения в Польше XIV–XVII вв.») стало во многом показательным – с точки зрения характерной для него исследовательской манеры. См. подробнее: [Воробьева и др. 2005, 6].
16 Попутно отмечу, что впечатляющих успехов в подобных изысканиях удалось достичь Ежи Топольскому, который в результате тщательной многолетней обработки податных реестров пришел к выводу, что удельный вес шляхетского сословия в общей численности населения Польши не превышал 6 %, тем самым опровергнув показатель в 10 %, давно вошедший в научный оборот. Однако по сей день, даже в специальной литературе, по-прежнему преобладает неверный показатель. Не исключено, что распространенность (по-своему популярность) этого показателя можно объяснить тем, что, как в свое время констатировал Якубский, «польская действительность […] не знала той резкой грани между дворянством и плебейством, которая декларировалась правовой теорией» [Якубский 1975а, 98].
17 Эти наблюдения В.А. Якубского отчасти перекликались с основными идеями Варшавской (оптимистической) исторической школы и одного из видных ее представителей Тадеуша Корзона (1839–1918).
18 Которая, по словам Н.А. Хачатурян, стала одной из «редких еще попыток объективной оценки советской медиевистики и марксизма как исторической методологии»: [Хачатурян 2009, 197].
Об авторах
Лариса Михайловна Аржакова
Институт славяноведения Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: l.arzhakova@inslav.ru
ORCID iD: 0000-0002-8260-4101
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
Россия, МоскваСписок литературы
- Аксенова Е.П. «Изгнанное из стен Академии» (Н.С. Державин и академическое славяноведение в 30-е годы) // Советское славяноведение. 1990. № 5. С. 69–71.
- Аксенова Е.П. Очерки из истории отечественного славяноведения. 1930-е годы. М.: Институт славяноведения РАН, 2000. 222 с.
- Аржакова Л.М. Кафедра истории славянских и балканских стран // Исторический факультет Санкт-Петербургского университета. 1934–2004. Очерк истории / отв. ред. А.Ю. Дворниченко. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2004. С. 262–277.
- Белановский В.Н., Иванова О.Е., Ивашкевич В.И., Чеканова Г.П., Стецкевич С.М., Якубский В.А. Очерки истории южных и западных славян / под ред. С.М. Стецкевича. Л.: Учпедгиз. Ленинград. отд., 1957. 272 с.
- Библиографический указатель трудов Владимира Александровича Якубского // Петербургские славянские и балканские исследования / Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2008. № 2 (4). С. 196–204.
- Вайнштейн О.Л. Кафедра истории средних веков // Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени. 2010. Вып. 8. С. 365–377.
- Воробьева И.Г., Дворниченко А.Ю., Лебедева Г.Е. К 80-летию профессора В.А. Якубского // Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени. СПб.: Алетейя, 2005. Вып. 5. С. 5–14.
- Ганелин Р.Ш. М.В. Джервис (Бродский) – сотрудник ЛОИИ // Отечественная история и историческая мысль в России XIX–ХХ веков: сб. статей к 75-летию Алексея Николаевича Цамутали. СПб.: Нестор, 2006. С. 534–538.
- Досталь М.Ю. Как Феникс из пепла… Отечественное славяноведение в период Второй мировой войны и первые послевоенные годы. М.: Индрик, 2009. 464 с.
- Досталь М.Ю. Основные особенности этапа возрождения отечественного славяноведения в 1940-е годы // Вестник РГГУ. Серия. Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2012. № 9 (89). С. 270–281.
- Иванова О.Е., Якубский В.А. Изучение истории Византии и Причерноморья в Польской Народной Республике // Византийский временник. 1956. Т. II. С. 302–307.
- Иванова О.Е., Якубский В.А. Табор: Книга для чтения в VI классе. Л.: Учпедгиз. Ленинград. отд., 1960. 144 с.
- Иванова З.Е., Якубский В.А. Проблемы социальной борьбы в Польше XVI в. в освещении русской дореволюционной полонистики // Проблемы социальной структуры и идеологии средневекового общества. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. С. 146–155.
- Кутявин В.В., Стецкевич С.М., Якубский В.А. О проблемах национальной революции в Польше конца XVIII – первой трети XIX вв. // Вопросы истории славян. Воронеж, 1980. Вып. 6. С. 60–77.
- Лебедева Г.Е. Кафедра истории Средних веков // Исторический факультет Санкт-Петербургского университета. 1934–2004. Очерк истории. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2004. С. 199–230.
- Лебедева Г.Е., Якубский В.А. Профессор О.Л. Вайнштейн в годы борьбы с космополитизмом // Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени. СПб.: Алетейя, 2005. Вып. 5. С. 102–126.
- Лебедева Г.Е., Якубский В.А. Cathedra Medii Aevi: Материалы к истории ленинградской медиевистики 1930 – 1950-х годов. СПб: Изд-во СПбГУ, 2008. 125 с.
- Легуров Э.И., Стецкевич С.М., Якубский В.А. Основные принципы построения курса истории социалистических славянских и балканских стран // Вестник ЛГУ. 1974. Вып. 3. № 14. 147–150.
- Маркарянц Л.А., Якубский В.А. Внедрение количественных методов в разработку аграрной истории барщинно-крепостнической Польши // Вопросы истории славян. Воронеж, 1972. С. 20–26.
- Мыльников А.С., Якубский В.А. Процесс разложения дворянства и его социальные последствия // Социальная структура общества в XIX в. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы. М.: Наука, 1982. С. 311–325.
- Носов Б.В., Марней Л.П. Проблемы истории Польши и России в первой половине XIX в. в методологических дискуссиях советских и польских историков второй половины 1950-х гг. (Из истории Института славяноведения РАН) // Славянский альманах. 2021. № 3–4. С. 407–440.
- Путеводитель по Архиву Ленинградского отделения Института истории / отв. ред. А.И. Андреев. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958.
- Разумовская Л.В., Якубский В.А. Крестьянство Польши и Чехии в XII–XIV вв. // История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма. В 3 т. М.: Наука, 1986. Т. 2. Крестьянство Европы в период развитого феодализма. С. 185–200.
- Робинсон М.А. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 – начало 1930-х годов). М.: Индрик, 2004. 432 с.
- Сотрудники Института славяноведения Российской Академии наук. Биобиблиографический словарь. М.: Индрик, 2012. 527 с.
- Стецкевич С.М., Якубский В.А. К вопросу о преподавании истории славян в высшей школе // Советское славяноведение. 1969. № 2. С. 49–53.
- Стецкевич С.М., Якубский В.А. Фридрих Энгельс о внутренних причинах гибели Речи Посполитой // Центральная и Юго-Восточная Европа в Новое время. М.: Наука, 1974. С. 218–231.
- Стецкевич С.М., Якубский В.А. Становление и развитие советской исторической полонистики // Исследования по историографии славяноведения и балканистики. М.: Наука, 1981а. С. 22–54.
- Стецкевич С.М., Якубский В.А. Экономические аспекты формирования наций // Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М.: Наука, 1981b. С. 16–28.
- Хачатурян Н.А., Лебедева Г.Е., Якубский В.А. Cathedra Medii Aevi: Материалы к истории ленинградской медиевистики 1930–1950-х годов. СПб: Изд-во СПбГУ, 2008 // Средние века. 2009. Т. 70 (3). С. 196–199.
- Шаферова Л.А., Якубский В.А. Южные славяне в XII–XV вв. // История средних веков: Учебно-методическое пособие. М., 1982. С. 93–96.
- Якубский В.А. Споры вокруг соотношения внутреннего и внешнего рынка фольварочной Польши и некоторые вопросы моделирования // Тезисы докладов и сообщений Девятой (Таллинской) сессии Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Таллин, 1966. С. 138–140.
- Якубский В.А. Республиканские и монархические тенденции в Речи Посполитой накануне ее падения // Развитие капитализма и национальное движение в славянских странах. М.: Наука, 1970. С. 253–271.
- Якубский В.А. Податные реестры XVI в. и реконструкция зернового баланса фольварочной Польши // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. Таллин, 1971. С. 66–76.
- Якубский В.А. Количественные методы и аграрная история барщинно-крепостнической Польши // Количественные методы в исторических исследованиях. М.: Наука, 1972. С. 216–224.
- Якубский В.А. К вопросу о причинах развития фольварочной системы в Польше // Средневековый город. Саратов, 1974. Вып. 2. С. 192–204.
- Якубский В.А. Проблемы аграрной истории позднесредневековой Польши. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1975а. 118 с.
- Якубский В.А. Проблемы аграрной истории Польши XVI–XVII вв. Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Л., 1975b.
- Якубский В.А. Польша XI–XV вв. // История Средних веков: Учебно-методическое пособие. М., 1982. С. 84–87.
- Якубский В.А. Крестьянство Чехии и Польши в XV в. // История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма. В 3 т. М.: Наука, 1986a. Т. 2. Крестьянство Европы в период развитого феодализма. С. 382–398.
- Якубский В.А. Основные проблемы истории крестьянства Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы // История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма. В 3 т. М.: Наука, 1986b. Т. 3. Крестьянство Европы в период разложения феодализма и зарождения капиталистических отношений. С. 234–247.
- Якубский В.А. Польское крестьянство в XVI–середине XIX в. // История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма. В 3 т. М.: Наука, 1986c. Т. 3. Крестьянство Европы в период разложения феодализма и зарождения капиталистических отношений. С. 248–272.
- Якубский В.А. Польша (Темы VI–VIII) // Хрестоматия по истории южных и западных славян. Минск: Изд-во «Университетское», 1987а. Т. 1. С. 231–246.
- Якубский В.А. Сарматизм: функция генетического мифа в дворянской Речи Посполитой // Проблемы социальной истории и культуры средних веков и раннего нового времени. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1987b. С. 169–181.
- Якубский В.А. Австрия, Чехия, Польша // История Европы. В 8 т. М.: Наука, 1993а. Т. 3. С. 108–114.
- Якубский В.А. Формирование и развитие феодального общества (до середины XVв.) // Краткая история Польши: с древнейших времен до наших дней. М.: Наука, 1993b. С. 5–84.
- Якубский В.А. Историографический процесс XVIII–XIX вв. и его моделирование в отечественной литературе // Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. С. 3–15.
- Якубский В.А. Фундаментальные идеи российской полонистики XIX в. // Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени. СПб: Изд-во СПбГУ, 2000. Вып. 2. С. 3–15.
- Якубский В.А. «Польское бескоролевье» А.С. Трачевского и его историографический контекст // Проблемы социальной истории и культуры средних веков и раннего нового времени. СПб: Изд-во СПбГУ, 2001. Вып. 3. С. 146–164.
- Якубский В.А. К десятилетию кафедры истории славянских и балканских стран исторического факультета СПбГУ // Петербургские славянские и балканские исследования / Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2011. № 2 (10). С. 201–206.
- Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski A. Trzy powstania narodowe. Warszawa: Książka i Wiedza, 2000. 429 s.
- Wyczański A. [recenzja]: Probliemy agrarnoj istorii pozdniesreniewiekowoj Polszi, W.A. Jakubski, Leningrad 1975 // Przegląd Historyczny. 1976. Т. 67. Zesz. 1. S. 124–128.