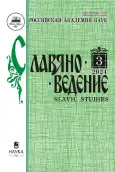Serbian-Albanian conflict 1913–1914: perception in the Russian press
- Authors: Medovarov M.V.1
-
Affiliations:
- Lobachevsky State University
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 30-43
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/262793
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24030038
- EDN: https://elibrary.ru/WZFLQP
- ID: 262793
Full Text
Abstract
The article examines the Russian monthly and weekly periodicals’ perception of the fighting between Serbia and Albania between the end of the Second Balkan War (August 1913) and the beginning of the First World War (July 1914). These military clashes, known to contemporaries as the undeclared “Third Balkan War”, caused diplomatic complications and in November 1913 could have led to the outbreak of a major war in Europe. Throughout a year, the great powers with difficulty extinguished the conflict, that became the result of peace treaties imposed by them to the Balkan countries. In the paper, for the first time, the reaction of the Russian reviewers towards the Albanian crisis of 1913–1914 and the military operations in the region, the degree of awareness of the reading public in Russia about the situation in Albania and around it are examined. On the example of Pan-Slavist newspapers “Slavyanskie Izvestia” and “Dym Otechectva”, the liberal magazines “Vestnik Evropy”, “Ogonek”, “Russkoe Bogatstvo” and “Russkaya Mysl’” as well as opinions of Russian travelers, the growing awareness of Russian public about Albania and Albanians is shown.
Full Text
Период с момента подписания Бухарестского мира 28 июля (10 августа) 1913 г. и до нападения Австро-Венгрии на Сербию 14 (28) июля 1914 г. был наполнен масштабными военными столкновениями на сербо-албанской, греко-албанской, греко-болгарской, греко-турецкой границах, а также внутренними албанскими конфликтами. Одним из узловых событий данного периода стало вторжение албанцев (поощряемых Австро-Венгрией) на новые территории Сербии, ответный сербский рейд вглубь Албании и принятие Белградом австро-германского ультиматума о выводе войск (сентябрь – октябрь 1913 г.), а также албанское восстание в Косово (март 1914 г.).
Интерес общественности Российской империи к албанскому вопросу непрерывно рос с 1908 по 1913 г. По словам Н. С. Гусева, во время Первой Балканской войны русское образованное общество имело смутное представление об Албании [Гусев 2020, 240], хотя уже с 1908 г. в периодической печати появился ряд статей на эту тему. В 1912 г. правая и центристская пресса поддерживала сербские и черногорские притязания на север албанских земель, в то время как кадеты и социал-демократы пытались высказаться в защиту албанской самостоятельности. К осени 1913 г. и тем более к весне – лету 1914 г. ситуация стала меняться: осведомленность русского общества об албанских делах заметно выросла, а суждения о политическом будущем Албании стали более реалистичными.
Историография сербо-албанского конфликта осени 1913 – весны 1914 гг. отличается фрагментарностью. Генерал Н. Г. Корсун интерпретировал эти сражения как «налеты по указке австро-венгерского командования» [Корсун 1939, 14]. Историк дипломатии Ю. А. Писарев считал данные события кульминацией балканского кризиса и подчеркивал, что «восстание» албанцев было инспирировано Австрией и Италией [Писарев 1985, 205–206]. Сербский историк Д. Батакович воспринимал данные события как «крупный албанский рейд на сербскую территорию» при «логистической поддержке Австро-Венгрии и офицеров-младотурок» [Батакович 2014, 92]. Албанисты Г. Л. Арш и Н. Д. Смирнова назвали сербо-албанскую пограничную войну «восстанием» албанцев, возлагая всю ответственность за нее на великие державы, не проведшие демаркацию границ после двух Балканских войн [Арш 2002, С. 47–52; Краткая история 1992, 250; Смирнова 2003, 60–61].
По мнению О. И. Агансон, «на момент осени 1913 – лета 1914 г. Албания в силу несформировавшейся государственности, пестроты населения, а также неурегулированности вопроса о границах […] была одним из главных дестабилизирующих факторов на Балканах» [Агансон 2014, 29], что было на руку Австро-Венгрии и вело к «Третьей Балканской войне», под которой исследовательница понимала Первую мировую [Там же, 31].
Из российских историков наибольшее внимание теме сербо-албанских конфликтов 1913–1914 гг. уделил П. А. Искендеров, сделавший акцент на участии в них офицеров соседних стран и характеризовавший данные столкновения как полноценную войну [Искендеров 2013, 132–158, 161–173]. Среди привлеченных им источников были донесения русских дипломатов, не ставшие в ту пору достоянием общественности [Там же, 125–128], а также сербская и черногорская пресса. Историк осветил дипломатическую сторону вопроса, позиции различных албанских лидеров, а также разногласия в российском и сербском обществе по отношению к албанским событиям [Искендеров 2003b, 521–523; Искендеров 2008а, 33–36; Искендеров 2013, 163–180, 216–269, 296–297; Искендеров 2009, 170–188]. Не был обойден стороной и вопрос демаркации границ между балканскими странами [Искендеров 2003b, 509–514; Искендеров 2006, 444–445; Искендеров 2008a, 28; Искендеров 2008b, 51].
Существует немало исследований о реакции русских общественных деятелей и журналистов, формировавших и отражавших мнение определенных столичных слоев населения в России, на Первую и (реже) Вторую Балканские войны [Гусев 2020, 50–87], причем приоритетное внимание их авторы уделяли македонскому вопросу и формированию враждебного образа австрийской политики [Котов 2015; Котов 2019; Мороз 2004]. Следует выделить фундаментальные монографии Е. Г. Костриковой и Н. С. Гусева [Кострикова 2017; Гусев 2020]. На примере публикаций о Первой Балканской войне Е. Г. Кострикова показала типичную структуру подачи внешнеполитической информации в российских газетах: передовицы, аналитические статьи, разделы зарубежных известий, телеграммы [Кострикова 1991]. Такая структура присуща и рассматриваемым в данной статье изданиям, с оговоркой, что отдельной регулярной рубрики бесед с дипломатами в них не было, а военные обзоры после Бухарестского мира стали эпизодичными. «Славянские известия» и «Дым Отечества» имели собственных корреспондентов на Балканах, получали от них статьи, но не срочные телеграммы. Е. Г. Кострикова и Н. С. Гусев осветили непростые условия работы русских журналистов на фронте в период Первой Балканской войны, когда военная цензура делала невозможным получение и передачу в Россию достоверных известий [Гусев 2020, 171–189; Кострикова 2017, 239–253].
Период с августа 1913 по июль 1914 г. остался за рамками данных монографий. Историки предпочитают исследовать реакцию России на миссию Лимана фон Сандерса и русско-немецкую «газетную» войну февраля 1914 г. [Кострикова 2017, 312–323]. К редким исключениям в историографии можно отнести статью Г. Л. Арша [Арш 2014, 285–287], который отметил исключительность албанских очерков корреспондента кадетской «Речи» В. В. Викторова-Топорова, в ноябре – декабре 1913 г. побывавшего в Албании, взявшего интервью у Исмаила-паши Кемали и Эссада-паши Топтани и давшего взвешенные и обдуманные оценки социальным проблемам и перспективам молодого государства1. Первый системный опыт анализа реакции на информацию о сербо-албанской войне и политической борьбе вокруг Албании в российской прессе предпринял на материале 53 публикаций из десяти ежедневных газет Б. С. Котов, отдельно уделив внимание шести статьям газет «Русские ведомости», «Речь», «Новое время», «Московские ведомости», «Земщина» и «Русское знамя», посвященным сербо-албанской войне и роли Австро-Венгрии в ней [Котов 2022, 437–440].
П. А. Искендеров упомянул реакцию русских социал-демократов на строительство независимой Албании, но основное внимание уделил жесткой позиции русского посланника в Белграде Н. Г. Гартвига в декабре 1913 – январе 1914 г., выступавшего против ее государственности [Искендеров 2014, 252– 253; Искендеров 2013, 300–301]. Как отметил Н. С. Гусев, трансляция взглядов посланника способствовала обострению международного кризиса и подрыву осторожного курса С. Д. Сазонова [Гусев 2020, 195–205, 320–322]. Почти вся русская печать, по мнению П. А. Искендерова, «в основном выражала сомнения относительно способности Албании играть стабилизирующую роль на Балканах и в целом поддерживала территориальные претензии сербского кабинета» [Искендеров 2014, 251]. Историк отметил, что русские дипломаты скрывали от общественности полную информацию о сербских репрессиях в отношении албанцев [Искендеров 2008а, 56]. С другой стороны, он констатировал крайнюю агрессивность немецких и австро-венгерских газет, в сентябре 1913 г. угрожавших Сербии войной [Искендеров 2014, 254–255]. 19 ноября 1913 г. министр иностранных дел Габсбургской монархии Л. Берхтольд назвал ключевой целью австрийской политики на Балканах сохранение «автономной» или «самостоятельной» Албании (включая Шкодер), очищенной от иностранных войск [Искендеров 2014, 256].
Таким образом, специальных работ о реакции русской общественности относительно балканского конфликта осени 1913 – лета 1914 гг., за исключением вышеупомянутой статьи Б. С. Котова, вышедшей в 2022 г., практически нет. Между тем именно события последнего года перед началом Первой мировой войны подготовили русское общество к пониманию неизбежности полномасштабного вооруженного конфликта в Европе, придали ему решимость. Говоря о связанности министра иностранных дел С. Д. Сазонова воинственностью русской общественности, Е. Г. Кострикова отметила: «Именно в период Балканских войн часть русского общества преодолела страх перед военным столкновением. […] Общественное мнение постепенно готовилось к предстоящим испытаниям. Позднее это проявилось в момент начала мировой войны» [Кострикова 2011, 51]. Именно в 1912–1913 гг. русское общественное мнение начало небезуспешно «оказывать давление на собственное правительство» [Гусев 2020, 13]. Иностранный свидетель, пораженный степенью враждебности российской прессы к Министерству иностранных дел в ходе Балканских войн, признал «существование действительно сильного общественного мнения в России, более сильного, чем можно было ожидать» [Мороз 2004, 74]. Конечно, отождествлять общественное мнение с позицией нескольких журналов достаточно узкого политического сегмента было бы явным преувеличением [Гусев, Котов 2022, 48]. Однако в силу звучавших в них из уст именитых публицистов оценок и влияния этих изданий на столичную публику вопрос о реакции российской периодической печати на боевые действия и конфликты на Балканах с августа 1913 по июль 1914 г. представляет особый интерес.
В России с середины 1913 г. стали меньше, чем годом ранее, проводить публичных чтений, «славянских» демонстраций, постепенно происходила рутинизация балканской проблематики: она стала более привычной для публики, чем в Первую Балканскую войну. Ввиду этого для исследователей оправдано сосредоточение внимания на прессе периода осени 1913 – весны 1914 г., хотя следует учесть, что с лета 1913 г. русские журналисты стали реже выезжать в районы боевых действий, тем более в Албанию, где еще не было российских консульств.
Поставленная задача в идеале требует рассмотрения новостного материала во всех крупных газетах и журналах любой идейной и партийной направленности. Однако сплошное изучение десятков ежедневных газет за почти целый год потребовало бы создания монографии или хрестоматии наподобие недавно изданного сборника «Балканская распря» с газетными статьями периода Второй Балканской войны2. В формате статьи представляется целесообразным ограничиться анализом репрезентативных ежемесячных, двухнедельных и еженедельных изданий. Ситуацию облегчает то, что начало изучения позиции либеральной «Речи» и левой «Правды», а также русских дипломатов по отношению к албанскому кризису конца 1913 г. уже было положено историками П. А. Искендеровым и Г. Л. Аршем.
Данная работа основана прежде всего на анализе двух еженедельников панславистской направленности: официального органа Санкт-Петербургского Славянского благотворительного общества «Славянские известия» под редакцией В. Н. Кораблева и «Дыма Отечества» А. Л. Гарязина. Ранее их отклики на балканские события не рассматривались историками, за исключением одного эпизода [Кострикова 2017, 309–312]. По внутриполитическим вопросам эти издания занимали позицию поддержки парламентаризма и защиты гражданских прав и свобод, а их расхождение с рассматриваемыми ниже либеральными изданиями было связано с «всеславянской» культурной и внешнеполитической ориентацией у первых и «западнической» у вторых. Однако и те, и другие органы печати противостояли правоконсервативным, монархическим «Гражданину», «Русскому знамени», «Земщине», которые в 1912–1914 гг. всё более склонялись к прогерманской ориентации и критике славянских государств.
Также было необходимо обратиться к трем самым массовым «толстым» либеральным журналам России: классическому «Вестнику Европы» под редакцией К. К. Арсеньева, находившемуся на идейном стыке народничества и левого либерализма «Русскому богатству» В. Г. Короленко, а также «Русской мысли», под руководством П. Б. Струве придерживавшейся идей правого либерализма и политики экспансии на Балканах. Наконец, еще одним источником по данной теме стал популярный иллюстрированный еженедельник «Огонек», в 1912–1914 гг. сочетавший либеральные и даже отчасти левые симпатии с последовательным панславизмом.
При анализе этих еженедельных и ежемесячных изданий за период с августа 1913 по июль 1914 г. всего было выявлено 44 печатных материала на тему балканских конфликтов данного периода в «Дыме Отечества», 24 – в «Славянских известиях», 24 – в «Огоньке», десять – в «Вестнике Европы», четыре – в «Русской мысли», два – в «Русском богатстве». Однако собственно сербо-албанской войне «Вестник Европы» и «Славянские известия» посвятили лишь по девять публикаций, «Дым Отечества» – семь, «Огонек» – три, что существенно ниже их интереса к внутриалбанским междоусобицам.
В качестве восприятия в России необъявленной «Третьей Балканской войны» были изучены также записки двух журналистов-путешественников, побывавших в сербских и албанских землях. Во-первых, это публицист и этнограф А. А. Башмаков, после Бухарестского мира 1913 г. выпустивший свою книгу с новым предисловием. Во-вторых, ‒ словенец Янко Лаврин, который в качестве российского журналиста взял интервью у Эссада-паши Топтани в конце 1913 г., что сравнимо только с успехом В. В. Викторова-Топорова из «Речи».
Переиздавая путевые очерки летом 1913 г., вынужденный уйти из «Правительственного вестника» А. А. Башмаков прямо требовал сокрушить Австро-Венгрию. Едва не лишившийся жизни в разбойничьих засадах в Северной Албании в 1908 г., он был в ярости от того, что этот край не достался Сербии3. Первое издание очерков Башмакова в книжном формате сделало немало для формирования в России представлений об Албании и Косово как кровавом, криминальном крае, хотя в книге присутствовал ряд положительных образов албанцев. Янко Лаврин стал первым свидетелем сербо-албанской войны из России [Чепелевская 2011, 74]. Исследователи оценили его записки как глубокие и вдумчивые [Чепелевская 2014, 194], хотя благодаря им в русском общественном мнении укрепилось представление о крае как оплоте грязи, убожества, разбоя и фанатизма («в Албании человек привыкает к кошмарам всех калибров»4). Впрочем, у Лаврина присутствуют достаточно многочисленные положительные образы албанцев, одобряется их примирение с сербами5. Даже воевавший против сербов в 1913 г. Иса Болетини характеризовался как «любезный» к монахам6. Во время следующей поездки Лаврина в Сербию, Албанию и Черногорию в 1915 г. сербы в разговорах с ним называли сражения с албанцами осени 1913 – весны 1914 гг. частью одной войны, начавшейся «с Первой Балканской и закончившейся Первой мировой»7.
Естественным было повышенное внимание к сербо-албанским столкновениям со стороны старейшего печатного органа Славянского благотворительного общества. «Славянские известия» выходили еженедельно на протяжении 1913 г. и два раза в месяц в первом полугодии 1914 г. Ориентация этой газеты была скорее проболгарской, хотя после Второй Балканской войны критике подвергалось и болгарское правительство. По албанскому вопросу «Славянские известия» стояли в целом на просербских позициях, хотя внимание к данной теме проявляли нерегулярно. Сразу по завершении Второй Балканской войны редактор В. Н. Кораблев назвал Албанию барьером для будущего развития Сербии и Черногории8.
Еженедельник «Дым Отечества» также симпатизировал болгарам, выступая против сербов и греков. Редакция в лице А. Л. Гарязина в оценке балканских событий солидаризировалась с «Славянскими известиями» и «Новым звеном»9. Однако «Дым Отечества» широко освещал любые вопросы внутренней и внешней политики, среди которых славянские и тем более албанские темы занимали не столь большое место, как в узкоспециализированных «Славянских известиях».
В сентябре – октябре 1913 г. панславистская пресса характеризовала сербо-албанскую войну преимущественно как полномасштабный и серьезный конфликт. Славист А. И. Соболевский и историк Д. И. Иловайский, осуждая албанцев и обвиняя стоящую за их спиной Австрию, в то же время упрекали Сербию в том, что своей македонской политикой она поставила себя в кольцо врагов10. На Грецию как союзника русские публицисты не надеялись, считая, что она не придет на помощь сербам.
Выпуск «Славянских известий» 20 октября (2 ноября) 1913 г. был почти целиком посвящен албанскому вопросу. Осуждая албанцев как «дикую орду», журналист П. Талетов указал, что великие державы дискредитировали свое же решение создать Албанское государство и поставили под угрозу мир в Европе, пойдя на поводу у австрийских требований и создав очаг «анархии» в регионе11. П. Талетов и русский публицист с коротким дипломатическим опытом А. Н. Брянчанинов поставили вопрос о денонсации Лондонского и Бухарестского мирных договоров ввиду нарушения албанцами установленной границы с Сербией. При этом с ожидавшейся смертью Франца-Иосифа авторы связывали возможность открытого вступления Австро-Венгрии в войну против Сербии, при вероятном вмешательстве также Турции12. 5 (18) сентября А. Н. Брянчанинов дал интервью «Дыму Отечества», раскритиковав провал российской дипломатии в отличие от успехов австрийцев и предложив превентивно начать русско-турецкую войну13.
Специфическую позицию занял популярный иллюстрированный либеральный еженедельник «Огонек». Он с самого начала Первой Балканской войны поддерживал требования панславистов и приветствовал успехи славянских армий, с конца 1912 г. резко осуждал «диких» албанцев, обвиняя их в коварных нападениях на сербов14. «Автономная Албания – это ловкая дипломатическая выдумка Австрии, не желающей, чтобы Сербия приобрела порт на албанском побережье Адриатического моря», – писал «Огонек», скептически оценивая шансы Исмаила Кемали стать правителем всей Албании15. После подписания Лондонского мира журнал высмеивал создание «независимой» Албании великими державами в карикатуре «Первые шаги механического ребенка, родившегося у ее величества Европы», причем выражалось опасение переноса албанской столицы в Шкодер16. В ходе Второй Балканской войны активно освещавший ее «Огонек» осуждал все стороны конфликта и с горечью писал об условиях Бухарестского мира. Осенью 1913 г. журнал продолжил откликаться на такие балканские темы, как возврат Адрианополя турками, рост немецкого влияния в Константинополе и борьба за пока еще виртуальный албанский трон.
Однако сербо-албанской войне журнал посвятил лишь три иллюстрации – совсем немного по сравнению с 16 материалами о Второй Балканской войне и Бухарестском мире и 13 иллюстрациями о внутриалбанских конфликтах. На первой из тематических иллюстраций «Огонька» изображалось отступление сербских войск из Албании. Заголовок «Конец албанского восстания в Старой Сербии» (т.е. в Метохии и Косове) не вполне соответствовал комментарию редакции: «Сербские войска после усмирения албанского мятежа в только что завоеванных областях Старой Сербии, проникшие в Албанию для вооруженного контроля над злобствующим мусульманским населением, покидают албанские пределы под давлением австро-венгерского ультиматума»17. На второй иллюстрации была представлена демаркация сербо-албанской границы у Охридского озера при помощи итало-австрийских войск18. Наконец, в карикатуре С. В. Животовского под названием «Третья Балканская война (сербо-албанская)» Турция, Болгария и «Великая Албания» изображались в виде трех картонных фигур, движениями которых всецело управляют австрийские офицеры19.
Несколько иное отношение к сербо-албанским конфликтам демонстрировал либеральный «Вестник Европы», в котором «Иностранное обозрение» с 1880-х годов фактически вел Л. З. Слонимский. До октября 1913 г. он вообще не упоминал албанский вопрос в своих ежемесячных обзорах. Лишь в рецензии на французскую книгу Анри Барби «Война на Балканах. Сербские победы» Слонимский отметил случаи зверств албанцев: «Фанатики-мусульмане, албанские арнауты не знают пощады при расправе с христианами»20. Со ссылкой на этого же автора передавались фантастические сообщения о том, как отряды в десяток сербов без боя занимали Тирану, Эльбасан, Каваю с их десятитысячными турецкими гарнизонами; в то же время отмечались случаи взаимной резни между албанскими и сербскими четами в Македонии21.
Либеральный журнал обвинил сербские власти в «крутых мерах устрашения» против албанцев, на которые те ответили «обширным вооруженным восстанием в пограничных с Албанией областях»22. Слонимский тут же оговарился: «Так называемое восстание албанцев против Сербии есть, в сущности, война Албании против непомерно выросшего и возвеличенного сербского государства. […] Восстание было подготовлено извне и организовано в автономной Албании при прямом или косвенном содействии болгар»23. «Вестник Европы» был убежден, что Сербия имела право на ответное наступление, поскольку Европа не защитила «лондонские» границы. Однако, признавая «большие жестокости» албанцев, журнал обвинял в зверствах в первую очередь сербов. «Откуда у сербов эта прямолинейная жестокость против чужих народностей, не желающих подчиняться сербскому господству? – удивлялся либеральный обозреватель. – Озлобление туземцев против сербов не могло возникнуть без достаточных фактических оснований. С обеих сторон совершались вопиющие зверства, которые не скрывали и официозные газеты»24. «Вестник Европы» комментировал взаимное разрушение сербами и албанцами сел и города Дибра и делал вывод о необходимости для Сербии пересмотреть свою политику и не пытаться силой контролировать албанские земли25. В этих оценках, как и в целом в симпатии к албанскому национальному движению и осуждении сербских и греческих репрессий против албанцев, Слонимский оказывался солидарен с В. Викторовым из «Речи»26.
В то же время либералы были согласны с панславистами в том, что Австро-Венгрия и Италия несут прямую ответственность за поощрение набегов албанских банд на Сербию27. В конце 1913 г. «Вестник Европы» продолжал удивляться беззастенчивости австрийских «ненужных угроз и ультиматумов» Сербии и Греции по поводу вывода их войск из Албании, что воспринималось как позорный провал российской дипломатии, якобы потакавшей Вене в «чрезмерном расширении границ» Албании28. Либеральные «Русские ведомости» 20 сентября 1913 г. высказывались в таком же ключе29.
Панславистский «Дым Отечества» отозвался на албанское вторжение и австрийский ультиматум значительно позже других журналов, отметив лишь решительность Вены и Берлина и дряблость дипломатии стран Антанты30. Мечтавший о войне с Германией и Австро-Венгрией генерал К. И. Дружинин отметил, что «Австрия, создав государство-зверинец – Албанию, издевается над Сербией, которой пришлось искать вознаграждения за счет Албании»31. Аналогичные обвинения он бросил и Италии, в то же время призывая к сербо-болгарскому примирению в Македонии32. Панславистский публицист Э. Поточняк бил тревогу относительно признаков албанизации самой Австро-Венгрии, под которыми понималось открытие албанских школ в Далмации (вызвавшее протесты местных хорватов) и отправку инженеров в Албанию вместо привлечения их к выполнению внутренних проектов33.
3 ноября 1913 г. некий «Наблюдатель» назвал сербо-албанский конфликт третьей подряд войной на Балканах, а Албанию ‒ словесным прикрытием для «швабов», т. е. Германии и Австрии34. Вполне возможно, что термин «Третья Балканская война» в данном случае был заимствован из работ сербских социал-демократов Д. Туцовича и Д. Поповича [Искендеров 2013, 206, 228– 229, 259, 265].
1 (14) декабря 1913 г. П. Талетов связал сербо-албанский конфликт с агрессивной политикой австро-венгерского министра иностранных дел Л. фон Берхтольда, хотя и отметил, что его проект «Великой Албании» был реализован лишь частично: «Результаты политики графа Берхтольда известны. Он создал Албанию с тем, чтобы она являлась постоянной угрозой для Сербии и Черногории и была местом будущих вооруженных столкновений между Италией и Австро-Венгрией. Австро-Венгрия ни с одним из государств, кроме Болгарии и Албании, не находится в добрых отношениях»35. Учитывая роль Албании как «яблока раздора», Талетов предрек будущие войны, поражение Австрии и победу Сербии.
В феврале 1914 г. «Вестник Европы» ставил поведение албанцев в один ряд с дипломатическим бессилием великих держав, на глазах которых ни один пункт Лондонского договора не был выполнен балканскими государствами: «Албанский вопрос разрешен великими державами исключительно по австрийско-итальянской программе, без всякого внимания к желаниям и интересам населения»36. Другим симптомом этой несостоятельности европейской политики «Вестник Европы», как ранее и «Дым Отечества», назвал конфликт в Ольстере, грозивший перерасти в войну37. Таким образом, российская печать осознавала наличие двух очагов войны в Европе в 1914 г. – балканского и ирландского – и достаточно регулярно писала о них.
Май – июнь 1914 г. в «Славянских известиях» был ознаменован тревогами за перерастание балканских военных столкновений в мировую войну. А. И. Соболевский предупреждал: «Вражда между южными славянами остается враждою; достаточно слабой искры, чтобы на Балканах загорелся пожар при условиях, невыгодных для славянства. А эта искра легко может вылететь хотя бы из того костра, который представляет ныне Албания и который уже раздувает Австро-Венгрия»38. Конкретный механизм будущей мировой войны Соболевский усматривал во взаимно противоположных стремлениях сербов и северных албанцев39. В том же выпуске «Славянских известий» были опубликованы два рассказа сербского писателя М. Павловича, посвященные «Третьей Балканской войне» между сербами и албанцами – сражению при Васильеваце 2–5 октября 1913 г.40
Начало Первой мировой войны помешало дальнейшему развитию внимания русской прессы к сербо-албанскому конфликту. Следует, однако, иметь в виду повышенный интерес и либеральных, и панславистских еженедельников и ежемесячников с конца 1913 до лета 1914 г. к конфликтам внутри Албании и вмешательству в них великих держав, к греко-албанскому, македонскому и греко-турецкому конфликтам.
Сербо-албанская война осени 1913 г. и австро-германский ультиматум Белграду продемонстрировали неспособность Бухарестского мира установить прочные границы на Балканах. Анализ откликов российской печати на данные события показал значительное сходство отрицательных оценок албанского вторжения и его поощрения со стороны Вены у всех политических сил от либералов и национал-демократов до правых панславистов. В целом интерес у панславистских органов печати к балканским делам оставался предсказуемо выше, чем у либеральных (даже П. Б. Струве, к примеру, не отреагировал на сербо-албанский конфликт), но количественно он выражался уже вполне соизмеримыми показателями («Огонек» по общему количеству балканских материалов в данный период догнал «Дым Отечества»).
Русская образованная общественность после Первой и Второй Балканских войн быстро знакомилась с албанским вопросом. Албанское вторжение в Сербию осенью 1913 г. характеризовалось однозначно негативно, но именно после него русские журналисты и путешественники начали более основательно знакомить читателей с данной темой, неизменно акцентируя внимание на роли австрийского и итальянского влияния в сербо-албанском конфликте.
Отдельный интерес представляет вопрос о наименовании сербо-албанской войны 20 сентября – 25 октября 1913 г. в периодической печати. «Славянские известия» и «Огонек» прямо называли эту войну «Третьей Балканской». «Вестник Европы» характеризовал так еще и едва не начавшуюся греко-турецкую войну, в то время как «Дым Отечества» ‒ австро-сербскую войну (с 28 июля 1914 г.). Янко Лаврин оценил сербо-албанскую войну как третий из четырех этапов балканских военных конфликтов 1912–1914 гг. Русская пресса фактически следовала логике Д. Туцовича, согласно которой «первая балканская война велась за освобождение, вторая – за поддержание равновесия на Балканах, третья… – за стратегические точки в Албании» [Искендеров 2013, 229]. При этом отечественные журналисты рассматривали «Третью Балканскую войну» и последующие албанские восстания как звено в цепи конфликтов, чреватых большой европейской войной, как один из двух (наряду с Ирландией) очагов войны в Европе. Периодическая печать России начала осознавать, что «именно в албанском вопросе накануне Первой мировой войны были сфокусированы основные противоречия как между обоими военно-политическими блоками – Антантой и Тройственным союзом – так и между отдельными государствами, входившими в состав одного и того же альянса» [Там же, 469]. Эти настроения отчасти подпитывались контактами журналистов с русскими дипломатами, особенно А. М. Петряевым и Н. Г. Гартвигом. В результате, как отметила О. В. Павленко в докторской диссертации, «к началу 1914 г. в высших эшелонах власти стала проявляться политическая воля и моральная готовность к большой европейской войне» [Павленко 2023, 471].
Вместе с тем одних только сербо-албанских вооруженных конфликтов осени 1913 – лета 1914 г. было бы недостаточно для формирования в России представлений о неизбежности общеевропейской войны и Балканах как ее спусковом механизме. Подобные тревоги стали реальностью только после реакции русской общественности на внутриалбанские междоусобицы и ряд других пограничных конфликтов на Балканах.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Балканская распря: распад Балканского союза и Межсоюзническая война 1913 года в зеркале русской прессы. СПб.: Нестор-История, 2023. 544 с.
Башмаков А. А. Через Черногорию в страну диких гегов. СПб.: Русско-французская типография, 1913.
Вестник Европы. СПб., 1913. № 8–12; 1914. №№ 1–7.
Дым Отечества. СПб., 1913. № 31–52; 1914. №№ 1–27.
Лаврин Я. В стране вечной войны (албанские эскизы). Пг.: типография Ивановского, 1916.
Огонек. 1913. №№ 27–52; 1914. №№ 1–30.
Речь. 1913. № 289–341.
Славянские известия. СПб., 1913. № 38–39–57; 1914. № 1–11–12.
1 Викторов В. Среди свободных шкипетаров // Речь. 1913. 22 X. С. 3; 28 X. С. 5; 2 XI. С. 4; 29 XI. С. 2; 13 XII. С. 3–4.
2 Балканская распря, 2023.
3 Башмаков 1913, II.
4 Лаврин 1916, 87.
5 Там же, 12–13, 48–51, 55–57, 72–73.
6 Там же, 24.
7 Там же, 94.
8 Кораблев В. Н. Итоги Балканской войны // Славянские известия. 1913. № 31–32 (38–39). 11 VIII. С. 538.
9 От редакции // Дым Отечества. 1913. № 51. 19 XII. С. 3.
10 Соболевский А. Начинается // Славянские известия. 1913. № 35 (48). 22 IX. С. 617; Соболевский А. Горации и Куриации // Славянские известия. 1913. № 36 (43). 29 IX. С. 633; Матвеев Н. Е. Историк Иловайский о славянском вопросе // Славянские известия. 1913. № 43 (50). 27 X. С. 686.
11 Талетов П. Вторжение албанцев в Сербию и Европа // Там же. № 42 (49). 20 X. С. 671–672.
12 Брянчанинов А. Н. Итоги балканской трагедии // Дым Отечества. 1913. № 31. 1 VIII. С. 4–6.
13 Брянчанинов А. Н. О балканских делах // Там же. № 36. 5 IX. С. 3.
14 Война на Балканах. Сербско-турецкая война // Огонек. 1912. № 46. 11 (24) XI. С. 9–10.
15 Война на Балканах // Там же. № 48. 25 XI (8 XII). С. 12.
16 Первые шаги механического ребенка, родившегося у ее величества Европы // Там же. 1913. № 13. 5 (18) V. С. 1, 9. После падения Скутари // Там же. С. 9.
17 Конец албанского восстания в Старой Сербии // Там же. № 43. 27 X. Обложка.
18 Установление границ нового Албанского государства // Там же. 3 XI. С. 7.
19 Пьер-О [Животовский С. В.] 3-я Балканская война (сербо-албанская) // Там же. № 38. 22 IX (5 X). С. 17.
20 Слонимский Л. З. Отголоски войны // Вестник Европы. 1913. № 9. С. 331.
21 Там же. С. 333.
22 Иностранное обозрение // Там же. № 10. С. 399.
23 Там же. С. 401.
24 Там же. С. 399.
25 Там же. С. 400.
26 Викторов В. Среди свободных шкипетаров // Речь. 1913. № 295. 28 X. С. 5; № 300. 2 XI. С. 4.
27 Иностранное обозрение // Вестник Европы. 1913. № 10. С. 402.
28 Там же. № 11. С. 392; № 12. С. 424; 1914. № 1. С. 424–425.
29 Котляревский С. А. Балканские перспективы // Русские ведомости. 1913. 20 IX. Цит. по: Балканская распря 2023. С. 528–529.
30 За рубежом // Дым Отечества. 1913. № 41. 10 X. С. 13; Старый дипломат. Две дипломатии // Там же. № 42. 17 X. С. 4.
31 Дружинин К. И. Россия и балканские славяне // Там же. С. 2–3.
32 Дружинин К. И. Болгария и Сербия // Там же. № 41. 10 X. С. 2; Дружинин К. И. Россия и балканские славяне // Там же. № 42. 17 X. С. 3.
33 Э. П-ак. [Поточняк Э.] Албанизация славян Далмации // Славянские известия. 1913. № 47 (54). 24 XI. С. 734–736.
34 Наблюдатель. Итоги: балканские государства // Славянские известия. 1913. № 44 (51). 3 ноября. С. 695.
35 Талетов П. Политика графа Берхтольда // Славянские известия. 1913. № 48 (55). 1 XII. С. 743–745.
36 Иностранное обозрение // Вестник Европы. 1914. № 2. С. 425.
37 Там же. № 2. С. 403–405; 1914. № 1. С. 432–433; № 4. С. 368–372; № 5. С. 389–391.
38 Соболевский А. Россия и Ближний Восток // Славянские известия. 1914. № 10. 15 V. С. 149.
39 А.И.С. [Соболевский А.] События в Албании // Там же. № 11–12. 15 VI. С. 161.
40 Из военных рассказов Михаила Павловича: Две черногорки. Аксо Косовец // Там же. С. 174–175.
About the authors
Maksim V. Medovarov
Lobachevsky State University
Author for correspondence.
Email: mmedovarov@yandex.ru
PhD (History), Associate Professor, Leading Researcher
Russian Federation, Nizhny NovgorodReferences
- Aganson O. I. Balkany nakanune Pervoi mirovoi voiny: na puti k novomu balansu sil. Novaia i noveishaia istoriia, 2014, no. 4, pp. 17–31. (In Russ.)
- Arsh G. L. Vozrozhdenie Albanskogo gosudarstva. Za balkanskimi frontami Pervoi mirovoi voiny. Moscow, Indrik Publ., 2002, pp. 45–57. (In Russ.)
- Arsh G. L. Albaniia, pervyi god nezavisimosti (po materialam russkoi pechati). Slaviane i Rossiia: slavianskie i balkanskie narody v periodicheskoi pechati. K 90-letiiu so dnia rozhdeniia A. A. Uluniana: collected papers. Moscow, Institute of Slavic Studies RAS Publ., 2014, pp. 279–287. (In Russ.)
- Batakovich D. T. Balkanskie voiny 1912–1913 gg. Serbiia i albanskii vopros. Balkany v evropeiskikh politicheskikh proektakh XIX–XXI vv. Moscow, Institute of Slavic Studies RAS Publ., 2014, pp. 61–92. (In Russ.)
- Chepelevskaia T. I. Albantsy v “Albanskikh eskizakh” Ia. Lavrina (po materialam knigi “V strane vechnoi voiny”, 1916). Ianko Lavrin i Rossiia. Moscow, Institute of Slavic Studies RAS Publ., 2011, pp. 69–86. (In Russ.)
- Chepelevskaia T. I. Ianko Lavrin ob Albanii i albantsakh: po materialam knigi “V strane vechnoi voiny (Albanskie eskizy)”. Nezavisimost’ Albanii v obshchebalkanskom kontekste: K 100-letiiu obrazovaniia Albanskogo gosudarstva. Moscow, Institute of Slavic Studies RAS Publ., 2014, pp. 181–196. (In Russ.)
- Gusev N. S. Bolgariia, Serbiia i russkoe obshchestvo vo vremia Balkanskikh voin 1912–1913 gg. Moscow: Indrik, 2020, 518 p. (In Russ.)
- Gusev N. S., Kotov B. S. “Vvedenie”. Balkanskaia raspria: raspad Balkanskogo soiuza i Mezhsoiuznicheskaia voina 1913 goda v zerkale russkoi pressy. St. Petersburg: Nestor-Istoriia, 2023, pp. 9–50. (In Russ.)
- Iskenderov P. A. Rozhdenie albanskogo gosudarstva. V «porokhovom pogrebe Evropy». Moscow, Indrik Publ., 2003a, pp. 430–452. (In Russ.)
- Iskenderov P. A. Serbiia pered pokusheniem na ertsgertsoga Frantsa-Ferdinanda. V «porokhovom pogrebe Evropy». Moscow, Indrik Publ., 2003b, pp. 508–533. (In Russ.)
- Iskenderov P. A. Albanskii vopros: ot voin Balkanskikh k Pervoi mirovoi voine. Slavianovedenie, 2006, no. 1, pp. 3–14. (In Russ.)
- Iskenderov P. A. Serby i albantsy: istoricheskii opyt vzaimodeistviia. Slavianskii mir v tret’em tysiacheletii. Slavianskaia identichnost’ – novye faktory konsolidatsii. Moscow, Institute of Slavic Studies RAS Publ., 2008a, pp. 28–43. (In Russ.)
- Iskenderov P. A. Essad-pasha Toptani. Voprosy istorii, 2008b, no. 11, pp. 49–66. (In Russ.)
- Iskenderov P. A. Serbo-albanskoe razgranichenie i obshchestvenno-politicheskaia situatsiia v Serbii v 1913–1914 gg. Chelovek na Balkanakh. Vlast’ i obshchestvo: opyt vzaimodeistviia (konets XIX – nachalo XX v.). St. Petersburg, Aleteiia Publ., 2009, pp. 162–188. (In Russ.)
- Iskenderov P. A. Serbiia, Chernogoriia i albanskii vopros v nachale XX veka. St. Petersburg, Aleteiia Publ., 2013, 470 p. (In Russ.)
- Iskenderov P. A. Rossiiskaia i evropeiskaia pressa o sobytiiakh v Albanii (konets XIX – nachalo XX vv.). Slaviane i Rossiia: slavianskie i balkanskie narody v periodicheskoi pechati. K 90-letiiu so dnia rozhdeniia A. A. Uluniana: collected papers. Moscow, Institute of Slavic Studies RAS Publ., 2014, pp. 242–259. (In Russ.)
- Korsun N. G. Balkanskii front mirovoi voiny 1914–1918 gg. Moscow, Gosvoenizdat Narkomata oborony USSR Publ., 1939, 123 p. (In Russ.)
- Kostrikova E. G. Struktura vneshnepoliticheskoi informatsii v krupneishikh gazetakh Rossii nachala XX veka (Na primere Balkanskogo krizisa kontsa 1912 goda). Vneshniaia politika Rossii. Istochniki i istoriografiia. Collected papers. Moscow: Institute of history AS USSR Publ., 1991, pp. 170–181. (In Russ.)
- Kostrikova E. G. Vneshniaia politika v obshchestvennom mnenii Rossii nakanune Pervoi mirovoi voiny. 1908– 1914 gg. Authoreferat of dissertation of doctor in history: 07.00.02. Moscow, Institute of Russian history RAS Publ., 2011, 55 p. (In Russ.)
- Kostrikova E. G. Geopoliticheskie interesy Rossii i slavianskii vopros: Ideinaia bor’ba v rossiiskom obshchestve v nachale XX veka. Moscow, Kuchkovo pole Publ., 2017, 380 p. (In Russ.)
- Kotov B. S. Mezhsoiuznicheskaia voina leta 1913 goda v vospriiatii russkogo obshchestva (po materialam pressy). Novaia i noveishaia istoriia, 2015, no. 3, pp. 101–112. (In Russ.)
- Kotov B. S. Politika Avstro-Vengrii vo vremia Balkanskikh voin 1912–1913 godov v otsenkakh rossiiskoi pressy. Novaia i noveishaia istoriia, 2019, no. 4, pp. 67–83. (In Russ.)
- Kotov B. S. Rozhdenie Albanskogo gosudarstva i russkoe obshchestvo v 1912–1914 gg. (po materialam pressy). Rossiia i Balkany: geopolitika i obshchestvennye sviazi. Ed. by E. P. Kudriavtseva. Moscow, Kvadriga Publ., 2022, pp. 403–446. (In Russ.)
- Kratkaia istoriia Albanii s drevneishikh vremen do nashikh dnei, by G. L. Arsh, Iu. V. Ivanova, O. A. Kolpakova, N. D. Smirnova. Moscow, Nauka Publ., 1992, 510 pp. (In Russ.)
- Moroz Iu. Russkoe obshchestvo i Antanta v period Balkanskikh voin 1912–1913 gg. Belorusskii zhurnal mezhdunarodnogo prava i mezhdunarodnykh otnoshenii, 2004, no. 4, pp. 73–76. (In Russ.)
- Pavlenko O. V. Slavianskii faktor v ideologii i vneshnei politike Rossiiskoi imperii i monarkhii Gabsburgov (1830-e gg. – 1914 g.): Doctoral Dissertation. Moscow, RSUH Publ., 2022, 578 p. (In Russ.)
- Pisarev Iu. A. Velikie derzhavy i Balkany nakanune Pervoi mirovoi voiny. Moscow, Nauka Publ., 1985, 285 p. (In Russ.)
- Smirnova N. D. Istoriia Albanii v XX veke. Moscow, Nauka Publ., 2003, 430 p. (In Russ.)