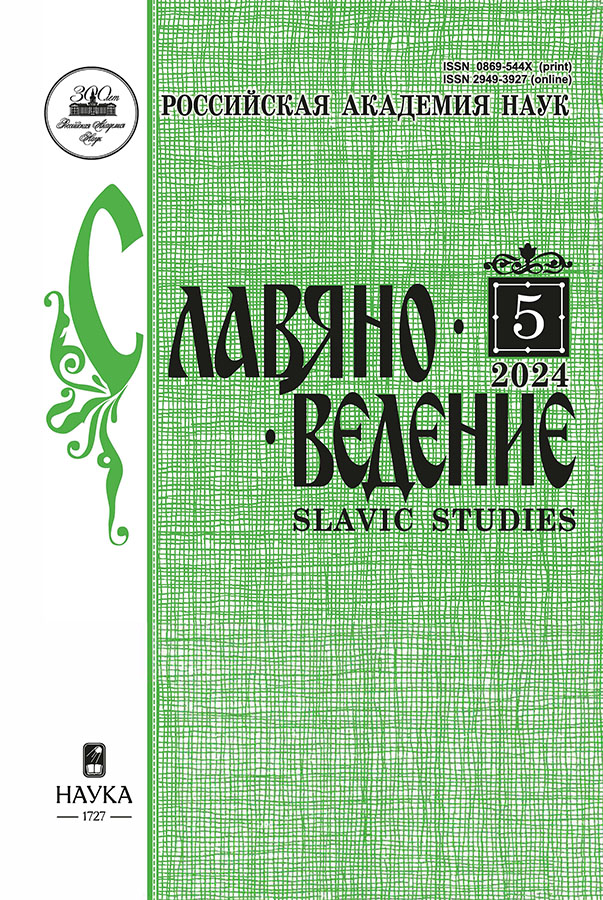A.N. Ostrovsky’s Dramaturgy in Slovakia
- Authors: Peskova A.Y.1
-
Affiliations:
- Institute of Slavic Studies of Russian Academy of Sciences
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 46-63
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/266909
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24050043
- EDN: https://elibrary.ru/YTRAET
- ID: 266909
Full Text
Abstract
The article examines the history of the acquaintance of Slovak literary culture and theater with the dramatic heritage of the great Russian playwright A.N. Ostrovsky. It tells in detail about the first translations of his plays into Slovak and the first experiences of productions on the professional stage (all of them are associated with the name of director J. Borodach), about the difficulties of translating some of the titles of the plays, and also traces the evolution of the perception of Ostrovsky’s work in Slovakia over the past century. The periods of greatest popularity of his plays are highlighted (1950s, 1970–80s), and an overview of the most significant Slovak theatrical productions based on his works is given. Special attention is paid to several outstanding productions of the drama «The Forest», which appeared on the Slovak theater stages in different historical periods and largely influenced the perception of this Russian author by the Slovak audience: performances of the theater «Divadlo na Korze» (1971, directed by V. Strnisko), Theater SNP in Martin (1982, directed by L. Vaydichka), theater «Astorka Korzo ’90» (1997, directed by R. Polak), Slovak Chamber Theater in Martin (2014, directed by L. Brutovsky, M. Daho), Theater J. Palarika in Trnava (2020, directed by V. Strnisko).
Keywords
Full Text
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
SND – Slovenské národné divadlo
ÚSOD – Ústredie slovenských ochotníckych divadiel
Широко известен и не подвергается сомнению тот факт, что творчество величайшего русского писателя А.Н. Островского в свое время коренным образом определило вектор развития драматургии и театра в России. При этом гораздо менее изученным остается его влияние на развитие литератур и театрального искусства других народов, в частности тех, которые на протяжении XIX–XX вв. чутко воспринимали художественные импульсы, исходившие из русской культуры. И в этом смысле стоит обратить внимание на словацкую литературу и словацкий театр, которые хоть и с некоторым запозданием, но очень внимательно знакомились с творчеством А.Н. Островского и бережно осваивали его драматургическое наследие.
За столетие, прошедшее с момента издания первого перевода на словацкий язык пьесы А.Н. Островского, его произведения прочно укоренились в репертуаре словацких театров и до сих пор с завидной регулярностью ставятся на сценах в разных уголках Словакии, демонстрируя потенциал порой для самых необычных и современных интерпретаций. При этом стоит отметить, что исследований, посвященных вопросу восприятия творчества Островского деятелями словацкой культуры, практически не существует. Тема эта, к большому сожалению, до сих пор была незаслуженно обойдена вниманием как отечественных славистов, так и словацких литературоведов и театроведов. Хотелось бы исправить эту несправедливость, отдать дань памяти великому драматургу, чье 200-летие отмечалось в 2023 г., и на примере Словакии провести исследование того, как его творчество проникало на инославянскую почву, в культуру другого славянского народа, как оно им осваивалось и влияло на развитие национальной драматургии и театра.
Первой пьесой Островского, которая вошла в словацкое культурное пространство, стала комедия «На всякого мудреца довольно простоты», в словацком переводе 1925 г. переводчика Мариана Придавка получившая с трудом опознаваемое название Palicou lásky nevynútiš (букв. Палкой любви не добьешься). Как видно, драматургия Островского приходит в Словакию довольно поздно, лишь в середине 1920-х годов, т.е. более чем на полстолетия позже, чем, к примеру, в соседнюю чешскую культуру, где первая пьеса этого русского драматурга была переведена еще в 1869 г. («Бедность не порок», пер. Э. Вавра).
Правда, это вовсе не означает, что произведения Островского до той поры были совершенно неизвестны в Словакии. В целом, для периода XIX в. – начала ХХ в. наличие или отсутствие перевода того или иного автора на словацкий язык не являлось показателем его известности или неизвестности в словацком обществе. Для характеристики отношения словацкой культурной общественности того времени к русской литературе количество переводов не являлось решающим признаком: многие словацкие русофилы активно или пассивно владели русским языком, другие могли читать и исследовать русскую литературу в чешских, немецких или же венгерских переводах. И если мы обратимся к творчеству А. Островского, то чешские переводы и постановки его произведений последних десятилетий XIX в. были в Словакии хорошо известны и широко обсуждаемы, по крайней мере, в среде словацкой интеллигенции.
Так, в 1886 г. в связи с кончиной А. Островского в газете «Народние новины» был напечатан обширный некролог, автором которого выступил один из ведущих словацких писателей-реалистов Светозар Гурбан Ваянский. В нем он называет Островского «великим талантом», «славой и гордостью России», «душой русской драматургии» [Vajanský 1886], ставит его в один ряд с Грибоедовым и Гоголем и сожалеет о том, что пока его талант не нашел заслуженного признания в мире. Но одновременно Ваянский выражает надежду на то, что «вслед за Толстым, Тургеневым, Достоевским Островский тоже пробьется в большой мир» [Ibidem]. Рассказывая о жизненном и творческом пути драматурга, он упоминает множество его пьес и отдельно описывает яркие впечатления от спектакля Александринского театра «Василиса Мелентьева», который он посетил, будучи в Петербурге: «Впечатление было огромное, необычайное, совсем новое, на грани моего понимания», – писал Ваянский [Ibidem].
Известно также, что действовавшее в Праге словацкое общество «Детван»1 (Detvan, 1882–1914), объединявшее словацких студентов пражских учебных заведений, одно из своих заседаний посвятило широкому обсуждению громкой и неоднозначной постановки пьесы «Лес», осуществленной в Национальном театре в Праге (Les, 1888, реж. Я. Сейферт) (см. [Pašteka 1990, 69]). Спектакль этот был далеко не первой постановкой драмы Островского на чешской сцене, но первой, не имевшей здесь успеха, практически провалившейся и вызвавшей бурную реакцию в печати и в культурных кругах, в том числе в словацких. Примечательно, что провал спектакля объяснялся тогда желанием пражской публики развлекаться в театре и отсутствием у нее привычки размышлять над пьесами. После этой постановки Островский на долгие два с половиной десятилетия сходит с чешской театральной сцены и возвращается туда лишь в 1913 г., когда в том же Национальном театре выходит спектакль по его пьесе «Невольницы»2.
Так что в Словакии имя Островского было известно задолго до появления первого словацкого перевода его пьесы в 1925 г. Однако в силу ряда обстоятельств, связанных с особенностями развития словацкого театра, до этого момента переводы его драм здесь не были востребованы, да и сами их постановки вряд ли были бы возможны: в Словакии не существовало ни одной словацкой профессиональной театральной труппы вплоть до марта 1920 г., когда, наконец, состоялось открытие Словацкого национального театра (Slovenské národné divadlo, SND) в Братиславе. Любительские же театры, еще с 1840-х годов действовавшие в разных городах Словакии, делали ставку, за редким исключением, на национальный репертуар. По всей вероятности, произведения Островского казались им сложными как для постановки, так и для восприятия неискушенной провинциальной публикой. Об этом пишет, к примеру, театровед В. Штефко в книге, посвященной истории словацкого любительского театра, упоминая о том, что даже в более поздний период, в 1930–1940-е годы, пьесы Островского для словацких непрофессиональных трупп оставались «крепким орешком». Он называет лишь две его пьесы, которые уже в межвоенный период эпизодически появлялись в репертуаре: «На всякого мудреца довольно простоты» и «Гроза» [Čavojský, Štefko 1983, 257]. Что уж говорить о более ранних периодах, когда пьесы Островского даже еще и не печатались по-словацки.
Мощным импульсом для возбуждения интереса словацкой театральной общественности к творчеству Островского явились короткие гастроли «качаловской группы» МХТ в Братиславе в октябре 1921 г., которые произвели ошеломляющее впечатление на словацкую публику3. Своими постановками, в том числе спектаклем по комедии А. Островского «На всякого мудреца довольно простоты», «качаловцы» буквально перевернули представления словацких театральных деятелей о том, каким может быть театр. О глубочайшем потрясении их игрой, режиссурой и об их невероятном успехе в Братиславе можно прочесть, в частности, в опубликованных дневниковых записях актрисы Словацкого национального театра Гелены Петцовой [Petzová-Pauliny-Tóthová 1956, 43–44] и в книге воспоминаний Янко Бородача [Borodáč 1995, 83], будущего крупнейшего словацкого театрального режиссера и педагога, в то время только начинавшего свой актерский и режиссерский путь.
Именно Я. Бородач, который в 1924 г. был принят в труппу Словацкого национального театра, становится первым словацким режиссером, решившимся на постановку произведения Островского на сцене. Спустя пять лет после памятных гастролей русского театра он обращается к той же самой комедии «На всякого мудреца довольно простоты». Однако режиссера не удовлетворил к тому моменту уже опубликованный в 1925 г. перевод пьесы, выполненный М. Придавком, и он решает перевести ее сам (во время Первой мировой войны Бородач, сражавшийся на восточном фронте, попал в плен и несколько лет провел в русском лагере для военнопленных под Вяткой, где хорошо выучил русский язык). Так в 1926 г. появляется второй перевод этой пьесы, которая получает еще одно свое словацкое название, чуть более приближенное к оригиналу, чем предыдущее, – Každý múdry je dosť hlúpy (букв. Каждый мудрец в чем-то глуп). Под этим заголовком комедия Островского и появилась в афише главного театра Словакии 7 января 1927 г. Однако успеха спектакль не имел.
Спустя годы Бородач рассказывал об этом первом опыте постановки пьесы Островского: «Мы старались перешагнуть с отечественной платформы на мировую. Мы решали, какая драматическая литература своим идейным миром, своими героями была бы наиболее близка словацкой. И тут как ни выкручивайся, невозможно отрицать, что из всех литератур наиболее близкой нам кажется литература русская. И уж поскольку мы теперь стали такой актерской командой, что в пьесах на словацком языке нам принадлежала ведущая и – главное – направляющая роль, мы озаботились постановкой пьесы русского классика и пустились в работу. Однако после премьеры, чего мы вовсе не предполагали, пришло разочарование. […] Хочешь – не хочешь, ищи причину. И помимо всего прочего, мы нашли причину интересную, но естественную для нашего начального этапа развития. Я читал русскую литературу в оригинале и не мог надивиться ее красотой. Но сравнив перевод и оригинал с языковой, литературно-эстетической стороны, убедился, что оригинал – кладезь всевозможных богатств, а перевод – лишь жалкая помощь нуждающимся. Ну, говорю, попробуй сам. И я попробовал. Но результат был точно таким же. Первые мои переводы были лишь скромными, убогими спасательными средствами, как и вся наша тогдашняя переводная драматическая литература (Островский был выдающийся писатель, но переводчики были очень слабые)» [Borodáč 1995, 83].
Эти сетования Бородача относятся не только к двум упомянутым переводам пьесы «На всякого мудреца довольно простоты», но и к его собственным переводам других русских и советских произведений, которых им было сделано немало (П. Романов «Землетрясение», Л. Толстой «Анна Каренина», А. Толстой «Фабрика молодости» и др.).
В 1931 г. Бородач предпринимает вторую попытку представить словацкому зрителю творчество любимого и высоко ценимого им самим Островского, осуществляя постановку «Леса» (Les) по изданному в том же году переводу Г. Руппельдтовой. Но и этот спектакль не принес режиссеру особого успеха. Часть критиков, особенно принадлежавших к так называемым «людацким» кругам4, в пух и прах раскритиковали саму идею постановки переводной пьесы, требуя от режиссера обратить взор на продукцию отечественных драматургов. Вовсе не поняв смысла, заложенного автором и режиссером в произведение, словацкие газеты называли его «ненужным», «некачественным» и «не имеющим никакой ценности для словаков»5.
Несмотря на это Бородач не оставляет надежд «влюбить» словацкую публику в творчество русского драматурга и уже через год берется за очередную пьесу Островского – на этот раз за драму «Гроза» (Búrka), перевод которой выполнил Ф. Есенский (племянник выдающегося писателя Я. Есенского и родной брат известнейшей переводчицы русской литературы З. Есенской). Этой постановкой ему, наконец, удается заслужить признание общественности: она была воспринята как большая режиссерская удача Бородача сезона 1932/33 гг., очень важного в истории Словацкого национального театра. В тот год драматическая труппа театра была разделена на чешскую и словацкую, то есть словацкие актеры и режиссеры получили долгожданную «автономию» и возможность, наконец, самостоятельно создавать сценические произведения без поддержки чешских коллег. Бородач был назначен главным режиссером словацкой части театрального коллектива, и «Гроза» стала первым его спектаклем на этом посту (премьера состоялась 30 сентября), ознаменовавшим яркое начало самостоятельной работы словацкой труппы. К созданию спектакля «Гроза» был также привлечен выдающийся словацкий художник Людовит Фулла, предложивший вполне авангардную для братиславского театра сценографию. Кроме того, критиками отмечался и великолепный актерский ансамбль этой постановки: Гана Меличкова (Катерина), Ольга Сикорова (Кабаниха), Свето Гурбан (Тихон), Андрей Багар (Борис) и другие актеры, в течение последующих лет ставшие настоящими звездами словацкого театра. Постановка явилась самым громким спектаклем всего театрального сезона, а спустя годы даже расценивалась некоторыми словацкими театроведами как «наибольший вклад Бородача в режиссуру того времени» [Mrlian 1960, 82].
Успеху и популярности «Грозы» на словацкой сцене способствовал и выход перевода этой пьесы в книжной серии «Театральная библиотека» (Divadelná knižnica), издававшейся Объединением словацких любительских театров (Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, ÚSOD). Благодаря этому изданию уже в 1934 г. «Грозу» начинают ставить и любительские театральные труппы Словакии, в частности, старейший и известнейший словацкий любительский театр «Словенски спевокол» (Slovenský spevokol) из г. Мартин. В начале 1934 г. туда приходит работать Фердинанд Хоффманн, будущий видный словацкий театральный режиссер, тогда делавший лишь первые шаги в режиссуре. Свою творческую работу с коллективом театра он начинает именно с постановки «Грозы». В газете «Народне новины» критик А. Мраз писал об этом спектакле так: «Он придал ей (пьесе – А.П.) все, что нужно. Необходимую лиричность, прекрасный темп игры, детальную разработку сцен, а главное – цельность. Было заметно в каждой детали, что режиссер совершенно осознает, чего он хочет добиться своей игрой, какого эффекта достичь…» [Mrlian 1960, 82]. Отмечая вклад в создание спектакля художника-постановщика Йозефа Цинцика, А. Мраз особо обращает внимание на его работу со светом, который помогает «дорисовывать и подчеркивать характер сценического действия» [Ibidem]. Позднее, в самом начале 1940-х годов, став уже режиссером Словацкого национального театра, Ф. Хоффманн вновь задумывает поставить «Грозу», теперь на большой профессиональной сцене, однако в тот момент это невозможно по политическим соображениям, о чем речь пойдет далее.
В 1930-е годы целый ряд словацких театральных деятелей, в частности, режиссеры Словацкого национального театра Я. Бородач, В. Шульц, Я. Ямницкий, посещают театральные фестивали в Советском Союзе, получают возможность увидеть работы советских режиссеров А. Таирова, В. Мейерхольда, Н. Охлопкова, Е. Вахтангова, С. Радлова, С. Михоэлса и многих других. Для всех них без исключения эти поездки становились решающими и даже поворотными моментами в их собственной творческой биографии, и репертуар каждого из режиссеров после посещения Москвы и Ленинграда обогащался произведениями русских и советских авторов. Так, В. Шульц, никогда ранее не обращавшийся к русскому материалу, ставит на сцене Словацкого национального театра «Подростка» Ф. Достоевского (1934), «Егора Булычова» М. Горького (1934), «Далекое» А. Афиногенова (1936) и «Маленькие трагедии» А. Пушкина (1937). В свою очередь Я. Ямницкий, посетивший СССР в 1936 г., в качестве первой русской пьесы в своем режиссерском репертуаре выбирает «Бесприданницу» (Nevesta bez vena) А. Островского (1938). Этот спектакль стал его первой значительной сценической работой в Словацком национальном театре, в которой он также продемонстрировал возможности игры со светом, что было новаторским приемом для тогдашнего братиславского театра.
Из опубликованных сразу же по возвращении из СССР впечатлений Я. Бородача видно, как подействовал на него знаменитый спектакль «Лес» в постановке В. Мейерхольда. Безусловно, Бородачу как поклоннику психологического театра Станиславского не был близок подход авангардного советского режиссера, который – напротив – всячески демонстративно дистанцировался от эстетики Художественного театра. Бородач отмечает в мейерхольдовском «Лесе» отсутствие психологических нюансов, палитры тонких ощущений и интонаций. «Вместо психологии – биомеханика, – пишет словацкий режиссер. – Он механизировал психологию действия, психологию драмы, тихого напряжения и лиричной нежности. Человек на сцене производит впечатление движущейся скульптуры» [Borodáč 1934, 685]. И далее Бородач разочарованно подытоживает: «Островский бы не узнал свой “Лес” в режиссуре Мейерхольда» [Ibidem].
Спустя еще пять лет, в 1939 г., Бородач вновь решает обратиться к пьесе, с которой когда-то началось его знакомство с Островским, – к комедии «На всякого мудреца довольно простоты». На этот раз он берет за основу новый перевод, выполненный М. Гацеком, который дал произведению Островского словацкое название «Kade horí, tade hasne» (букв. Где горит, там и гаснет). В отличие от всех предыдущих, этим переводом режиссер был явно удовлетворен и в программном бюллетене, подготовленном к премьере спектакля, писал следующее: «Что значит качественный перевод для театра, в этом я убедился, когда увидел первый же хороший перевод […] Уже на читках и особенно на репетициях и на спектаклях по хорошим переводам с русского языка я видел, что наши прежние проблемы были временными, вполне преодолимыми. Ведь не надо скрывать, что Чехов нам удался так, как это редко бывало за рубежом. Удавались нам и все другие пьесы из русской литературы. Теперь же у нас есть прекрасная возможность самим услышать все эти великолепные одухотворенные мысли в доступной и красивой форме» [Ibidem].
Осенью 1941 г. на той же сцене Я. Бородач готовился к постановке пьесы «Волки и овцы». Из воспоминаний молодого артиста театра Андрея Хмелко мы узнаем, что режиссер в своей страстной манере уже вовсю вел репетиции, заражая занятых в спектакле актеров увлеченностью Островским, когда вдруг вышел указ о запрете постановок русского репертуара6. Это крайне болезненно ударило по Бородачу, как известно, очень тепло относившемуся именно к русским авторам. «Вечером я видел Бородача, задумчиво сидевшего в ложе. Ему как будто отрубили руку. Люди, которым он верил, теперь нанесли ему удар в самое сердце. Волки вгрызались не только в советскую землю, но и терзали овец в SND…», – пишет А. Хмелко [Chmelko 1989, 28].
После освобождения Словакии от фашизма именно Я. Бородач, в 1945 г. перешедший работать главным режиссером в Государственный театр в Кошице (Štátne divadlo, Košice), осуществляет там первую словацкую послевоенную постановку Островского. Ею стала все та же комедия «На всякого мудреца довольно простоты» в очередном новом переводе, сделанном тем же М. Гацеком, значившимся в афишах под псевдонимом П. Янчик. В кошицком театре пьеса шла под названием «Lepšie s múdrym plakať, ako s hlúpym skákať» (букв. Лучше с умным плакать, чем с глупым прыгать).
Годы после окончания Второй мировой войны по понятным причинам в целом характеризуются обилием русских и советских пьес в репертуарах всех словацких театров. Достаточно сказать, что первой премьерой Словацкого национального театра сезона 1945/46 гг. стала советская драма «Чужой ребенок» (Cudzie dieťa) В. Шкваркина. За весь этот сезон на сценах трех действующих профессиональных словацких театров – Словацкого национального театра, Государственного театра в Кошице и Словацкого театра в Прешове – прошло 11 премьер русских и советских пьес (см. Приложение – Список постановок пьес А. Островского в словацких профессиональных театрах в 1925–2023 гг.).
Что касается пьес Островского, то в межвоенный период известно всего о пяти постановках его драм на словацкой сцене (о них речь шла выше), а в послевоенные годы число спектаклей по произведениям Островского начинает стремительно возрастать. За короткий период с 1944 по 1949 г. в Словакии было осуществлено семь постановок, причем трижды режиссеры обращались к драме «Волки и овцы», которая шла в Словацком театре в Прешове (1944) и в Государственном театре в Кошице (1948), обе в постановке А. Хмелко, и в Словацком национальном театре (1947) в постановке И. Лихарда.
1950-е годы становятся периодом наибольшей популярности русского драматурга в Словакии: 18 спектаклей по его пьесам, из которых наиболее часто словацкие театры выбирали комедии «Не все коту масленица» и «Свои люди – сочтемся» (по четыре постановки), а также драму «Поздняя любовь» (три постановки). Кроме того, известно, что в начале 1950-х годов пьеса «Не все коту масленица» входит и в список самых часто инсценируемых труппами любительских словацких театров.
В 1960-е годы популярность Островского среди словацких режиссеров заметно падает (всего лишь четыре профессиональные постановки за весь период). Объяснить это можно, вероятно, распространением в эти годы здесь, как и по всей Европе, новой эстетики театра абсурда и расцветом экспериментального театра. Литературные отделы театров чаще всего останавливали свой выбор на произведениях Э. Олби, С. Беккета, Г. Пинтера, Б. Брехта, Ф. Дюрренматта, Ж.-П. Сартра, А. Камю, В. Гавела и др. Начинают появляться и словацкие авторы, также творившие «новую» драму с элементами абсурда, парадокса, гротеска, такие как П. Карваш, Л. Фелдек, Р. Скукалек, Ст. Штепка, М. Ласица и Ю. Сатинский и др. Драматургия и театр 1960-х годов ломали все традиции и устои, шли по пути провокации, нонконформизма и причудливой творческой фантазии. В свою очередь драмы Островского с их вполне реалистическим языком никак не вписывались в эту новую парадигму и будто бы даже расходились с основными настроениями в обществе. Все четыре известные нам словацкие постановки Островского 1960-х годов были осуществлены на сценах небольших провинциальных театров, причем последняя из них датируется 1963 г., после чего наступает семилетний перерыв, когда Островский сходит со словацких подмостков.
Период после Пражской весны 1968 г. и до «бархатной революции» 1989 г., называемый в Словакии «нормализацией»7, вновь вернул на сцены театров русский и советский репертуар, в том числе комедии и драмы Островского. Вплоть до 1989 г. его произведения не сходят с афиш как столичных, так и провинциальных театров. Самая заметная словацкая постановка по Островскому 1970-х годов – спектакль режиссера В. Стрниско «Лес» (Les, 1971) в театре «Дивадло на корзе» (досл. Театр на бульваре) – экспериментальной братиславской сцене, просуществовавшей лишь три сезона с 1968 по 1971 г., но вошедшей в историю как одно из ярчайших явлений словацкого театра ХХ в. Спектакль «Лес» стал последней, восьмой, постановкой «Дивадла на корзе», после чего театр был закрыт по политическим соображениям. Отличительными особенностями этого творческого коллектива были необычная работа с драматургическим текстом, отход от психологического, описательного искусства и попытка разговаривать со зрителями на языке абсурда и парадокса. Самыми громкими спектаклями театра, которыми он, собственно, заявил о себе и встал в один ряд с другими молодыми чехословацкими театральными труппами 1960-х годов («Редута», «Семафор», «Студио Y», «Вечерни Брно», «Радошинске наивне дивадло» и др.), были постановки пьесы «В ожидании Годо» С. Беккета (1968, реж. В. Стрниско, М. Ласица), трех одноактных пьес С. Мрожека «Стриптиз», «Карол», «В открытом море» (1969, реж. П. Микулик) и «Женитьбы» Н. Гоголя (1969, реж. М. Пиетор). «Лес» органично вписался в этот ряд, поскольку режиссер все сценическое действие, как и предыдущих работах, «построил на принципе контрастов и переломов» [Podmaková 2021, 31], а также активно использовал свои любимые приемы контрапункта и гротеска.
Перевод «Леса» для этой постановки был сделан самим В. Стрниско совместно с драматургом М. Порубьяком, причем язык пьесы был максимально приближен к современному, а в некоторых местах были переписаны или даже дописаны отдельные реплики. Авторы переместили действие из России XIX в. в чехословацкие реалии 1960-х годов, создав произведение о современном им мире и стремительно меняющемся обществе и практически не акцентируя внимание на важной для Островского теме театра в театре и театра в жизни. При этом вполне оправданным оказалось использование приема активного взаимодействия актеров со зрителями, отчего пьеса производила впечатление чрезвычайно актуального произведения, убедительно передающего картину распада моральных ценностей в современном обществе.
Большую роль в популяризации творчества русского драматурга в Словакии сыграло издание в 1974–1977 гг. трехтомного собрания сочинений [Ostrovskij 1974–1977] его драматических произведений, в которое вошло девять пьес в переводе выдающегося переводчика Яна Ференчика: «Свои люди – сочтемся», «Гроза», «Доходное место», «На каждого мудреца довольно простоты», «Лес», «Волки и овцы», «Последняя жертва», «Бесприданница», «Таланты и поклонники». Я. Ференчик и ранее неоднократно обращался к творчеству Островского и переводил отдельные его произведения, но для этого издания все свои предыдущие переводы он подверг существенной переработке. Собрание сочинений Островского стало знаменательным событием, благодаря ему с творчеством драматурга смог познакомиться не только словацкий театральный зритель, но и широкий круг читателей.
Кроме того, если до выхода этого издания режиссеры для своих постановок по Островскому выбирали тексты, выполненные переводчиками с самым разным уровнем подготовки и квалификации, а порой – как мы неоднократно убеждались – и самостоятельно брались за перевод, что часто не лучшим образом сказывалось на его качестве, то отныне почти все театры при постановке Островского опирались именно на переводы Ференчика из этого собрания сочинений. По своему качеству они значительно превосходили все предыдущие попытки, особенно это касалось перевода разнообразных фразеологических единиц, которыми пестрят реплики персонажей Островского. Как мы понимаем, языковая выразительность его драматургических текстов, максимально насыщенных пословицами, поговорками, прибаутками, прочими фразеологизмами, чрезвычайно важна – все это придает языку его произведений экспрессивную образность, смысловую емкость, точность. Оттого и работе с этими языковыми единицами переводчики должны были придавать особое значение, тем более что они всегда представляют огромную трудность при переводе на любой иностранный язык. И кажется, в случае с драматургией Островского Ференчику это действительно удалось лучше других8.
До издания этого собрания сочинений некоторые пьесы Островского никак не могли обрести своего словацкого названия. В первую очередь это касалось драм, в названии которых использовались пословицы: «Свои люди – сочтемся» и «На всякого мудреца довольно простоты». Начиная с 1920-х гг., было предпринято немало попыток найти подходящие соответствия этим паремиям. Оттого, к примеру, могли возникнуть ситуации, подобные той, когда в 1951–1952 гг. пьеса «Свои люди – сочтемся» одновременно шла на сценах трех словацких театров под тремя разными названиями: «Bankrot» (СНД, реж. В. Павлович), «Vrana vrane oči nevykole» (досл. Ворона вороне глаз не выклюет) (Словацкий театр в Прешове, реж. Й. Загребельский), «Veď sme svoji» (досл. Ведь мы свои люди) (Краевой театр в Нитре, реж. Р. Латка). После выхода в 1972 г. первого тома собрания сочинений Островского, куда вошла эта пьеса, за ней окончательно закрепилось словацкое название «Bankrot».
Комедия «На всякого мудреца довольно простоты» с момента ее первого перевода также приобрела немало самых разных словацких названий: «Palicou lásky nevynútiš» (1925), «Každý múdry je dosť hlúpy» (1927), «Kade horí – tade hasne» (1940), «Lepšie s múdrym plakať, ako hlúpym skákať» (1945), пока в 1976 г. Я. Ференчик не придумал для заголовка этой пьесы удачный речевой оборот – так называемую псевдопословицу «Aj múdry schybí» (досл. И умный ошибается). Именно перевод Я. Ференчика и такой вариант названия пьесы укоренились в словацкой литературной и театральной культуре, и сегодня это придуманное переводчиком выражение воспринимается носителями языка как настоящая словацкая пословица, что подтверждают и данные из корпуса словацкого языка.
Говоря о комедии «На всякого мудреца довольно простоты», которая по сей день является самой востребованной пьесой Островского в Словакии, нельзя не упомянуть об одном из лучших словацких спектаклей по этому произведению – постановке В. Стрниско «Aj múdry schybí» (1983) на Новой сцене (Братислава). Предыдущая его работа в «Дивадле на корзе» над спектаклем «Лес» (1971), о которой мы говорили ранее, явно оставила серьезный след в душе режиссера, который спустя годы еще дважды с большими перерывами возвращался к Островскому: сначала в 1983 г., а затем уже в 2020 г. В спектакле на братиславской Новой сцене, в отличие от постановки 1971 г., он не вмешивался в текст Островского, а в результате внимательнейшего и точнейшего разбора драматургического материала – характеров, мотивировок персонажей – сумел донести до зрителя те смыслы, которые изначально были заложены автором и оказались чрезвычайно созвучны настроениям общества 1980-х. Как свидетельствовали критики, «зависть, притворство, расчетливость героев Островского указывали на деформацию всей системы ценностей (в том числе современного чехословацкого общества)» [Podmaková 2023, 373].
Еще один словацкий режиссер-постановщик, в чьей творческой биографии Островский занимает особое место – Любомир Вайдичка, на протяжении своей долгой театральной карьеры осуществивший пять постановок по произведениям русского драматурга на сценах различных словацких театров. Первая его встреча с Островским состоялась в 1972 г., когда на сцене Театра Словацкого национального восстания в Мартине он представил спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» (Kade horí – tade hasne). Спустя десять лет на той же сцене им был поставлен «Лес» (Les, 1982), а затем уже на подмостках Словацкого национального театра – «Доходное место» (Výnosné miesto, 1984). Две последние его постановки по Островскому были осуществлены уже спустя тридцать лет в ХХI в.: «Не все коту масленица» (2014, Театр Й. Заборского в Прешове); «Поздняя любовь» (2016, Спишский театр).
В 1970-х и первой половине 1980-х годов Островского, как и других русских и советских авторов, в Словакии ставили часто, однако по мере приближения «бархатной» революции число словацких постановок по Островскому резко сокращается: в период с 1980 по 1985 г. в Словакии прошло восемь премьер пьес Островского, тогда как в 1986–1990 гг. – лишь две. После событий 1989 г. не только Островский, но и другие русские авторы на некоторое время почти сходят со словацкой сцены9, чтобы во второй половине 1990-х годов снова появиться на афишах. Уже с 1995 г. практически ежегодно в Словакии выходили театральные премьеры по произведениям Островского. Всего с 1995 по 2023 г. в Словакии было осуществлено 22 постановки его пьес, причем самым популярным названием по-прежнему остается комедия «На всякого мудреца довольно простоты», с 2014 г. она уже выдержала пять постановок. Почти каждый известный современный словацкий режиссер хотя бы раз ставил что-то из Островского: помимо уже упоминавшихся В. Стрниско и Л. Вайдички, это также Р. Полак, Я. Сладечек, М. Ольга, Л. Брутовский, В. Шульцова и др. Остановимся лишь на некоторых самых ярких словацких спектаклях по Островскому последнего тридцатилетия.
Театр «Асторка Корзо ’90» (Astorko Korzo ’90), созданный в 1990 г. как продолжатель традиций театра «Дивадло на корзе», в 1997 г. представил наиболее заметную постановку пьесы Островского этого десятилетия: «Лес» режиссера Р. Полака. В тот год авторы постановки собрали призы во всех самых престижных номинациях главной театральной премии Словакии «Dosky» (досл. Подмостки): за лучший спектакль, лучшую режиссуру, лучшую сценографию (Алеш Вотава). Работа Р. Полака с текстом Островского напоминала подход режиссера-постановщика «Дивадла на корзе» В. Стрниско в спектакле 1971 г. Полак отчасти переписал и даже дописал пьесу, отодвинул на задний план факт продажи леса и промотанных денег и основной акцент перенес на лицемерие, коррупцию, фальшь и карикатурность приходящего нового поколения. При этом он настолько активно апеллировал к современности, что границы между сценическим действием и реальностью конца 1990-х практически стирались. И хотя местами пьеса производила «остро негативное» и даже «вульгарное» [Podmaková 2023, 380] впечатление, все же этот «не по-человечески человечный» [Mistrík 1996,13] спектакль Полака нашел отклик у зрителей. Примечательно, что даже спустя годы критики в своих рецензиях на новые спектакли по «Лесу» все еще продолжают вспоминать ту постановку 1997 г.
Чрезмерные преувеличения и заострения, доведенные до абсурда, стали значимыми выразительными приемами и в спектакле «Доходное место» (Výnosné miesto, 2012) режиссера Л. Брутовского в театре «LAB» Высшей школы изящных искусств в Братиславе. Гротеск, в целом характерный для режиссерского языка Л. Брутовского, в этом спектакле определил общую тональность сценического действия: актеры неожиданно пускались в пляс или затягивали арию, застреленные герои вдруг оживали, реплики диалогов порой начинали звучать все одновременно хором, подчеркнуто демонстрируя, что персонажи Островского не хотят слышать друг друга и т.п. В похожем стиле была выдержана и постановка «Леса», представленная Брутовским и его постоянным соавтором драматургом М. Дахо в 2014 г. на сцене Словацкого камерного театра в Мартине. Спектакль имел большой успех у критиков и зрителей и продержался в репертуаре четыре сезона. В нем было заметно множество перекличек с предыдущими известными словацкими сценическими версиями «Леса», в частности, с постановкой Р. Полака 1997 г. На первый план в этом спектакле выступила тема игры и театральности в жизни, противопоставление фальши, лицемерия Гурмыжской и ее окружения, с одной стороны, искренности и внутренней глубине Счастливцева и Несчастливцева – с другой. Тяга к абсурдности, гротесковости, нарочитым преувеличениям, присущая стилю Брутовского, в этой постановке удачно помогала донести режиссерский замысел до зрителя.
Наконец, самой яркой словацкой интерпретацией Островского 2020-х годов пока можно назвать спектакль Театра Я. Паларика в Трнаве по той же пьесе «Лес» (2020). Его автор – именитый В. Стрниско, который спустя почти пятьдесят лет вновь обратился к этому драматургическому материалу, но взглянул на него совершенно иначе. Если в 1970-х важная для Островского тема театра в театре и театра в жизни казалась второстепенной, то в 2020-х именно она более других резонировала с настроениями создателей спектакля и их взглядом на окружающую действительность. Художником постановки выступил известный сценограф Ю. Фабры, на счету которого уже был один «Лес» – спектакль Л. Вайдички (1982), в котором он тогда использовал совершенно незабываемый прием: в конце пьесы часть декорации превращалась в ширму кукольного театра и живых актеров на сцене заменяли их копии-марионетки. На этот раз Ю. Фабры все действие пьесы поместил в интерьер провинциального театра (декорации представляли собой сцену и закулисье – гардероб, гримерную) и виртуозно использовал оригинальный прием игры теней. Все вместе это великолепно подчеркивало основную идею авторов постановки о театральности нашей жизни, притворстве и двуличности героев этой драмы и придавало новые смыслы сценическому действию.
Таким образом, вполне можно утверждать, что в Словакии интерес к Островскому (как, впрочем, и к русскому драматургическому материалу в целом) практически неизменен. Безусловно, это связано с непреходящим значением его пьес, с теми темами и проблемами, которые он затрагивает и которые актуальны во все времена, – одним словом, с общечеловеческими смыслами, заложенными в текстах его произведений. Сегодня Островского в Словакии уже почти нигде не играют как костюмную драму или комедию из XIX в. Отличительной особенностью большинства последних спектаклей по его пьесам является перенос действия в современные реалии, максимальное его приближение ко зрителю. И в каждой рецензии на любую из постановок по Островскому непременно отмечена актуальность произведения для сегодняшнего дня, насущность затрагиваемых им тем и проблем, неизменность человеческой природы, а следовательно, жизненность характеров и ситуаций.
Несмотря на стойкую популярность комедий Островского в словацких театрах (в первую очередь, «На всякого мудреца довольно простоты», «Свои люди – сочтемся» и «Не все коту масленица»), все же наиболее яркий след в истории словацкого театра оставили постановки драмы «Лес». Словацкие зрители видели целый ряд выдающихся спектаклей по этому произведению, созданных в разные эпохи порой очень непохожими друг на друга режиссерами, и каждый из этих спектаклей определенным образом повлиял на развитие театрального искусства Словакии. Более того, мы можем наблюдать отголоски идей и сюжетных поворотов «Леса» и в современной словацкой литературе. Один из талантливейших современных писателей П. Криштуфек в своем романе «Суфлер» (Šepkár, 2008) своеобразно развил и довел до абсурда заложенную у Островского идею о театральности нашей жизни. Знаменитая финальная сцена «Леса», в которой Несчастливцев произносит свой пламенный обличающий монолог, оказывающийся в результате, к удивлению всех присутствующих, отрывком из шиллеровских «Разбойников», вдохновляет П. Криштуфека на развитие этого сюжета в его собственном тексте. Главный герой романа – театральный суфлер, который в жизни буквально разговаривает отрывками из различных театральных постановок. Так же, как и у Островского, в романе никто из окружающих не догадывается об этом факте, и героя даже приглашают в предвыборную команду к косноязычному политику, баллотирующемуся на высокий государственный пост. Во время публичных выступлений суфлер незаметно подсказывает ему слова из известных классических пьес, что моментально делает политика самым популярным в стране. Таким образом писательская фантазия П. Криштуфека доводит идеи Островского о нашем мире-театре до абсолютного гротеска. Причем, как мы видим, мир в романе «Суфлер» – это уже не просто театр, а настоящий театр абсурда.
Нет сомнения, что творчество Островского и дальше будет вдохновлять все новых и новых режиссеров Словакии на создание спектаклей, которые, в свою очередь, будут находить путь к сердцам зрителей и побуждать их к внутреннему анализу и размышлениям о современности. Для этого в его пьесах заложен поистине неисчерпаемый потенциал. И хотя сами тексты его произведений в Словакии не переиздавались уже много десятилетий (последнее издание его избранных сочинений на словацком датируется 1982 г. [Ostrovskij 1982]), однако в юбилейном 2023 г., когда отмечалось 200-летие со дня рождения Островского, три словацких театра сыграли премьеры по его пьесам «Последняя жертва» и «Доходное место». Особенно внушает оптимизм тот факт, что в последние годы при всем обилии, разнообразии и доступности литературного материала в современном мире, произведения Островского все чаще заинтересовывают молодое поколение словацких режиссеров и актеров: его пьесы ставятся в молодежных театрах, в качестве выпускных спектаклей на учебных сценах театральных вузов, а это значит, что ценности и язык русского драматурга нисколько не устаревают и по-прежнему остаются близки и, главное, необходимы даже самым юным его читателям и зрителям.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Robotnícke noviny. 26.03.1931.
1 Подробнее о деятельности общества «Детван» см. в статье Н. Юрчишиновой [Jurčišinová 2010].
2 Об этих постановках и в целом об Островском в чешской культуре в период с 1850-х до 1970-х годов см. обзорное исследование [Бернштейн, Богатырев 1974].
3 Подробнее об этом см. мою статью [Пескова 2021].
4 Приверженцам крайне правой националистической Словацкой народной партии Андрея Глинки (Hlinkova slovenská ľudová strana).
5 Robotnícke noviny.
6 В марте 1939 г. Германия оккупирует чешские земли и создает Протекторат Богемия и Моравия, в то время как на словацких землях образуется новое государство – Словацкая Республика, фактически ставшая сателлитом Германии. СССР признало новую республику в сентябре 1939 г. и поддерживало с ней дипломатические отношения вплоть до июня 1941 г. Будучи союзником Германии, Словацкая Республика участвовала в военных действиях на стороне Третьего рейха, в том числе против Советского Союза. Все это отразилось и на театральном репертуаре тех лет: последняя премьера русской пьесы – спектакль «Смерть Тарелкина» А.В. Сухово-Кобылина в постановке Я. Ямницкого – состоялась в Словацком национальном театре 10 мая 1941 г.
7 Сам термин «нормализация» указывал на провозглашенное стремление нового руководства Чехословакии отказаться от попыток реформирования и возвратиться к «норме», т.е. к прежней модели социализма.
8 О переводе пословиц у Островского см. мою статью [Пескова 2024].
9 По моим подсчетам и по сведениям словацкого театроведа Д. Подмаковой, общее количество постановок русских и советских пьес в словацких театрах в начале 1990-х годов было следующим: в 1990 г. – шесть, в 1991 г. – пять, в 1992 г. – две, в 1993 г. – пять, в 1994 г. – две.
Приложение. Список постановок пьес А.Н. Островского в словацких профессиональных театрах в 1927–2023 гг.
Год премьеры | Название спектакля | Театр | Режиссер |
1927 | Každý múdry je dosť hlúpy (На всякого мудреца довольно простоты) | Словацкий национальный театр | Я. Бородач |
1931 | Les (Лес) | Словацкий национальный театр | Я. Бородач |
1932 | Búrka (Гроза) | Словацкий национальный театр | Я. Бородач |
1938 | Nevesta bez vena (Бесприданница) | Словацкий национальный театр | Я. Бородач |
1939 | Kade horí – tade hasne (На всякого мудреца довольно простоты) | Словацкий национальный театр | Я. Бородач |
1944 | Vlci a ovce (Волки и овцы) | Словацкий театр, Прешов | А. Хмелко |
1945 | Lepšie s múdrym plakať, ako s hlúpym skákať (На всякого мудреца довольно простоты) | Государственный театр, Кошице | Я. Бородач |
1947 | Vlci a ovce (Волки и овцы) | Словацкий национальный театр | И. Лихард |
1947 | Na rušnom mieste (На бойком месте) | Словацкий камерный театр, Мартин | К.М. Скоумал |
1948 | Chudoba cti netratí (Бедность не порок) | Украинский национальный театр, Прешов | Й. Фельбаба |
1948 | Vlci a ovce (Волки и овцы) | Государственный театр, Кошице | А. Хмелко |
1949 | Nevoľnici (Невольницы) | Словацкий театр, Прешов | M. Ivák |
1950 | Nemá kocúr večne hody (Не все коту масленица) | Словацкий камерный театр, Мартин | Д. Янда |
1950 | Nemá kocúr večne hody (Не все коту масленица) | Краевой театр, Трнава | Д. Янда |
1951 | Bankrot (Свои люди – сочтемся) | Словацкий национальный театр | В. Павлович |
1951 | Talenty a ctitelia (Таланты и поклонники) | Государственный театр, Кошице | А. Хмелко |
1951 | Nemá kocúr večne hody (Не все коту масленица) | Деревенский театр | М. Локвенцова |
1951 | Vrana vrane oči nevykole (Свои люди – сочтемся) | Словацкий театр, Прешов | Й. Загребельский |
1952 | Veď sme svoji (Свои люди – сочтемся) | Краевой театр, Трнава | Р. Латка |
1952 | Búrka (Гроза) | Театр в Жилине | M. Габриш, Э. Стреднянский |
1952 | Bankrot (Свои люди – сочтемся) | Деревенский театр | К. Благовец |
1952 | Kto hľadá, nájde (За чем пойдешь, то и найдешь) | Театр Й.Г. Тайовского, Зволен | М. Голлый |
1953 | Chudoba cti netratí (Бедность не порок) | Украинский национальный театр, Прешов | Э. Нестерова |
1953 | Kade horí – tade hasne (На всякого мудреца довольно простоты) | Театр в Жилине | Й. Палка |
1954 | Nemá kocúr večne hody (Не все коту масленица) | Украинский национальный театр, Прешов | Э. Нестерова, Й. Загребельский |
1954 | Pozdná láska (Поздняя любовь) | Театр в Жилине | И. Гегуш |
1955 | Kto hľadá, nájde (За чем пойдешь, то и найдешь) | Театр Й. Заборского, Прешов | Й. Галяма |
1955 | Pozdná láska (Поздняя любовь) | Деревенский театр | Ш. Мунк |
1956 | Sviatočný sen (Праздничный сон – до обеда) | Театр армии, Мартин | Д. Янда |
1956 | Pozdná láska (Поздняя любовь) | Краевой театр, Нитра | О. Криванек |
1960 | Bankrot (Свои люди – сочтемся) | Краевой театр, Спишска Нова Вес | И. Петровицкий |
1963 | Búrka (Гроза) | Театр Словацкого национального восстания, Мартин | П. Римский |
1963 | Bankrot (Свои люди – сочтемся) | Венгерский областной театр, Комарно | Й. Конрад |
1963 | Krásavec ( Красавец-мужчина) | Краевой театр, Трнава | Д. Янда |
1970 | Búrka (Гроза) | Краевой театр, Нитра | K. Спишак |
1971 | Les (Лес) | «Дивадло на корзе», Братислава | В. Стрниско |
1971 | Les (Лес) | Краевой театр, Нитра | М. Гиншт |
1972 | Búrka (Гроза) | Венгерский областной театр, Комарно | А. Беке |
1972 | Veď sme svoji... (Свои люди – сочтемся) | Театр Й.Г. Тайовского, Зволен | А. Турчан |
1972 | Kade horí – tade hasne (На всякого мудреца…) | Театр Словацкого национального восстания, Мартин | Л. Вайдичка |
1972 | Búrka (Гроза) | Словацкий национальный театр | К.Л. Захар |
1972 | Pozdná láska (Поздняя любовь) | Студия DISK, Трнава | |
1976 | Les (Лес) | Государственный театр, Кошице | В. Петрушка |
1978 | Aj múdry schybí (На всякого мудреца…) | Театр Й.Г. Тайовского, Зволен | А. Турчан |
1980 | Aj múdry schybí (На всякого мудреца…) | Театр Андрея Багара, Нитра | М. Какош |
1981 | Aj múdry schybí (На всякого мудреца…) | Венгерский областной театр, Комарно | Й. Сюч |
1982 | Les (Лес) | Театр Словацкого национального восстания, Мартин | Л. Вайдичка |
1982 | Bankrot (Свои люди – сочтемся) | Украинский национальный театр, Прешов | Э. Гюртлер |
1983 | Vlci a ovce (Волки и овцы) | Театр Й.Г. Тайовского, Зволен | М. Ольга |
1983 | Aj múdry schybí (На всякого мудреца…) | Новая сцена, Братислава | В. Стрниско |
1983 | Talenty a ctitelia (Таланты и поклонники) | Театр Й. Заборского , Прешов | Й. Шимканич |
1984 | Výnosné miesto (Доходное место) | Словацкий национальный театр | Л. Вайдичка |
1985 | Búrka (Гроза) | Новая сцена, Братислава | Г. Мароевич |
1986 | Dievča bez vena (Бесприданница) | Театр Андрея Багара, Нитра | М. Какош |
1989 | Talenty a ctitelia (Таланты и поклонники) | Театр Словацкого национального восстания, Мартин | М. Ольга |
1995 | Posledná obeť (Последняя жертва) | Театр Й.Г. Тайовского, Зволен | Я. Сладечек |
1996 | Dievča bez vena (Бесприданница) | Трнавский театр, Трнава | М. Спишак |
1997 | Les (Лес) | Театр «Асторка Корзо’90», Братислава | Р. Полак |
1998 | ...Hráme duráka! (Волки и овцы) | Театр Андрея Багара, Нитра | В. Козменко Де-линде |
2000 | Nevesta bez vena (Бесприданница) | Высшая школа изящных искусств, Братислава | Й. Чайлик |
2001 | Business je biznis (Свои люди – сочтемся) | Театр Словацкого национального восстания, Мартин | М. Ольга |
2005 | Dohodneme sa, veďsme svoji (Свои люди – сочтемся) | Словацкий национальный театр | П. Микулик |
2008 | Nemá kocúr večne hody (Не все коту масленица) | Высшая школа изящных искусств, Братислава | Ю. Биелик |
2009 | Nemá kocúr večne hody (Не все коту масленица) | Театр «Divadlo a.ha.», Братислава | Ю. Биелик |
2009 | Bankrot (Свои люди – сочтемся) | Спишский театр, Спишска Нова Вес | Я. Сладечек |
2012 | Výnosné miesto (Доходное место) | Театр «LAB», Братислава | Л. Брутовский |
2013 | Dievča bez vena (Бесприданница) | Театр Андрея Багара, Нитра | М. Вайдичка |
2014 | Aj múdry schybí (На всякого мудреца довольно простоты) | Городской театр П.О. Гвездослава, Братислава | В. Шульцова |
2014 | Les (Лес) | Словацкий камерный театр, Мартин | Л. Брутовский |
2014 | Aj múdry schybí (На всякого мудреца довольно простоты) | Академия искусств в Банской Быстрице | Я. Овшонкова |
2014 | Nemá kocúr večne hody (Не все коту масленица) | Театр Й. Заборского, Прешов | Л. Вайдичка |
2016 | Pozdná láska (Поздняя любовь) | Спишский театр, Спишска Нова Вес | Л. Вайдичка |
2020 | Les (Лес) | Театр Я. Паларика, Трнава | В. Стрниско |
2020 | Aj múdry schybí (I мудрiяш домудруе) (На всякого мудреца довольно простоты) | Театр Александра Духновича, Прешов | М. Ольга |
2023 | Posledná obeť (Последняя жертва) | Театр «Štronzo», Бела-Дулице | Ю. Бенчик |
2023 | Výnosné miesto (Доходное место) | Театр «f*ACTOR», Липтовский Градок | М. Томаши |
2023 | Výnosné miesto (ako časť inscenácie Srdce, kotva, kríž) (Доходное место) | Мартинский молодежный театр, Мартин | М. Томаши |
About the authors
Anna Yu. Peskova
Institute of Slavic Studies of Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: apeskova@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-0992-0180
PhD (Philology), Senior Researcher
Russian Federation, MoscowReferences
- Bernshtein I.Ia., Bogatyrev Sh.Sh. Ostrovskii v Chekhoslovakii Literaturnoje nasledstvo, 1974, vol. 88, no. 2., pp. 419–458. (In Russ.)
- Borodáč J. Z divadelného festivalu v Moskve. Slovenské pohľady, vol. 50, 1934, pp. 685. (In Slov.)
- Borodáč J. Z domácej platformy – na svetovú. Divadelný bulletin k premiére Ostrovského veselohry Kade horí, tade hasne. 10. XI. 1939. O Slovenské národné divadlo. Bratislava: Osveta, 1953, pp. 165–168. (In Slov.)
- Borodáč J. Spomienky. Bratislava, Národné divadelné centrum Publ., 1995, 344 p. (In Slov.)
- Čavojský L., Štefko V. Slovenské ochotnícke divadlo 1830–1980. Bratislava, 1983. 504 p. (In Slov.)
- Chmelko A. V zajatí Tálie. Bratislava: Slovenský spisovateľ Publ.,1989. 332 p. (In Slov.)
- Jurčišinová N. Zameranie činnosti slovenského spolku Detvan v Prahe (1882–1914). Annales historici Presovienses, 2010, vol. 9, pp. 136–157. (In Slov.)
- Mistrík M. Ostrovského Les v Divadle Astorko-Korzo ’90. Teatro, 1996, vol. 2, no. 7–8, pp. 13. (In Slov.)
- Mráz A. (no title) Národné noviny, 11.2.1934, p. 6. (In Slov.)
- Mrlian R. Počiatky a rozvoj činohry Slovenského národného divadla. Pamätnica Slovenského národného divadla. : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry Publ., 1960, pp. 57–109. (In Slov.)
- Ostrovskij A.N. Hry v 3 zväzkoch. Bratislava, Tatran Publ., 1974–1977. (In Slov.)
- Ostrovskij A.N. Hry: Bankrot, Búrka, Výnosné miesto. Bratislava, Tatran Publ., 1982, 220 p. (In Slov.)
- Pašteka J. Dramatika v epoche realizmu. Bratislava, Tatran Publ., 1990, 408 p. (In Slov.)
- Peskova A.Iu. Slovatsko-russkije sviazi v oblasti dramaturgii i teatra. Pervaia polovina XX veka Mezhslavianskije kul’turnyje sviazi. Rezul’taty i perspektivy issledovanii, Moscow, 2021, pp. 290–302. (In Russ.)
- Peskova A.Iu. Dramaturgiia A.N. Ostrovskogo v Slovakii: k voprosu o perevode poslovits. Poslovitsy v teatral’noi dramaturgii i kinematografe slavianskikh stran, St. Petersburg, 2024, pp. 62–75. (In Russ.)
- Petzová-Pauliny-Tóthová H. Ako sme začínali v Bratislave. Slovenské divadlo, 1956, vol. 4, no. 1, pp. 27–48. (In Slov.)
- Podmaková D. Vzostupy a dozvuky tvorby režiséra Vladimíra Strniska na slovenských javiskách. Slovenské divadlo, 2021, vol. 69, no. 1, pp. 26–48. (In Slov.)
- Podmaková D. Smutný klaun Marián Zednikovič. Slovenské divadlo, 2023, vol. 71, no. 4, pp. 367–385. (In Slov.)
- Vajanský S.H. Nekrológ. Národnie noviny, 1886, no. 91. (In Slov.)