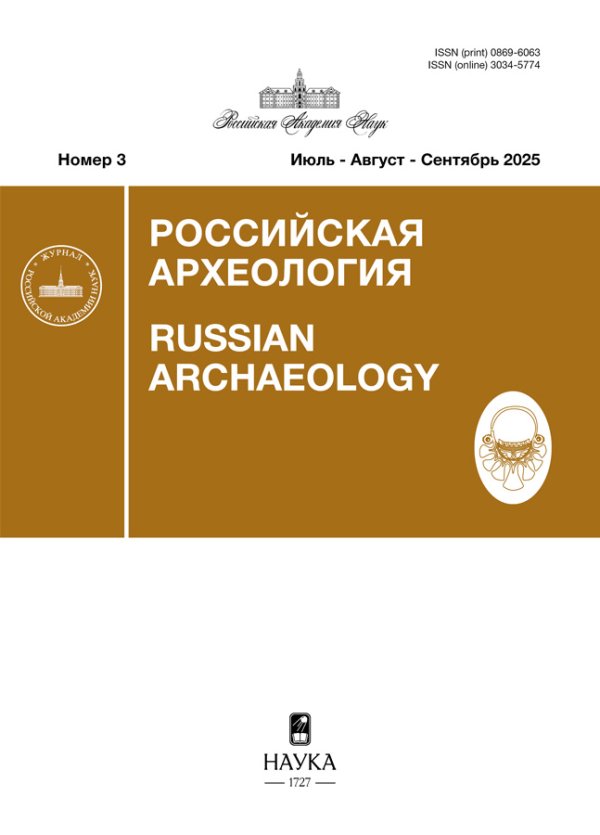Hillforts in the settlement system of the Sambian-Natangian culture of the South-Eastern Baltics in the 1st millennium AD
- Authors: Khomyakova O.A.1
-
Affiliations:
- Institute of Archaeology RAS
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 59-74
- Section: ARTICLES
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-6063/article/view/258221
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869606323040086
- EDN: https://elibrary.ru/IFCGSB
- ID: 258221
Cite item
Full Text
Abstract
The article discusses the settlement system of the Sambian-Natangian culture of the South-Eastern Baltic region in the 1st millennium AD, the role of hillforts in it, and the structure of individual settlement centres. Hillforts are considered as dominants in the cultural landscape; together with unfortified settlements and economic zones they formed single districts. Burial grounds were located on the periphery of such centres. Individual settlement centres produced clusters of sites in the locations of amber gathering on the Kaliningrad Peninsula, along the Pregol River and the Kaliningrad Bay coast, which were important for the control of transport routes. This system was quite stable and could exist for a long period during the 1st millennium, evolving into the settlement system of the early medieval Prussians.
Full Text
Структура и рельеф микрорегионов, степень обзора окружающей территории, ее восприятие определяют организацию пространства с точки зрения размещения поселенческих, погребальных, культовых объектов и оборонительных сооружений (Frachetti, 2006. Р. 128–147; Llobera, 2006. P. 148, 149; там же литература; Коробов, 2017. С. 88–105). Условия расположения памятников влияют на формирование культурного ландшафта и систему расселения, которая отражает уровень социальной организации общества, степень экономического воздействия на окружающую среду, уровень религиозных представлений.
Развитие системы расселения I тыс. у племен Юго-Восточной Прибалтики началось в первых веках н.э. в эпоху римских влияний, когда они стали частью центральноевропейского варварского мира. Активизация культурных процессов привела к росту мобильности социальных групп, необходимости организации пространства и контроля коммуникационных артерий. Естественные природные барьеры, возможность устройства искусственных защитных сооружений, доступ к наземным и водным путям сообщения и выгодное расположение на перекрестках транспортных коммуникаций – признаки, характеризующие поселенческие центры Восточной Прибалтики первой половины I тыс. (Zabiela, 1995. Р. 54–69; Lang, 2007. Р. 49–83, 262–265; Bliujienė, 2013. Р. 149–158).
Самбийско-натангийская культура I–V вв. (другое название – “культура Доллькайм-Коврово” (подробно см.: Хомякова, 2014. С. 163–172) (рис. 1, А, Б) занимала особое место среди культур западнобалтского круга. Ее географические и природные условия – выход к морю, наличие богатейших запасов янтаря на Калининградском полуострове – обусловили возможность торговых и культурных связей с провинциями Римской империи, культурами Центральной и Северной Европы. В эпоху римских влияний здесь находилась зона контактов, через которую распространился ряд инноваций в материальной культуре Прибалтики и западной части Восточно-Европейской равнины.
Рис. 1. Скопления памятников самбийско-натангийской культуры: A – скопления грунтовых могильников, Б – анализ полигонов Тиссена и буферных зон городищ: I – у современного пос. Янтарный (река Приморская), II – вдоль реки Светлогорка, III – междуречье рек Мотыль, Забава, Алейка, IV – междуречье рек Медвежья и Куровка, V – среднее течение реки Нельма, VI – нижнее течение реки Гурьевка, VII – вдоль побережья Калининградского (Вислинского) залива, VIII–XI – долина реки Преголя; городища, обсуждаемые в статье: 1 – Русское/ Ellerhaus, 2 – Русское/Germau, 3 – Грачевка/Craam, 4 – Богатое/Pokirben, 5 – Куликово/Kringitten, 6 – Геройское/ Eisliethen, 7 – Ветрово/Ekritten, 8 – Моршанское/Schreitlacken, 9 – Медведево/Klein Norgau, 10 – Кумачево/ Galgarben, 11 – Логвино/Medenau, 12 – Котельниково/Wargen, 13 – Заозерье/Rodmannshöfen, 14 – Московское/ Partheinen, 15 – Первомайское/Warnikam, 16 – Кудрявцево/Kuglacken. Условные обозначения здесь и далее на рисунках: T – полигоны Тиссена; B – буферные зоны (а – 500, б – 1000, в – 2000, г – 5000 м); D – плотность могильников (на 30 км) (1 – 1–2, 2 – 2–3, 3 – 3–5, 4 – 5–8); Г – городище, М – могильник, С – селище. Основа карт – цифровая модель рельефа с использованием SRTM данных, топографическая и геологическая карты генерального штаба Пруссии (Messtischblatt).
Fig. 1. Clusters of sites of the Sambian-Natangian culture: А – clusters of burial grounds, Б – analysis of the Thyssen polygons and buffer zones of fortified settlements
Имеющиеся представления о системе расселения самбийско-натангийских племен строятся на данных погребальных объектов. На основе характеристики могильников делаются выводы о ландшафтной приуроченности, пространственном расположении памятников всех типов региона в целом. Могильник рассматривается как центр микрорегиона и ключевой элемент социальной организации ландшафта (например: Okulicz, 1981. Р. 34, 35; Nowakowski, 1996. S. 48–54, 170; Кулаков, 2003. С. 29–46, 47–60, 272–285. Рис. 1, 2; Ibsen, 2022. P. 152).
Возникает ряд следующих вопросов. Достаточны ли данные о расположении и концентрациях грунтовых могильников для понимания организации культурного ландшафта в самбийско-натангийском ареале? Какие археологические объекты являются в нем доминантами? Какова роль городищ, неукрепленных поселений, могильников в организации культурного ландшафта и формировании поселенческих центров? Наконец, как могла выглядеть структура таких поселенческих центров?
Система расселения по данным расположения грунтовых могильников. Выделяются1 четыре-пять наиболее крупных ареалов концентраций могильников2 (подробно: Khomiakova, 2016. P. 62–69. Fig. 2, 3).
Скопления могильников формируются в I– II вв. н.э. у основания Самбийской возвышенности Калининградского полуострова (рис. 1, А). В III–IV вв. памятники данного типа распространяются вглубь полуострова вплоть до водораздельных территорий возвышенности Большие Горы (Альк). Могильники немногочисленны лишь в низменной слабо дренированной древнеаллювиальной равнине на юге полуострова, представляющей приустьевую часть древней долины Преголи.
Три наиболее крупных скопления могильников локализуются на западном и северном побережье Калининградского полуострова – исторической Самбии (рис. 1, А, I–III). Они расположены в местах сбора янтаря, выходов янтароносной “голубой земли” и приурочены к бассейнам малых рек. Среднее расстояние между могильниками в пределах этих скоплений не превышает 3 км, плотность – 6–9 памятников на 30 км2. Первое – находится в районе современного пос. Янтарный, вдоль реки Приморская (рис. 1, А, I); второе – в районе современных Светлогорска и Пионерского (рис. 1, А, II) и между реками Мотыль и Забава (рис. 1, А, III). Здесь, помимо выходов янтароносной глины, у мысов Купальный и Гвардейский находится естественная гавань, которая могла использоваться в древности для морской каботажной торговли (Кулаков, 2003. С. 121, 122). Третье скопление локализуется между реками Медвежья и Куровка, а также на правом берегу Тростянки (рис. 1, А, IV), устье которой расположено у пролива, в древности перерезавшего основание Куршской косы.
Менее концентрированные скопления находятся в среднем течении рек Нельма и Граевка (рис. 1, А, V), впадающих в Калининградский (Вислинский) залив, вдоль реки Гурьевка (рис. 1, А, VI). У побережья Калининградского залива группы могильников расположены в низовьях рек Преголя и Прохладная, а также у полуострова Бальга (рис. 1, А, VII).
В восточной части Самбии и на территории Надровии (современные Черняховский и Полесский районы) могильники приурочены к долине реки Преголи. Они локализуются в ее среднем течении в районе современного Гвардейска, вдоль Деймы (рукава Преголи) (рис. 1, А, VIII); у слияния с крупными притоками – Голубая, Глубокая (рис. 1, А–Б, 16); в районе слияния Инструча и Анграппы (рис. 1, А, IX).
Однако на этом возможности анализа грунтовых могильников с точки зрения изучения системы расселения исчерпываются. Их концентрации указывают, где могли располагаться центры расселения, но не объясняют, как могла выглядеть их структура.
Роль городищ, могильников и неукрепленных поселений в социальной организации ландшафта и формировании поселенческих центров. В теории центральных мест обитания типом памятников, которые могли выполнять функции центров власти, считаются укрепленные поселения на возвышенностях, представлявшие собой константу в ландшафте – городища (подробно: Nakoinz, 2010. S. 251–265; Webley, 2008. Р. 21–44; Renfrew, Bahn, 2012. Р. 173–176). По имеющимся данным, в эпоху римских влияний городища играли значимую роль в системе расселения Южной Скандинавии и Восточной Прибалтики. В их устройстве использовались природные особенности ландшафта, холмов, мысов, излучин рек (Christensen, 2011. Р. 93, 98; Lang, 2007. Р. 44–47; Vengalis, 2016. Р. 178–180).
По данным довоенных архивов в центральной части бывшей Восточной Пруссии с категорией городищ соотносится более 500 памятников (Wendt, 2011. P. 17–24). Установлено местоположение и имеются сведения о морфологии 136 городищ Калининградской области (подробно: Khomiakova, Skhodnov, Chaukin, 2018. Р. 29, 30; Ibsen, 2022. S. 144–146). Значительное их количество локализуется в местах указанных скоплений грунтовых могильников: около 40% – на Калининградском полуострове, 30% – в долине Преголи (Khomiakova, Skhodnov, Chaukin, 2018. Fig. 1).
Непосредственному изучению городищ самбийско-натангийского ареала долгое время не уделялось достаточного внимания. Однако в последние годы начато их активное исследование (Хомякова, 2018; Khomiakova, Skhodnov, Chaukin, 2018; Khokhlov, Zaltsman, Ibsen, 2020; Вокруг кольца, 2021; Ibsen, 2022). Получены данные радиоуглеродного датирования образцов почвы из культурного слоя ряда городищ (Ibsen, 2022).
Анализ ближайшего соседства показывает, что городища на Калининградском полуострове формируют скопления, в пределах которых присутствует хотя бы одно городище, функционировавшее в эпохи римских влияний и Великого переселения народов (рис. 1, Б).
В качестве активных элементов культурного ландшафта первых веков н.э. можно рассматривать городища Русское/Germau, Богатое/Pokirben, Медведево/Klein Norgau, которые функционировали еще с эпохи бронзы (рис. 1, Б, 2, 4, 7, 9), Грачевка/Craam, Куликово/Kringitten, Ветрово/Ellerhaus, Русское/Ekritten, Геройское/Eisliethen, использовавшиеся с эпохи раннего железного века (рис. 1, Б, 1, 3, 5, 6). На всех перечисленных городищах зафиксирован и культурный слой, датированный эпохой римских влияний и Великого переселения народов (Ibsen, 2022. Р. 152–152, Fig. 5, Tab. 1) и связанные с ними находки.
Городища находятся недалеко от мест концентраций могильников (рис. 2–5), но занимают другое место в ландшафте и расположены на территориях с другим геологическим строением почв.
Могильники на Калининградском полуострове преимущественно расположены на небольших неподтапливаемых возвышенностях, в долинах рек, на высотах значительно ниже городищ (рис. 2; 5, II). В долине Преголи и вдоль ее притоков они находятся на террасах коренного берега на небольших дюнных всхолмлениях.
Рис. 2. Расположение могильников и поселений относительно буферных зон городищ у пос. Янтарный: 1 – Русское/Germau, 2 – Окунево/Nodems, 3 – Гребитен/Grebieten, 4 – Поваровка/Kirpehnen-Galgenberge, 5 – Поваровка/Kirpehnen, 6 – Морозовка/Sacherau-Ellerhaus, 7 – Корьейтен/Corjieten, 8–9 – Гутен/Gauten, 10–12 – Путилово/Gauten, 13 – Поленен/Polehnen, 14 – Щорсово/Lengniethen, 15–17 – Сычево 1–3, 18 – Путилово 2.
Fig. 2. The location of burial grounds and settlements with respect to the buffer zones of fortified settlements near the village of Yantarnoye
Городища на западном и юго-западном побережье Калининградского полуострова у современного пос. Янтарный и в среднем течении реки Нельма локализуются на коренном берегу основания Самбийского плато вдоль приустьевой части древней долины Преголи (рис. 1, Б, I; 2). В центральной части полуострова – на конечно-моренной гряде Большие Горы (Альк) (рис. 1, Б, V).
В северной части полуострова городища расположены на возвышении Самбийского плато выше отметок 20 м над уровнем моря, на мысах в долинах нижнего течения рек Светлогорка (рис. 1, Б, II), Мотыль, Забава и Алейка (рис. 1, Б, III).
На цепочке моренных гряд у окончания Самбийской возвышенности находятся городища долины Преголи (рис. 1, Б, VI). У побережья Калининградского залива они локализуются на крутом повышении коренного берега на мысах в устьях или приустьевых долинах малых рек (рис. 1, Б, VII).
В Надровии городища локализуются вдоль Преголи, ее наиболее значимых притоков и Деймы, на возвышенных участках конечно-моренных холмов Инстручской гряды. По данным картографии вплоть до Нового времени этот регион был покрыт лесами, и для проживания здесь могли выбираться удобные участки вдоль речной долины в местах впадения притоков и у переправ. Анализ зон видимости показывает, что с городищ Надровии можно контролировать русло реки Преголя (Khomiakova, Skhodnov, Chaukin, 2018. Р. 92–96. Fig. 13, 15).
Данные о роли и месте городищ в системе расселения могут быть получены и путем моделирования их ресурсных зон. Рассматривая городища как образующие элементы культурного ландшафта, можно представить их 5-километровые буферные (ресурсные) зоны, разделенные на ближнюю округу (500–1000 м) и периферию (2000–5000 м) (подробно: Коробов, 2017. С. 34–35; там же литература).
Локализация неукрепленных поселений относительно городищ для самбийско-натангийской культуры возможна лишь по материалам наиболее изученных микрорегионов. Данные о поселениях всего культурного ареала недостаточны: количество поселений от общего числа учтенных памятников для Калининградской области составляет 39% (подробно: Khomiakova, 2016. P. 72–74).
Тем не менее имеющиеся сведения показывают зависимость расположения поселений и городищ. Большинство поселений расположено в ближней округе городищ на расстоянии до 2000 м (т.е. в 20 мин пешей ходьбы), и могут образовывать с ними единый комплекс. Неукрепленные поселения могут быть отделены от городищ небольшими водотоками, низкопойменными участками, которые могли использоваться в хозяйственной деятельности (рис. 2; 3, I; 4, I; 5, I, II).
Моделирование ресурсных зон не показывает прямой зависимости между расположением городищ и могильников. Погребальные объекты в большинстве расположены на их периферии (от 2.5 до 5.0 км) (см. буферные зоны на рис. 1, Б). Вероятно, наиболее принципиальной при выборе места для могильника была не близость к городищу, а топографическая ситуация и мировоззренческие/нематериальные факторы. Могильники занимают земли, непригодные для землепользования (песчаные возвышенности, дюнные всхолмления) (рис. 2; 4, I; 5, II). Как и в остальной Юго-Восточной Прибалтике (см.: Jaskanis, 1977. Р. 38–39, 42), они находятся в прямой видимости от какого-либо водоема или водной артерии. В мировоззренческой традиции западных балтов воде придается сакральное значение, как стихии, через которую мог осуществляться вход мертвых в потусторонний мир (Bliujienė, 2013. P. 198, 199; там же литература).
Определенная система в расположении могильников относительно укрепленных поселений прослеживается при построении полигонов Тиссена вокруг городищ3 (рис. 1, Б). Погребальные объекты равномерно распределены по всей анализируемой поверхности, но локализуются внутри зон влияния городищ, функционировавших в первой половине I тыс.
Могильники самбийско-натангийской культуры у пос. Янтарный находятся в полигоне городища Русское/Germau (рис. 1, Б, I). В северной части полуострова центрами таких зон являются городища Грачевка/Craam и Богатое/Pokirben, Куликово/Kringitten и Геройское/Eisliethen (рис. 1, Б, II, III). В восточной части северной Самбии наибольшее количество могильников находится в зонах влияния городищ Ветрово/Ekritten, Моршанское/Schreitlacken (рис. 1, Б, IV).
К зонам влияния городищ на гряде Альк – Кумачево/Galgarben, Логвино/Medenau, а также Котельниково/Wargen относятся могильники в среднем течении рек Нельма и Граевка (рис. 1, Б, V). В нижнем течении Гурьевки могильники расположены в полигоне городища Заозерье/Rodmannshöfen (рис. 1, Б, VI), а на побережье Калининградского залива – городищ Московское/Partheinen, Первомайское/Warnikam (рис. 1, Б, VII). Могильники в долине Преголи также концентрируются вокруг городищ (рис. 1, Б, VIII).
К изучению структуры поселенческих центров самбийско-натангийской культуры. Рассмотрим модели центров расселения на примере наиболее изученных микрорегионов с памятниками первой половины I тыс. всех указанных типов из центральной и периферийной частей культурного ареала: 1) в низовьях Преголи в районе слияния с ней реки Гурьевка (подробно – Хомякова, 2013) (рис. 1, Б, VI; 3); 2) в среднем течении Преголи в районе слияния Преголи и Глубокой (подробно – Khomiakova, Skhodnov, Chaukin, 2018. Р. 11; Хомякова, 2018; 2020) (рис. 1, Б, 16; 4); 3) на севере Самбии в районе пос. Романово (Хомякова, 2016б. С. 25–31 (каталог объектов); Вокруг кольца, 2021) (рис. 1, Б, III; 5).
В низовьях реки Гурьевка в эпоху римских влияний могло функционировать городище Заозерье/Rodmannshöfen (рис. 3, I–III). Ф.Д. Гуревич, в 1949 г. в шурфе на площадке городища зафиксировала культурный слой мощностью около 0.5–0.6 м и фрагменты лепной керамики, в том числе венчиковые части сосудов с защипами и фрагменты чернолощеных сосудов (Гуревич, 1960. С. 43. Рис. 70, 2), соотносимые с II–V вв. н.э. (например: Nowakowski, 1996. Taf. 1: 6, 8, Karte 10; Кулаков, 2003. Рис. 105) (рис. 3, IV, 5, 7, 8). О наличии слоя с фрагментами лощеной керамики сообщает и В.И. Кулаков (1985. С. 10). В ближайшей округе городища обнаружены предметы, датирующиеся II–III вв. н.э. (Хомякова, 2013. С. 94, 95. Рис. 3) (рис. 3, IV, 1–4, 6).
Рис. 3. Микрорегион у оз. Чистый Пруд: I – Модель центра расселения (1 – Заозерье/Rodmannshöfen; 2 – Ялтинская улица/Kupferberg; 3 – Октябрьский/Liep; 4 – Кумачево/Tropitten; 5 – Большое Исаково/Lauth; 6 – Заозерье/ Lapsau; 7 – Авангардное/Dossiten; 8 – Поддубное/Neidtkeim-Fürstenwalde; 9 – Родники 1/Käpphen bei Preußisch Arnau; 10 – Большое Исаково 1; 11 – Кумачево; 12 – Большое Исаково; 13 – Заозерье 2; 14 –Заозерье 1; 15 – Большое Исаково 2; 16 – Заозерье 3; 17 – Заозерье 4; 18 – Заозерье 5; 19 – Марьино/Arnau; 20 – Родники 1; 21 – Родники 2; 22 – Солнечное; 23 – Прибрежное 1; 24 – Прибрежное 2; 25 – Солнечное/Praddau; II–IV – городище Заозерье: II – космоснимок; III – топоплан; IV – находки из округи городища (1, а, б – цепь и наконечник рога для питья; 2 – “глазчатая” фибула; 3, 4 – копья; 5, 7, 8 – фрагменты лощеных лепных сосудов; 6 – топор (1–4, 6 – по: Хомякова, 2013; 5, 7, 8 – © Калининградский областной историко-художественный музей).
Fig. 3. A microregion near Lake Chisty Prud
Площадка городища имеет размеры 60 × 45 м, находится на мысу, при впадении безымянного ручья в Чистый Пруд Гурьевки. Высота площадки 15 м от основания (рис. 3, II). С северной напольной стороны городище ограждено тремя валами. Наружные валы высотой до 2 м, отделяются рвом около 2.5–3 м шириной и 2 м глубиной, внутренний вал высотой до 5–6 м (рис. 3, III).
Четыре поселения первых веков I тыс. расположены южнее городища, на первой и второй надпойменных террасах Чистого Пруда, в ближней округе на расстоянии не далее 1.5–2.0 км от него. Расстояние между поселениями составляет 500–800 м (рис. 3, I, 13, 14, 16–18).
В зоне влияния городища расположены могильники Большое Исаково/Lauth, занимающий верхнюю часть склона моренной возвышенности (рис. 3, I, 5), Заозерье/Lapsau (рис. 3, I, 6), локализованный на вершине холма. На указанных памятниках найдены предметы, указывающие на высокий статус погребенных (подробно: Хомякова, 2013. С. 92–94. Рис. 2), среди которых – детали рога для питья с выемчатыми эмалями, оружие (рис. 3, IV, 1, а, б). Погребальные памятники находятся на обоих берегах Чистого Пруда на расстоянии 300–500 м от водотока. На периферии буферной зоны городища находится еще несколько могильников (рис. 3, I, 3, 4, 7, 8).
Следующий рассматриваемый микрорегион расположен на северном, правом берегу р. Преголи восточнее слияния с ней р. Глубокой (рис. 4, I–III). Его центром могло быть городище Кудрявцево/Kuglacken I – начала II тыс. н.э. (SMB-PK MVF4, PM-IXh 00164a; Hollack, 1908. С. 80; Кулаков, 1974. С. 7. Рис. 2, 29–33). В 2018–2020 гг. нами в ходе разведки с площадки и склонов городища получено большое количество керамического материала самбийско-натангийской и раннесредневековой культур пруссов (Хомякова, 2018. Рис. 16–32) (рис. 4, IV, 1–5, 7).
Рис. 4. Микрорегион у деревни Кудрявцево: I – модель центра расселения; II, III – модель микрорегиона у городища Кудрявцево/Kuglacken (подготовил И.Н. Сходнов) (1 – Кудрявцево/Kuglacken, 2 – Кудрявцево 2, 3 – Кудрявцево 3, 4 – Яковлево/Ilischken); IV – находки: 1–7 – с площадки и ближайшей округи городища (1–3, 6 – площадка городища, 4, 5, 7 – селище Кудрявцево 2); 8–11 –из могильника Яковлево/Ilischken (1–5 – фрагментированные лепные сосуды, 6, 10 – детали конского снаряжения, 7 – пряслице, 8 – римский нож – pugio, 9 – фибула, 11 – умбон щита; 1–5, 7 – керамика, 6, 9 – бронза, 8, 10, 11 – железо) (1–5, 7 – по: Хомякова, 2018; 6, 8–11 – по: Архив Г. Янкуна: H. Jahnkuhn, Archive–Scientific archives of Herbert Jahnkuhn, Archäologisches Landesmuseum Schloß Gottorf in Schleswig).
Fig. 4. A microregion near the village of Kudryavtsevo
Городище расположено в 0.5 км к северу от русла Преголи, на возвышенности, на мысу при слиянии ручья и притока Преголи – Подлесной. Размеры городища 125 × 90 м, прямоугольной площадки – 87 × 48 м. Высота от подошвы составляет 16 м. С напольной северной стороны прослеживаются следы вала высотой 1–2 м и оплывшего рва (рис. 4, II, III).
В близлежащей округе городища на расстоянии не более 500 м локализованы поселения Кудрявцево 2, 3 (рис. 4, I, II), где обнаружена керамика, аналогичная найденной на площадке городища (рис. 4, IV, 4, 5). Поселения, расстояние между которыми около 400 м, занимают надпойменные террасы небольших притоков Преголи (рис. 4, III).
Размеры зоны проживания, расположенной вплотную к городищу, составляют 113 × 134 м, с запада и востока она ограничена склонами моренной гряды. На противоположном от городища берегу ручья на уступе коренного берега Преголи локализуется еще одна зона расселения (рис. 4, II). В 2.4 км севернее городища на левом берегу Подлесной на песчаной дюне находится могильник Яковлево/Ilischken. С могильника происходят находки, датированные I–III вв. (Хомякова, 2020. С. 28–39. Рис. 104), в том числе предметы римского импорта (рис. 4, IV, 8–11).
Модель данного центра показательна для системы расселения региона в целом. В эпоху римских влияний он был компактным и при этом принадлежал общине “высокого” социального статуса. Городище занимает доминирующее положение, возвышаясь над округой на берегу коренного берега реки (рис. 4, II). Анализ зон видимости показывает, что с городища просматривается большой участок долины реки Преголя в районе ее слияния с притоком Глубокая (Khomiakova, Skhodnov, Chaukin, 2018. Fig. 13). Ландшафтная ситуация в Надровии, вероятно, диктовала условия расположения зон хозяйственного освоения. В отличие от Самбии, они имели небольшие размеры, находясь в наиболее пригодных для проживания местах. На границе ближней округи городища и его периферийной зоны расположен могильник, связанный с зоной проживания водной артерией (рис. 4, I).
Одним из наиболее изученных по числу памятников археологии является микрорегион на севере Самбии у пос. Романово (Хомякова, 2016б. С. 25–31 (каталог объектов); Вокруг кольца, 2021. С. 15–18) (рис. 5).
Рис. 5. Микрорегион на севере Самбии в районе реки Алейка: I – модель центра расселения; II – расположение памятников в пределах 5 км буферных зон городищ (1 – Куликово/Kringitten; 2 – Геройское/Eisliethen; 3 – Романово 2/Diewens; 4 – Куликово 1; 5 – Куликово 2/Sorthenen; 6 – Сортьенен 1, 3; 7 – Алейка 3; 8 – Алейка 7; 9 – Шумное; 10 – Айслиттен I–II; 11 – Шумное 2–3; 12 – Рощино 1; 13 – Куликово 2/Strobjehnen; 14 – Шумное 1; 15 – Коврово/Nautzau; 16 – Коврово/Dollkeim; 17 – Михелау; 18 – Наутцау-Кадигсберг; 19 – Каменка; 20 – Трансау, 21 – Куликово 3; 22 – Куликово 4; 23 – Береговое; 24 – Куликово 8a; 25 – Куликово 8; 26 – Куликово 5; 27 – Алейка 1; 28 – Куликово 6; 29 – Куликовo 1; 30 – Куликово 2, 2а; 31 – Куликово 9; 32 – Куликово 7; 33 – Шумное 4; 34 – Шумное 1; 35–37 – Шумное 2–4; 38 – Рощино; 39 – Коврово 4; 40 – Коврово 2; 41 – Коврово 3; 42 – Сиренево; 43 – Кунтерштраух; 44 – Алейка 2; 45 – Шумное 6; 46 – Рощино 1; 47 – Береговое 2; 48 – Береговое 1, 3; 49 – Куликово 12; 50 – Куликово 6; 51, 52 – Зольное 1, 2; 53, 54 – Хелле 1, 2; 55 – Романово 1; 56 – Геройское 5, 6; 57 – Алейка 5; 58 – Заостровье); III – городище Айслиттен, фото; IV – городище Куликово/ Kringitten, топоплан (III, IV – по: Вокруг кольца, 2021. Рис. 4, 11).
Fig. 5. A microregion in the north of Sambia in the Aleyka River region
Его центрами могли быть городища Геройское/Eisliethen и Куликово/Kringitten (рис. 5, I–II, 2, 5). На городище Геройское/Eisliethen присутствуют слои III–V вв. (Ibsen, 2022. Р. 163. Tab. 1). Расположенное на мысу притока Алейки городище возвышается над округой и отделено с напольной стороны земляным валом и рвом (рис. 5, III). Размеры площадки – 50 × 35 м, высота около 20 м (Khokhlov et al., 2020. Р. 7). К VI–VIII вв. относится городище Куликово/Kringitten, расположенное на левом высоком берегу притока Алейки (Вокруг кольца, 2021. С. 24; Ibsen, 2022. Р. 163. Tab. 1). Площадка городища овальной формы размерами 60 × 35 м, высотой 7–15 м. С напольной стороны площадки находится подковообразный вал высотой 2 м (рис. 5, IV).
Поселения первой половины I тыс. занимают наиболее пригодные для хозяйствования участки: широкие понижения пологих моренных холмов, террасы небольших рек и ручьев находятся у низкопойменных участков на расстоянии 400–800 м друг от друга (рис. 5, II). Спорово-пыльцевые исследования отложений склонов поселений Зольное 1, Алейка 1–2, Геройское, Куликово 8а (рис. 5, I–II, 24, 27, 51) указывают на следы подсечно-огневого земледелия первой пол. – сер. I тыс., осушение заболоченных почв. Ландшафты в этот период характеризуются как “полуоткрытые”, долины рек были заняты черноольшаниками, произрастающими на вырубках и заброшенных угодьях, но многочисленными были дуб и липа (Спиридонова, Алешинская, Кочанова, 2013. С. 219–220; Ершова, 2021. С. 70–74).
Неукрепленные поселения, на которых обнаружены материалы эпохи римских влияний, группируются вблизи городища Геройское/Eisliethen (500–1000 м) (рис. 5, I–II, 27, 44, 51, 52), на максимальном расстоянии до 2000 м (рис. 5, I–II, 33, 45). Поселения второй половины I тыс. тяготеют к округе городища Куликово/Kringitten, куда в раннем Средневековье смещается центр микрорегиона (рис. 5, I–II, 30–32). На наиболее высоких точках рельефа расположены поселения конца I – начала II тыс. (рис. 5, I–II, 24, 25).
Могильники самбийско-натангийской культуры локализуются на песчаных возвышенностях в долине и вдоль реки Алейка и ее безымянного притока на удалении до 200 м (рис. 5, II). Содержащие материалы II–V вв. могильники Алейка 3, 7 и Геройское 5/Eisliethen I–II, расположены на расстоянии более 1 км от городища Геройское/Eisliethen и отделены от него водотоками (рис. 5, I–II, 7, 8, 10). На периферии микрорегиона расположены могильники Куликово 2, Рощино, Шумное (рис. 5, I–II, 5, 9, 12). Продолжавший функционировать в V–VII вв. могильник Алейка 7 с погребениями высокого социального статуса в этот период мог оказаться на периферии зоны влияния городища Куликово/Kringitten. Захоронения IX–XII вв. обнаружены в Куликово 2, Геройское 5, Алейка 3 (рис. 5, I, 5, 7, 10), когда указанные могильники занимают периферию функционировавших в данное время городищ Романово 1 и 2 (рис. 5, I, 3, 20).
Городища самбийско-натангийского ареала I тыс. н.э. в большинстве имели относительно небольшие размеры. Подобно похожим укрепленным поселениям на территории Южной Скандинавии и Прибалтики (Wendt, 2009. S. 162, 163; Christensen, 2011. Р. 93, 98; Lang, 2007. Р. 44–47; Vengalis, 2016. Р. 178–180), они могли иметь простую конструкцию из валов, рвов и деревянного частокола (рис. 3, II, III; 4, III; 5, III, IV). Но, несмотря на это, именно памятники данного типа могли играть роль элементов, организующих пространство в системе расселения самбийско-натангийской культуры, состоящей из скоплений неукрепленных поселений и могильников (рис. 1, Б). Городища занимали доминирующее положение в ландшафте, располагаясь на выгодных участках рельефа, мысах, излучинах рек (рис. 2; 3, II; 5, II), и могли использоваться как городища-убежища в момент опасности, как ремесленные центры, места сбора, обмена, культа.
При формировании центров расселения самбийско-натангийской культуры наиболее важной, вероятно, была организация зон проживания и ресурсных зон (рис. 3–5). Поскольку в первой половине I тыс. у местных племен не прослеживается признаков интенсивной системы землепользования, поселения локализуются в ближней округе городищ на участках, наиболее пригодных для проживания и хозяйственной деятельности (рис. 3, I; 4, I–III; 5, II). Экстенсивное хозяйствование с подсечно-огневым земледелием, рыболовство, необходимость выпаса скота, доступ к водным артериям могли обусловить наличие в ближней округе городищ нескольких поселений в радиусе 400–800 м (рис. 3, I; 4, II; 5, I). Такая картина, например, представлена в северной Самбии, в долине р. Алейка. По имеющимся данным, самбийско-натангийские племена использовали дома каркасно-столбовой конструкции с отопительными сооружениями-печками (Кулаков, 2003. С. 117; Khomiakova, Skhodnov, Chaukin, 2018. Р. 10–11; Хомякова, 2021. С. 161–167. Рис. 2, 3). При необходимости, например при изменении природных условий, зона проживания могла быть перенесена на другое место. По данным планиграфии зона расселения II–V вв. на поселении Шумное 6 имела небольшие размеры (Вокруг кольца, 2021. С. 53. Рис. 66). Компактной была и исследованная нами хозяйственная зона III–V вв. на поселении Ильичевка 1 (Хомякова, 2021. С.161, 162. Рис. 2).
Расположение могильников, вероятно, более связано с мировоззренческими факторами и топографической ситуацией, а близость к укрепленному поселению не являлась определяющей. Исключение – наиболее густонаселенные центры, где могло проживать несколько общин, и одновременно функционировать несколько принадлежавших им могильников (рис. 2; 5, II). Большинство могильников расположено на периферийных участках ресурсных зон городищ, но в границах их зон влияния (полигонов Тиссена) (рис. 1, Б), т.е. в пешей доступности от условного центра микрорегиона.
Скопления памятников самбийско-натангийской культуры в первых веках н.э., вероятно, могли представлять собой локальные центры с признаками центральных мест обитания (см.: Nakoinz, 2010. Р. 252). Можно возразить, что культурный слой самбийско-натангийских городищ и поселений, как правило, не содержит предметов культуры престижа. Известны лишь отдельные находки “высокого социального статуса” и элитных импортов. Однако такая ситуация не уникальна для культур европейских варваров. Модель системы расселения, где на поселениях не прослеживается следов неравенства и образования элиты, известна по материалам Скандинавии первой половины I тыс. Находки культуры “престижа” присутствуют там на могильниках (Wickham, 2005. Р. 495–514). Расположение погребений более высокого социального статуса используется для локализации центров власти у центральноевропейских варваров эпохи Великого переселения народов (например: Steuer, 2009. Р. 203).
Самбийско-натангийские захоронения высокого социального статуса известны с раннеримского времени. В I–II вв. они представлены женскими погребениями с многочисленными элементами убора провинциально-римского облика и мужскими, сопровождаемыми предметами всаднической культуры и конскими захоронениями (Кулаков, 2003. С. 71–94; Хомякова, 2016а. С. 43. Рис. 4). Их расположение совпадает с выделенными скоплениями памятников (рис. 1, А–Б, I–VII). На Калининградском полуострове расстояние между ними не превышает 5 км. На могильниках побережья Калининградского залива они также найдены на незначительном расстоянии друг от друга (5–10 км). Вдоль Преголи и Деймы такие погребения известны уже на большем расстоянии – до 15–20 км. Аналогичным образом характеризуется и расположение богатых погребений эпохи Великого переселения народов (Казанский, Зальцман, Скворцов, 2018. С. 33, 40, 41. Рис. 38, 1–10; Скворцов, 2022. С. 237–241. Рис. 189, 190).
Система расселения самбийско-натангийских племен являлась отражением уровня развития ее социальной структуры, которая в первых веках н.э. характеризовалась формами примитивного вождества с институтом “богатых семей” (Хомякова, 2016а. С. 43–45; 2022. С. 113–114). Таким образом, она могла представлять собой концентрацию нескольких крупных центров расселения на Калининградском полуострове и расположенных в радиусе 20–30 км от них более мелких (рис. 1, Б). Такие локальные центры могли принадлежать одной или нескольким (родственным) более и менее богатым общинам. Похожие принципы формирования центров расселения в римское время и эпоху Великого переселения народов прослеживаются у народов Северной Европы (Myhre, 1987. Р. 185; Jørgensen, 2011. P. 77, 78).
Вероятно, эти группы памятников, сформировавшиеся на этапе самбийско-натангийской культуры в I–V вв., в эпоху раннего Средневековья затем развились в поселенческие центры культуры пруссов (например: Кулаков, 2003. С. 118–123. Рис. 37; Вокруг кольца, 2021. С. 16, 17). Городища, расположенные в ключевых и удобных местах для обитания, обмена, контроля коммуникаций, могли играть роль условных центров таких сообществ общин.
1 При моделировании использовался модуль ”Spatial Analyst” ArcView пакета программ ArcGIS 10.6.1. В статье используются термины: анализ плотности ядер (kernel density), ресурсные буферные зоны (buffer zones), полигоны Тиссена (Thiessen), зоны видимости (field-of-view) (подробно, например: Коробов, 2017. С. 34, 35, 89, 92, 102–104, там же литература).
2 Использованы данные о расположении 261 могильника.
3 Из-за неясности наличия/отсутствия иерархии городищ самбийско-натангийской культуры мы исходим из того, что микрорегионы равнозначны между собой.
4 SMB-PK MVF – Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin.
About the authors
Olga A. Khomyakova
Institute of Archaeology RAS
Author for correspondence.
Email: olga_homiakova@gmail.com
Russian Federation, Moscow
References
- Bliujienė A., 2013. Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 750 p. (Lietuvos archeologija, III).
- Christensen K., 2011. Fertile Central Zealand – Iron Age settlement at Ringsted. The Iron Age on Zealand: Status and Perspectives. L. Boye, ed. Copenhagen: Royal Society of Northern Antiquaries, pp. 268–270.
- Ershova E.G., 2021. Results of spore-pollen studies of the vicinity of the Prussian settlements in the north of Sambia. Vokrug kol’tsa. Poseleniya estiev i prussov na severe Sambii [Around the ring. Settlements of the Aestii and Prussians in the north of Sambia]. N.A. Krenke, ed. Moscow: Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk, pp. 70–74. (In Russ.)
- Frachetti M., 2006. Digital archaeology and the scalar structure of pastoral landscapes: Modeling mobile societies of prehistoric central Asia. Digital Archaeology: Bridging Method and Theory. T.L. Evans, P.T. Daly, eds. London: Psychology Press, pp. 128–147.
- Gurevich F.D., 1960. From the history of the South-East Baltic in the 1st millennium AD (Based on the materials of Kaliningrad Region). Drevnosti severo-zapadnykh oblastey RSFSR v pervom tysyacheletii n.e. [Antiquities of the northwestern regions of the RSFSR in the first millennium AD]. M.A. Tikhanova, ed. Moscow; Leningrad: Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, pp. 328–451. (Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR, 76). (In Russ.)
- Hollack E., 1908. Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreußen. Glogau; Berlin: Flemming. 234 p.
- Ibsen T., 2022. Spatial and temporal distribution of hillforts on the Sambian peninsula in Russia. Fortifications in their Natural and Cultural Landscape: From Organising Space to the Creation of Power. T. Ibsen, K. Ilves, eds. Bonn: Habelt, pp. 141–166.
- Jaskanis J., 1977. Cmentarzyska kultury zachodniobaltyjskiej z okresu rzymskiego. Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, IV. Warszawa, pp. 239–350.
- Jørgensen L., 2011. Gudme-Lundeborg on Funen as a model for northern Europe. The Gudme/Gudhem Phenomenin. O. Grimm, A. Pesch, eds. Neumünster: Wachhiltz, pp. 77–90. (Schriften des Archäologischen Landesmuseums, 6).
- Kazanskiy M.M., Zal’tsman E.B., Skvortsov K.N., 2018. Rannesrednevekovyy mogil’nik Zaostrov’e-1 v Severnoy Sambii [Early medieval burial ground of Zaostrovye-1 in Northern Sambia]. Moscow: Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk. 312 p. (Materialy spasatel’nykh arkheologicheskikh issledovaniy, 22).
- Khokhlov A., Zaltsman E., Ibsen T., 2020. Eisliethen hillfort on the Alejka river in Sambia. The setting of fortifications in the natural and cultural landscape International workshop (5th and 6th of March 2020 in Schleswig, Germany): Abstracts. S. Messal, B. Maixner, T. Ibsen, eds. Schleswig, p. 7.
- Khomiakova O., 2016. The Landscape and spatial analysis of Roman Period archaeological sites at the Eastern border of Dollkeim-Kovrovo/Sambian-Natangian culture. Archaeologia Baltica, 23, pp. 58–80.
- Khomiakova O., Skhodnov I., Chaukin S., 2018. Hillforts of the Central Nadruvians: a case study of settlement patterns and social organization in former East Prussia in the first half of the 1st Millennium AD. Archaeologia Lituana, 19, pp. 78–99.
- Khomyakova O.A., 2013. The Rodniki (formerly Preußisch Arnau/Käpphen) graveyard and its place in the cultural landscape of Chistyi Prud microregion (Practice of preliminary analysis). Stratum plus, 4, pp. 91–103. (In Russ.)
- Khomyakova O.A., 2014. The Dollkeim-Kovrovo culture (Sambia-Natangiya): approaches to social definitions. Rossiyskaya arkheologiya [Russian archaeology], 1, pp. 163–172. (In Russ.)
- Khomyakova O.A., 2016a. Issues of social interpretation of burials with Sambian belts of the Roman period from the Dollkeim-Kovrovo culture region. Kratkie soobshcheniya Instituta arkheologii [Brief Communications of the Institute of Archaeology], 243, pp. 33–49. (In Russ.)
- Khomyakova O.A., 2016b. Otchet ob arkheologicheskikh razvedkakh v Chernyakhovskom, Pravdinskom i Zelenogradskom rayonakh Kaliningradskoy oblasti v 2016 godu [Report on archaeological surveys in Chernyakhovsk, Pravdinsk and Zelenograd districts of Kaliningrad Region in 2016]. Arkhiv Instituta arkheologii Rossiyskoy akademii nauk [Archive of the Institute of Archaeology RAS], R-1.
- Khomyakova O.A., 2018. Otchet ob arkheologicheskikh razvedkakh v Chernyakhovskom rayone Kaliningradskoy oblasti v 2018 godu [Report on archaeological surveys in Chernyakhovsk district of Kaliningrad Region in 2018]. Arkhiv Instituta arkheologii Rossiyskoy akademii nauk [Archive of the Institute of Archaeology RAS], R-1.
- Khomyakova O.A. Otchet ob arkheologicheskikh razvedkakh v Gvardeyskom i Chernyakhovskom rayone Kaliningradskoy oblasti v 2020 godu [Report on archaeological surveys in Gvardeysk and Chernyakhovsk districts of Kaliningrad Region in 2020]. Arkhiv Instituta arkheologii Rossiyskoy akademii nauk [Archive of the Institute of Archaeology RAS], R-1.
- Khomyakova O.A., 2021. The Ilyichevka 1 settlement of the Roman period and the early Middle Ages in Kaliningrad Region. Kratkie soobshcheniya Instituta arkheologii [Brief Communications of the Institute of Archaeology], 265, pp. 160–176. (In Russ.)
- Khomyakova O.A., 2022. Zhenskiy ubor sambiysko-natangiyskoy kul’tury I–IV vv. Analiz komponentov i khronologiya [Women’s attire of the Sambian-Natangian culture of the 1st–4th centuries AD. Component analysis and chronology]. Moscow: Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk. 320 p.
- Korobov D.S., 2017. Sistema rasseleniya alan Tsentral’nogo Predkavkaz’ya v I tys. n.e.: (landshaftnaya arkheologiya Kislovodskoy kotloviny) [The settlement system of the Alans of the Central Ciscaucasia in the 1st millennium AD: (landscape archaeology of the Kislovodsk Basin)], 1. Moscow; St. Petersburg: Nestor-Istoriya. 384 p.
- Kulakov V.I., 1974. Otchet po obsledovaniyu arkheologicheskikh pamyatnikov Kaliningradskoy oblasti [Report on the survey of archaeological sites of Kaliningrad Region]. Arkhiv Instituta arkheologii Rossiyskoy akademii nauk [Archive of the Institute of Archaeology RAS], R-1, № 5273.
- Kulakov V.I., 1985. Otchet o rabote Baltiyskoy ekspeditsii v 1985 godu [Report on the work of the Baltic expedition in 1985]. Arkhiv Instituta arkheologii Rossiyskoy akademii nauk [Archive of the Institute of Archaeology RAS], R-I, № 10913.
- Kulakov V.I., 2003. Istoriya Prussii do 1283 g. [History of Prussia before 1283]. Moscow: Indrik. 402 p. (Prussia Antiqua, 1).
- Lang V., 2007. The Bronze and Early Iron Ages in Estonia. Tartu: University of Tartu Press. 298 p. (Estonian Archaeology, 3).
- Llobera M., 2006. What you see is what you get? Visualscapes, visual genesis and hierarchy. Digital Archaeology: Bridging Method and Theory. T.L. Evans, P.T. Daly, eds. London: Psychology Press, pp. 148–169.
- Myhre B., 1987. Chieftain’s graves and chiefdom territories in South Norway in the Migration Period. Studien zur Sachsenforschung, 6. Hannover, pp. 169–187.
- Nakoinz O., 2010. Concepts of Central Place Research in Archaeology. Landscapes and Human Development: The Contribution of European Archaeology: Proceedings of the International Workshop “Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes” (1st–4th April 2009). J. Müller, ed. Bonn: Habelt, pp. 251–265. (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, 191).
- Nowakowski W., 1996. Das Samland in der Römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit den Römischen Reich und der barbarischen Welt. Marburg; Warszawa: Vorgeschichtliches Seminar der Philipps-Universität. 169 p. (Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg, Sonderband 10).
- Okulicz J., 1981. Osadnictwo ziem pruskich od czasów najdawniejszych do XIII wieku. Dzieje Warmii i Mazur w zarysie, 1. J. Sikorski, S. Szostakowski, eds. Olsztyn: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 6–80.
- Renfrew С., Bahn P.G., 2012. Archaeology: Theories, Methods, and Practice. 6th edition. London: Thames and Hudson. 656 p.
- Skvortsov K.N., 2022. Elitnye pogrebeniya estiev v epokhu Velikogo pereseleniya narodov [Elite burials of the Aestii of the Migration period]. Moscow: Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk. 476 p. (Materialy spasatel’nykh arkheologicheskikh issledovaniy, 29).
- Spiridonova E.A., Aleshinskaya A.S., Kochanova M.D., 2013. Environmental features and economic development of the Aleika River basin on the Sambian Peninsula from the Iron Age till the New Time. Kratkie soobshcheniya Instituta arkheologii [Brief Communications of the Institute of Archaeology], 229, pp. 217–226. (In Russ.)
- Steuer H., 2009. Die Herrschaftssitze der Thüringer. Die Frühzeit der Thüringer: Archäologie, Sprache, Geschichte. H. Castritius, ed. Berlin; New York: Walter de Gruyter, pp. 201–234.
- Vengalis R., 2016. Old and Middle Iron Age Settlements and Hillforts. A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. G. Zabiela, Z. Baubonis, E. Marcinkevičiūtė, eds. Vilnius: Lietuvos Archeologijos Draugija, pp. 160–181.
- Vokrug kol’tsa. Poseleniya estiev i prussov na severe Sambii [Around the ring. Settlements of the Aestii and Prussians in the north of Sambia]. N.A. Krenke, ed. Moscow: Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk, 2021. 284 p.
- Webley L., 2008. Iron Age Households: Structure and Practice in Western Denmark, 500BC–AD200. Aarhus: Aarhus University Press. 167 p.
- Wendt A., 2009. Die Burgwälle des Samlandes. The reception of Medieval Europe in the Baltic Sea Region. J. Staecker, ed. Visby: Gotland University Press, pp. 143–167. (Acta Visbyensa, XII).
- Wendt A., 2011. Samländische Burgwälle. Bonn: Habelt. 104 p. (Studien zur Archäologie Europas, 13).
- Wickham C., 2005. Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean. Oxford: Oxford University Press. 1018 p.
- Zabiela G., 1995. Lietuvos medinės pilys. Vilnius: Diemedis. 336 p.
Supplementary files