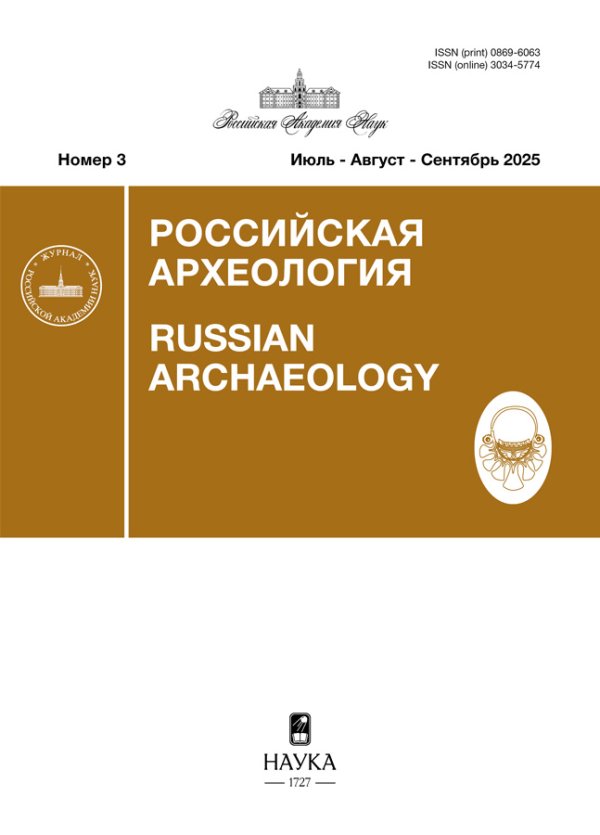Neolithic burial of a dog on Olkhon Island (lake Baikal)
- Authors: Kichigin D.E.1, Klementyev A.M.2
-
Affiliations:
- Irkutsk National Research Technical University
- Institute of the Earth’s Crust, Siberian Branch RAS
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 139-151
- Section: PUBLICATIONS
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-6063/article/view/258231
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869606324010098
- EDN: https://elibrary.ru/ZVXLEM
- ID: 258231
Cite item
Full Text
Abstract
In 2022, archaeological activities were conducted to clarify the boundaries of the multilayer Unkhrug 1 site located on Olkhon Island (Lake Baikal). In the lowest layer of one of the test pits, a burial of an ancient dog in an artificial pit was found with the remains of a red deer. This find is very rare for the Neolithic of the Baikal region. A morphometric study of bone remains, a comparative analysis with other skeletal materials, and radiocarbon and isotope analyzes were conducted. The data obtained made it possible to establish the individual characteristics of the buried dog and its possible diet. An individual burial with a ritual meat part of a red deer carcass inside indicates the special significance of this individual for the Neolithic inhabitants of Olkhon Island.
Keywords
Full Text
Стоянка Унхруг 1 расположена в юго-западной части одноименной бухты, в 0.25 км к западу от современной застройки д. Харанцы, и локализуется на террасовидных площадках пологого склона берега, на отметках 28–40 м над уровнем воды в оз. Байкал (рис. 1, 2).
Рис. 1. Местонахождение стоянки Унхруг 1, космоснимок местности.
Fig. 1. The location of the Unkhrug 1 site, satellite image of the area
Рис. 2. План стоянки Унхруг 1 с указанием археологических шурфов 2022 г. Глазомерная съемка Д.Е. Кичигина. Условные обозначения: а – границы турбазы; б – строение/здание; в – шурф без находок; г – шурф с находками.
Fig. 2. A plan of the Unkhrug 1 site indicating archaeological test pits of 2022. Eye sketch by D.E. Chichigin
Памятник открыт в 2003 г. отрядом (под руководством Г.В. Туркина) Лаборатории древних технологий Иркутского государственного технического университета1в результате обследования территории для землеотвода. В процессе работ заложено 6 шурфов (всего 12 м2). Археологический материал обнаружен во всех шурфах в слое черной гумусированной супеси на глубине 9–30 см от дневной поверхности. Наибольшая концентрация находок (133 из 141) – в шурфах 1 и 2, расположенных в северной части стоянки. Стратиграфическое разделение материала на уровни в границах одного геологического слоя – культурные слои 1 (кровля) и 2 (подошва) – прослежено только в шурфе 1. Среди находок – фрагменты гладкостенной керамики преимущественно без орнамента, кусочек железного шлака, битые кости диких и домашних животных. Предварительная датировка памятника – I тыс. н.э.
В 2017 г. отрядом (под руководством А.В. Харинского и Д.Е. Кичигина) Лаборатории в целях определения границ стоянки в ее северной части заложено 4 шурфа (всего 8 м2). Археологический материал выявлен во всех шурфах в слое черной гумусированной супеси на глубине 7–30 см. Среди находок – фрагменты гладкостенных сосудов, орнаментированных в привенчиковой зоне налепными валиками и прочерченными линиями, кусочки железных шлаков, небольшие гальки, фрагменты жженых и колотых костей животных. Датировка памятника по результатам этих работ не изменилась.
В 2022 г. тем же отрядом (под руководством Д.Е. Кичигина) на стоянке Унхруг 1 проводились работы по уточнению ее южной и восточной границ. Заложено 10 разведочных шурфов (20 м2) глубиной до 1.1 м (рис. 1, 2). Археологический материал выявлен в шурфах 2, 3, 6 и 10 в слое черной гумусированной супеси (1-й культурный слой, далее к.с., I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.) и подстилающем его слое серого песка (2-й к.с., VI–конец IV тыс. до н.э.).
Археологический материал 1-го к.с. представлен фрагментами керамики: гладкостенной, с налепными рассеченными валиками, с оттисками шнура на поддонах, украшенных налепными валиками (тышкинэ-сеногдинский тип); единичным обломком с оттисками отступающей лопаточки; медиальным сегментом призматической пластины из кремня, отщепами и сколами из кремня и кварцита, гальками; кусочками железных шлаков; игральными костями, фрагментами битых и жженых костей животных.
Немногочисленный материал 2-го к.с. выявлен в южной части стоянки (шурфы 2 и 3) и представлен фрагментом венчика от сосуда с отпечатками сетки-плетенки, орнаментированного рядом круглых отверстий и валиком под ним, призматическим нуклеусом из кремня, а также находками заполнения ямы погребения собаки.
По результатам работ 2022 г. удалось уточнить возраст стоянки, оказавшейся более древней, чем предполагалось ранее. Нижняя граница 1-го к.с. теперь соответствовала концу позднего бронзового века (первая треть I тыс. до н.э.). Выявлен 2-й к.с. эпохи неолита в южной части стоянки (VI–конец IV тыс. до н.э.). Редкая находка – погребение собаки в этом слое.
Цель статьи – введение в научный оборот материалов шурфа 3 (2022 г.) стоянки Унхруг 1 и анализ остеологического материала заполнения ямы погребения собаки.
Шурф 3 (глубина 1 м, размеры 2 × 1 м, ориентирован по линии С–Ю) заложен в южной части обследуемой территории, на террасовидной площадке пологого склона северной экспозиции. Его стратиграфия (рис. 3, 4, 5):
№ | Геологические отложения | Мощность, м |
1. | Черная гумусированная опесчаненная супесь с четкой нижней границей (1-й к.с.). | 0.18–0.23 |
2. | Серый песок с нечеткой нижней границей, с многочисленными темно-серыми и черными пятнами – следами ходов растений и землеройной фауны (2-й к.с.). | 0.21–0.67 |
3. | Серовато-желтый песок с четкой нижней границей. | 0.06–0.42 |
4. | Тяжелый запесоченный суглинок светло-бурого цвета с включением крупных плит кварцита. | более 0,22 |
Рис. 3. Стоянка Унхруг 1, шурф 3. 1 – планиграфия находок; 2 – верхний уровень заполнения ямы (кости благородного оленя); 3 – нижний уровень заполнения ямы (погребение собаки); 4, 5 – стратиграфия бортов шурфа.
Fig. 3. The Unkhrug site 1, test pit 3
Рис. 4. Археологический материал шурфа 3. 1–3 – 1-й культурный слой; 4, 5 – 2-й культурный слой (нижний уровень заполнения ямы).
Fig. 4. Archaeological material from test pit 3
Выявлено два культурных слоя. Первый – на глубине 10–17 см, приурочен к средней части и подошве черной гумусированной супеси. Среди находок – 27 фрагментов гладкостенной керамики, 3 гальки, медиальный сегмент призматической пластины из кремня (рис. 4, 3), 10 фрагментов битой и обожженной кости. Керамика – фрагменты от двух сосудов, один из которых (26 фр.) орнаментирован налепным рассеченным валиком под венчиком (рис. 4, 1), другой (1 фр.) – рядами отступающего прямоугольного орнаментира (рис. 4, 2).
Гладкостенная керамика с налепными валиками (рис. 4, 1) известна на разных памятниках всего побережья Байкала и датируется исследователями, как правило, второй половиной I тыс. до н.э. – первой половиной I тыс. н.э. (Харинский, 2005; Кичигин, 2010).
Небольшие фрагменты керамики (рис. 4, 2), украшенные рядами оттисков орнаментиров с разными рабочими краями (округлый, треугольный, прямоугольный и т.д.), часто интерпретируемых как “отступающая лопаточка”, датировать узким хронологическим диапазоном практически невозможно. Подобная посуда отмечена в комплексах неолита (конец VII – конец IV тыс. до н.э.) и бронзового века (конец IV тыс. – первая треть I тыс. до н.э.) всего байкальского побережья (Кичигин, 2010; Харинский и др., 2015; Горюнова, Новиков, 2018).
Таким образом, 1-й к.с. стоянки Унхруг 1 смешанный и включает разновременный археологический материал. Нижнюю границу слоя можно определить рубежом II–I тыс. до н.э. На основании всего археологического материала, полученного в разные годы исследований на стоянке, общая датировка этого слоя сводится к периоду позднего бронзового – железного века, что соответствует I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.
Второй культурный слой приурочен к слою серого песка и представлен находками заполнения ямы погребения собаки. Сама яма в разрезе трапециевидной формы, сужающейся ко дну. Глубина ее на фиксируемых “уровнях” – 43–44 см. Включает два уровня заполнения – верхний (кости благородного оленя) и нижний (остатки собаки). Выявить контуры ямы до расчистки костей первого уровня ее заполнения не удалось (рис. 3, 2, 3; 5, 6).
Верхний уровень заполнения ямы. На глубине 45–52 см от дневной поверхности в слое серого песка обнаружены компактной группой остатки благородного оленя (рис. 3, 2, 5). В результате их расчистки проявились контуры (неправильной формы) ямы, которые можно было проследить по гумусным темным пятнам на сером песке. Размеры ямы на этом уровне расчистки – 77 × 70 см. Бо́льшим диаметром яма вытянута по линии Ю–С (рис. 3, 2, 5). После изъятия фаунистических остатков верхнего уровня контуры ямы ниже прослеживались уже не так отчетливо.
Среди костей благородного оленя – позвонки шейного отдела, фрагменты рогов, дистальный отдел большой берцовой кости. На последней было возможным промерить лишь поперечник дистального эпифиза (45.9 мм), который немного превышает размах изменчивости позднеголоценовых оленей (39.1–41.8–45.4 мм, n = 7) Приморского хребта. Шейные позвонки плохо сохранились, удалось сделать отдельные промеры для второго позвонка. Длина его тела – 122.1 мм, ширина – 51.8, ширина зубовидного отростка на краниальном суставе – 41.4. Те же параметры этого позвонка для оленей Приморского хребта – соответственно 133.3 мм, 47.6–48.9 и 33.3–34.9. Положение шейных позвонков в яме позволяет предполагать их анатомическое захоронение, по крайней мере, в связочном каркасе, а возможно, и с мышечной массой.
Нижний уровень заполнения ямы. На глубине 77–88 см от дневной поверхности в слое серовато-желтого песка обнаружены остатки собаки практически в анатомическом порядке (рис. 3, 3, 6). Кости скелета сильно разрушены тафономическими факторами, что связано с хорошо аэрируемыми и дренируемыми песчаными отложениями, в которых погребена собака. Череп сильно разрушен, полностью сохранилась лишь правая сторона ростра с зубным рядом и правая ветвь нижней челюсти. В целом среди костей посткраниального скелета лучше сохранились элементы правой стороны тела: кости передних ног (от плечевой до фаланг), шейные позвонки, кости задних ног (от большой берцовой до фаланг), фрагмент лопатки, головка бедренной кости. Сохранились и когтевые фаланги, из чего следует вывод, что шкура с туши не снималась. Вероятно, была захоронена полная туша, о чем косвенно свидетельствует отсутствие позвонков, ребер, диафизов отдельных костей, которые разлагаются от присутствия объемных мягких тканей. Судя по ориентировке отдельных частей скелета, собака была погребена в свернутом “калачом” виде, на правом боку, мордой ориентирована на юг.
Вместе с остатками собаки обнаружены два скола кварцита (рис. 4, 4, 5), на одном из которых отмечена ретушь утилизации (рис. 4, 5). Объяснить назначение этих предметов в погребении собаки пока невозможно.
Рис. 6. Стоянка Унхруг 1, шурф 3. Нижний уровень заполнения ямы (остатки собаки), вид с юго-юго-востока.
Fig. 6. The Unkhrug 1 site, test pit 3. The lower level of the pit filling (remains of a dog), south-southeast view
Рис. 7. Радиоуглеродное датирование погребения собаки со стоянки Унхруг 1.
Fig. 7. Radiocarbon dating of the dog burial from the Unkhrug 1 site
По кости собаки получена радиоуглеродная дата 6730±23 лет назад, далее л.н. (OxA-42964), которая с учетом поправки на резервуарный эффект соответствует дате 6470±46 л.н., а после калибровки в программе OxCal v4.4.4. – возрасту 7426–7329 л.н. (68.3% достоверности) (рис. 7). В данном случае для поправки на резервуарный эффект использовано уравнение, разработанное для Верхней Лены, так как измерения по стабильным изотопам углерода и азота (δ13C = –19.2‰, δ15N = 11.1‰) указывают на рацион питания унхругской собаки, характерный не для населения Приольхонья, что примечательно, а как раз для групп неолита и бронзового века соседнего района Верхней Лены (Reimer et al., 2020; Bronk Ramsey, 2021; Schulting et al., 2022).
Самые ранние псовые в Прибайкалье, датируемые эпохой мезолита, известны по двум местонахождениям. На стоянке Усть-Хайта (долина р. Ангара) остатки собаки (почти целый скелет) обнаружены в культурном горизонте 9а без какого-либо помещения в яму и сопроводительного инвентаря. Вторая находка – это известное погребение волка на могильнике Локомотив в черте Иркутска (Савельев и др., 2001; Базалийский, 2012).
Остатки собак эпохи неолита в Прибайкалье отмечены в шести пунктах, непосредственно связанных с береговой линией Байкала (стоянки Посольская, могильники Шаманский мыс и стоянка Шаманка II) или речными системами озера – стоянки Падь Калашникова, Усть-Белая и Нижне-Березовская (Ивашина, 1979; Конопацкий, 1982; Losey et al., 2013).
На стоянке Падь Калашникова, которая включает и человеческие захоронения, обнаружено два погребения псовых. Вместе со скелетом собаки из ямы 2 найдены многочисленные артефакты, в пасть самой собаки был вложен камешек. Вторая собака на этой стоянке была захоронена в сидячем или скорченном положении без сопроводительного инвентаря (Losey et al., 2013).
Наибольшее количество древних собак выявлено на местонахождении Усть-Белая (долина р. Ангара). Выделяется погребение собаки (№ 1) с ожерельем из восьми подвесок из клыков благородного оленя и многочисленными костными остатками, среди которых лопатка полорогого (Bovidae), основание рога, два целых рога косули и другие неопознанные кости. В остальных случаях остатки собак, в том числе частично расчлененных, отмечены либо в слое, либо в мусорных ямах (Бердникова, 2001; Losey et al., 2013).
К востоку от Байкала погребения собак в небольших ямах отмечены на стоянках Посольская и Нижне-Березовская. На первой из них в раскопе 2 (1964 г.) помимо двух человеческих захоронений обнаружено погребение собаки, которая лежала на правом боку, головой на юг. Сверху ее скелет был засыпан рыбьими костями (Ивашина, 1979. С. 20, 40, 132).
На двух могильниках Предбайкалья – Шаманский мыс 1 (западное побережье Байкала, о. Ольхон) и Шаманка II (южное побережье Байкала) – остатки собак обнаружены в погребениях эпохи неолита непосредственно в могильной яме вместе с человеческими останками.
В 1972 г. А.П. Окладниковым при раскопках могильника эпохи неолита – раннего бронзового века Шаманский мыс 1 на о. Ольхон (4.9 км к западу-юго-западу от стоянки Унхруг 1), в погребении 3, выявлены скелеты двух собак, лежащих в анатомическом порядке на берестяном “покрывале”, под которым располагался скелет человека. Обе собаки были положены на правом боку и ориентированы, как и скелет человека, головами на восток (Конопацкий, 1982. С. 42–48. Рис. 43).
Еще одна особь обнаружена при раскопках могильника Шаманка II. В могиле 26, содержащей останки пяти индивидов, на дне могильной ямы обнаружены остатки собаки, лежащей на правом боку с сильно выгнутой спиной и прижатыми к телу ногами, ориентированной головой на север-северо-восток. Череп псового, правая нижняя челюсть, несколько элементов стопы и большая часть его шейных позвонков найдены отдельно в верхней части могильной ямы на том же уровне, что и некоторые человеческие останки и артефакты (Losey et al., 2011).
Как видно, в неолите Прибайкалья собака продолжала играть огромную роль в жизни человеческих коллективов, поскольку удостаивалась погребения не только в отдельных ямах в границах стоянок, но и в человеческих захоронениях. Более того, прослеживается ряд общих черт погребения собаки в неолите региона. Среди таких черт можно назвать доминирующий тип положения (на правом боку) и наличие погребальной пищи – как символической (камешек), так и реальной (кости млекопитающих и рыб).
Собака, обнаруженная при раскопках стоянки Унхруг 1, на наш взгляд, обладала высоким статусом, о чем свидетельствует индивидуальное захоронение целой туши, положение и ориентировка костей скелета, дислокация могилы на берегу водоема, присутствие шейного отдела туши благородного оленя в засыпке могильной ямы (верхний уровень заполнения ямы), что можно интерпретировать как погребальную пищу.
Таким образом, на сегодняшний день стоянка Унхруг 1 – один из менее десяти пунктов в Прибайкалье, на которых отмечены остатки скелета собаки эпохи неолита. Находка становится еще ценнее при анализе остеологического материала.
Возраст и пол особи. По индивидуальному возрасту скелет принадлежал старой собаке. Зубы, особенно клыки, сильно стерты и по этому признаку очень похожи на зубы собаки из могилы 26 могильника Шаманка II. На левой ветви нижней челюсти первый предкоренной зуб был сломан при жизни, сохранившийся корень его завальцован. По размеру костей скелета эта особь заметно мельче шаманского кобеля. Небольшие размеры костей скелета и отсутствие остатков бакулюма говорят в пользу женского пола особи.
Высота в холке и вес. Размерные характеристики костей скелета псовых позволяют вычислить высоту в холке с использованием коэффициентов, которые были предложены А. Браунером (Секерская, 2010). Для унхругской собаки высота по лучевой кости составляет 57 см, а по локтевой – даже 65. Применение предложенных формул для вычисления веса собак по краниодентальным показателям (Losey et al., 2015) привело к значительному разбросу полученных данных по черепу и нижней челюсти собаки со стоянки Унхруг 1. Они варьируются от 14.09 до 27.73 кг (8 промеров черепа) и от 14.34 до 26.04 кг (17 промеров нижней челюсти). Минимальные показатели получены по размерам зубов. В то же время средние значения веса по черепным промерам составили 21.55 кг, а по нижней челюсти – 21.02, что вполне может характеризовать размах колебаний предполагаемого веса унхругской собаки. При значительном росте в холке (50.9 см и выше) и весе около 20 кг ее можно отнести к средним собакам.
Размеры черепных элементов и зубов. Имеющиеся промеры черепа значительно уступают размерам черепов волков и большинству древних псовых. По длине ряда моляров, череп унхругской собаки практически идентичен черепу с Шаманки II и немного мельче черепа с Усть-Хайты. А по размеру хищнического зуба Р4 рассматриваемый череп и вовсе занимает промежуточное положение между ними. Различные промеры челюсти одновременно как превышают показатели усть-хайтинского экземпляра, так и уступают им, что может быть связано с индивидуальным биологическим возрастом особи.
Кости конечностей скелета в основном показывают размеры, идентичные с современной восточносибирской лайкой с р. Лена. Кобель с Шаманки II довольно крупный и значительно превышает размеры унхругской собаки, достигая по отдельным промерам некрупных волков. Из отличительных черт изученной собаки необходимо отметить мощный поперечник диафиза плечевой кости (идентичный с крупной шаманской собакой), хотя другие параметры этой кости вполне равноценны с современной ленской лайкой. Также необходимо обратить внимание на абрис нижней части диафиза малой берцовой кости у унхругской собаки: в отличие от современных лаек он массивный, не сужающийся кверху, несмотря на сходные размеры эпифизарного края. У собаки с Шаманки II он также очень широкий. Проследить этот признак для волков не удалось.
Пястные и плюсневые кости практически совпадают с промерами современной лайки с р. Лена и заметно меньше как волчьих, так и собачьих эпохи неолита из разных мест.
Питание. Несмотря на признаки высокого статуса захоронения собаки, мы принимаем тезис о подножном питании данной особи, по аналогии с современными домашними собаками сельских и таежных местностей Сибири. Свидетельством подножного питания этой собаки может служить отсутствие коронки левого нижнего первого предкоренного зуба, которая была утрачена при жизни особи, и оставшийся корень в альвеоле был завальцован. Потеря предкоренных зубов обычна у северных собак и составляет 8.07% (Losey et al., 2014). Здесь можно рассмотреть отличия питания собак у охотников и рыболовов. Рыбные кости, остающиеся после человеческих трапез, довольно мелкие и быстро уничтожаются собаками без травматических последствий для зубной системы. Исключение может представлять лишь замороженная рыба в зимний период, в том случае если она досталась собаке целиком. Среди охотничьей добычи встречаются мелкие и крупные млекопитающие, при этом мясная составляющая туши крупных копытных и медведя используется людьми, а прочные кости после грубой разделки и пищевого употребления имеют малокалорийную ценность даже для собак и оказывают травмирующее действие для их зубов. Такие ломаные травмы несет правый нижний клык унхругской собаки.
Еще одно свидетельство стрессовых событий в жизни собаки, в том числе недоедания, – гипоплазия. Здесь мы принимаем три категории развития гипоплазии, которые рассмотрены ранее в отношении собак Прибайкалья (Losey et al., 2014). На зубах собаки с Унхруг 1 наблюдаются лишь две категории, и их дислокация позволяет сделать интересные выводы. На внешней стороне коронок коренных зубов следы гипоплазии не наблюдаются. Дефекты ямочного типа отмечены на внутренней стороне правого четвертого премоляра, причем невооруженным взглядом они не отмечаются. Они были выявлены при увеличении под бинокулярной лупой. Разрушения эмали плоскостного типа наблюдаются в различной степени на клыках, на внутренних частях коронок всех правых верхних коренных зубов и трех передних правых нижних премоляров. Наиболее развита плоскостная эрозия эмали на клыках, где она сочетается с интенсивными фасетками стирания. Дислокация следов гипоплазии на предкоренных зубах и клыках, которые прорезываются у современных собак к 4–5 месяцам (у древних собак можно предполагать смещение к старшему возрасту, как у волков), позволяют уверенно предполагать неблагоприятные, стрессовые условия жизни особи в период формирования коронок постоянных клыков и премоляров. Разрушение эмали могло быть обусловлено голоданием или болезнью. Несмотря на сильное стирание коронок нижних правых коренных зубов, следы гипоплазии на них не выявлены.
Исследование стабильных изотопов углерода и азота в последние десятилетия служит для интерпретации пищевого рациона млекопитающих (Ambrose, 1993; Bocherens, Drucker, 2003). Среди волков и собак Байкальского региона показатели δ13C и δ15N особи со стоянки Унхруг 1 находятся в левом нижнем облаке рассеяния собак наземных собирателей, которые приближены к показателям голоценовых волков (Losey et al., 2022). Повышенное содержание δ15N, по сравнению с волками, как и у собак с Усть-Хайты и одной собаки с Усть-Белой (рис. 8), можно объяснить присутствием в пище разных составляющих: 1) рыбных отходов; 2) трупов рыбоядных птиц (чаек и бакланов) и нерп, повсеместно выбрасываемых на побережье Байкала; 3) остатков хищных млекопитающих (лисицы, соболя), на которых охотился человек ради меха. Как уже отмечено выше, измерения по стабильным изотопам указывают на рацион питания унхругской собаки, характерный для наземных охотников района Верхней Лены. Довольно близкие изотопные показатели (рис. 8) имели собаки с местонахождения Остров Лиственичный (Кузнецов и др., 2019), принадлежавшие наземным охотникам-собирателям.
Рис. 8. График значений δ13C и δ15N для псовых из Байкальского региона (данные по: Losey et al., 2013, 2022; Кузнецов и др., 2019). Обозначения: цвет – принадлежность экземпляров (костный материал, по которому получены данные по азоту и углероду) к одному местонахождению; число кружков одного цвета – количество экземпляров.
Fig. 8. Graph of δ13C and δ15N values for canids from the Baikal region (data after Losey et al., 2013, 2022; Kuznetsov et al., 2019)
Проанализированные данные приводят к выводу, что унхругская собака в последние годы жизни питалась преимущественно продуктами охоты на копытных, с возможной примесью рыбы, рыбоядной птицы или мяса хищников. Сходство изотопных сигналов δ15N унхругской собаки, собак наземных охотников (рис. 8), неолитического населения верховий Лены, приводит к выводу о принадлежности изученной собаки к коллективам охотников на крупную дичь. Косвенное подтверждение этому – наличие остатков именно благородного оленя в качестве сопровождающей погребальной пищи в могильной яме.
Итак, погребение собаки, обнаруженное в неолитическом слое шурфа 3 (2022 г.) стоянки Унхруг 1, – редкий случай для территории Прибайкалья. Остатки же самой собаки существенно дополняют базу данных по древним псовым региона.
Находка на стоянке Унхруг 1 во многом подтверждает традицию погребений собак в эпоху неолита в Прибайкалье. Общее для таких погребений – локализация их вблизи водного объекта (на побережье озера или реки) и приуроченность к могильнику или стоянке. Остается не до конца выясненным вопрос традиций положения (поза и пр.) и ориентировки собак в могилах. Имеющиеся данные позволяют отметить только предпочтение размещения особи на правом боку.
Исследование остатков погребенной собаки позволило дополнить черепные характеристики древних псовых, а также выявить некоторые посткраниальные признаки, отличающие древних собак от современных. Среди таких показателей черепа специфическими являются крупнозубость, массивность челюстных костей. Эти признаки могут указывать как на недавнее филогенетическое расхождение с волками, так и на непосредственное генетическое взаимодействие при частом скрещивании. Отдельные морфологические признаки посткраниальных костей пока довольно мозаичны, им трудно найти объяснение.
Полученные параллельно с датировкой данные по стабильным изотопам позволили интерпретировать унхругскую собаку как питомца охотников на крупную дичь. Макроскопическое исследование зубной эмали выявило развитие очагов гипоплазии на зубах, что указывает на пищевой стресс либо болезнь в начале жизни этой особи.
Таким образом, древняя собака эпохи неолита, обнаруженная на многослойной стоянке Унхруг 1, по нашему мнению, сопровождала охотников на крупных млекопитающих и питалась крупными костными отбросами, что повлияло на сильный износ зубов. При этом она дожила до преклонного возраста и была похоронена в индивидуальной могиле на берегу Байкала. Признание статуса найденной собаки проявилось и в характере сопровождающей ее погребальной пищи – мясной части шейного отдела благородного оленя.
Авторы статьи выражают благодарность Анджею Веберу, профессору Университета Альберты (г. Эдмонтон, Канада) за возможность датирования костей собаки со стоянки Унхруг 1 радиоуглеродным методом; В.И. Базалийскому, инженеру-исследователю Иркутского государственного университета за возможность изучить скелетные материалы с неолитических некрополей Прибайкалья: собаки с Шаманки II и волка с Локомотива. Благодарим также А.Е. Анучина, охотника из с. Коношаново (Жигаловский р-н Иркутской обл.), за предоставленную тушу современной лайки. Изучение следов гипоплазии осуществлено на бинокулярной лупе Carl Zeiss Stemi 508 Центра коллективного пользования “Геодинамика и геохронология” Института земной коры Сибирского отделения РАН.
1 В настоящее время Лаборатория археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Северной Азии Иркутского национального исследовательского технического университета.
About the authors
Dmitry E. Kichigin
Irkutsk National Research Technical University
Author for correspondence.
Email: kichkok@rambler.ru
Russian Federation, Irkutsk
Alexey M. Klementyev
Institute of the Earth’s Crust, Siberian Branch RAS
Email: klem-al@bk.ru
Russian Federation, Irkutsk
References
- Ambrose S.H., 1993. Isotopic analysis of paleodiets: methodological and interpretative considerations. Investigations of ancient human tissue, chemical analyses in Anthropology. M.K. Sandford, ed. Langhorne: Gordon and Breach Science Publishers, pp. 59–130.
- Bazaliyskiy V.I., 2012. Burial complexes of the late Mesolithic – Neolithic of Baikal Siberia: burial traditions, absolute age. Izvestiya Laboratorii drevnikh tekhnologiy [News of the Laboratory of Ancient Technologies], 9, pp. 43–101. (In Russ.)
- Berdnikova N.E., 2001. The geoarchaeological site of Ust-Belaya. Cultural complexes. Kamennyy vek Yuzhnogo Priangar’ya [The Stone Age of the Southern Angara River region], 2. Bel’skiy geoarkheologicheskiy rayon [Belsky geoarchaeological district]. Irkutsk: Izdatel’stvo Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta, pp. 113–146. (In Russ.)
- Bocherens H., Drucker D., 2003. Trophic level isotopic enrichment of carbon and nitrogen in bone collagen: Case studies from recent and ancient terrestrial ecosystems. International Journal of Osteoarchaeology, vol. 13, iss. 1–2, pp. 46–53.
- Bronk Ramsey C., 2021. OxCal 4.4.4: program is intended to provide radiocarbon calibration and analysis of archaeological and environmental chronological information (Electronic resource). URL: https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html.
- Goryunova O.I., Novikov A.G., 2018. Radiocarbon dating of pottery complexes from Neolithic settlements on the Baikal coast. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya [Bulletin of Tomsk State University. History], 51, pp. 98–107. (In Russ.)
- Ivashina L.G., 1979. Neolit i eneolit lesostepnoy zony Buryatii [The Neolithic and Eneolithic of the forest-steppe area of Buryatia]. Novosibirsk: Nauka. 160 p.
- Kharinskiy A.V., 2005. Western coast of Lake Baikal in the 1st millennium BC – 1st millennium AD. Izvestiya Laboratorii drevnikh tekhnologiy [News of the Laboratory of Ancient Technologies], 3, pp. 198–215. (In Russ.)
- Kharinskiy A.V., Emel’yanova Yu.A., Kichigin D.E., 2015. Archaeological sites of the northwestern coast of Lake Baikal: based on materials from the 1996, 1998 and 2015 surveys. Izvestiya Laboratorii drevnikh tekhnologiy [News of the Laboratory of Ancient Technologies], 4 (17), pp. 15–51. (In Russ.)
- Kichigin D.E., 2010. The Krasny Yar II site on the northwestern coast of Lake Baikal: results and prospects. Izvestiya Laboratorii drevnikh tekhnologiy [News of the Laboratory of Ancient Technologies], 8, pp. 154–192. (In Russ.)
- Konopatskiy A.K., 1982. Drevnie kul’tury Baykala (o. Ol’khon) [Ancient cultures of Baikal (Olkhon Island)]. Novosibirsk: Nauka. 176 p.
- Kuznetsov A.M., Khubanova A.M., Rogovskoy E.O., Klement’ev A.M., Khubanov V.B., Posokhov V.F., 2019. Stable carbon and nitrogen isotopes in bone remains of mammals from the early and middle Holocene site of Listvenichny Island (Location 2). Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Geoarkheologiya. Etnologiya. Antropologiya [Bulletin of Irkutsk State University. Geoarchaeology, Ethnology, and Anthropology Series], 27, pp. 27–35. (In Russ.)
- Losey R., Garvie-Lok S., Leonard J.A., Katzenberg M.A., Germonpré M., Nomokonova T., Sablin M.V., Goriunova O.I., Berdnikova N.E., Savel’ev N.A., 2013. Burying dogs in ancient Cis-Baikal, Siberia: temporal trends and relationships with human diet and subsistence practices. PLoS ONE, vol. 8, no. 5, e63740.
- Losey R.J., Bazaliiskii V.I., Garvie-Lok S., Germonpre M., Leonard J.A., Allen A.L., Katzenberg M.A., Sablin M.V., 2011. Canids as persons: Early Neolithic dog and wolf burials, Cis-Baikal, Siberia. Journal of Anthropological Archaeology, vol. 30, iss. 2, pp. 174–189.
- Losey R.J., Jessup E., Nomokonova T., Sablin M., 2014. Craniomandibular Trauma and Tooth Loss in Northern Dogs and Wolves: Implications for the Archaeological Study of Dog Husbandry and Domestication. PLoS ONE, vol. 9, no. 6, pp. 1–16.
- Losey R.J., Nomokonova T., Guiry E., Fleming L.S., Garvie-Lok S.J., Waters-Rist A.L., Bieraugle M., Szpak P., Bachura O.P., Bazaliiskii V.I., Berdnikova N.E., Diatchina N.G., Frolov I.V., Gorbunov V.V., Goriunova O.I., Grushin S.P., Gusev A.V., Iaroslavtseva L.G., Ivanov G.L., Kharinskii A.V., Konstantinov M.V., Kosintsev P.A., Kovychev E.V., Lazin B., Nikitin I.G., Papin D.V., Popov A.N., Sablin M.V., Savel’ev N.A., Savinetsky A.B., Tishkin A.A., 2022. The evolution of dog diet and foraging: Insights from archaeological canids in Siberia. Science Advances, 8, eabo6493.
- Losey R.J., Osipov B., Sivakumaran R., Nomokonova T., Kovychev E.V., Diatchina N.G., 2015. Estimating body mass in Dogs and wolves using cranial and mandibular dimensions: Application to Siberian canids. International Journal of Osteoarchaeologe, vol. 25, iss. 6, pp. 946–959.
- Reimer P., Austin W., Bard E., Bayliss A., Blackwell P., Bronk Ramsey C., Butzin M., Cheng H., Edwards R., Friedrich M., Grootes P., Guilderson T., Hajdas I., Heaton T., Hogg A., Hughen K., Kromer B., Manning S., Muscheler R., Palmer J., Pearson C., van der Plicht J., Reimer R., Richards D., Scott E., Southon J., Turney C., Wacker L., Adolphi F., Büntgen U., Capano M., Fahrni S., Fogtmann-Schulz A., Friedrich R., Köhler P., Kudsk S., Miyake F., Olsen J., Reinig F., Sakamoto M., Sookdeo A., Talamo S., 2020. The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP). Radiocarbon, vol. 62, iss. 4, pp. 725–757.
- Savel’ev N.A., Teten’kin A.V., Igumnova E.S., Abdulov T.A., Ineshin E.M., Osadchiy S.S., Vetrov V.M., Klement’ev A.M., Mamontov M.P., Orlova L.A., Shibanova I.V., 2001. The multilayer geoarchaeological site of Ust-Khayta – preliminary data. Sovremennye problemy Evraziyskogo paleolitovedeniya [Modern issues of Eurasian palaeolithic studies]. Novosibirsk: Izdatel’stvo Instituta arkheologii i etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk, pp. 338–352. (In Russ.)
- Schulting R.J., Bronk Ramsey C., Scharlotta I., Richards M., Weber A.W., 2022. Freshwater reservoir effects in Cis-Baikal: An overview. Archaeological Research in Asia, 29, 100324.
- Sekerskaya E.P., 2010. Features of the palaeoeconomic strategy of the Lower Danube population in the Late Eneolithic – Early Bronze Age. Terracognoscibilis: Kul’turnoe prostranstva mezhdu Balkanami i Velikoy Step’yu v epokhu kamnya – bronzy [Terracognoscibilis: Cultural space between the Balkans and the Great Steppe in the Stone – Bronze Age]. Odessa: Smil, pp. 136–157. (Materialy po arkheologii Severnogo Prichernomor’ya, 11). (In Russ.)
Supplementary files