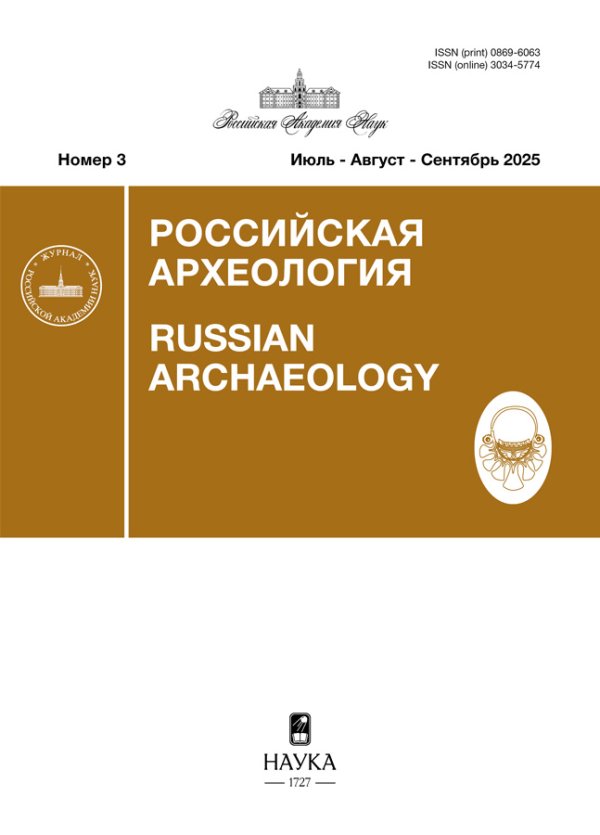Choburak-I – a necropolis of the Rouran period in the Northern Altai
- Authors: Seregin N.N.1, Tishkin A.A.1, Matrenin S.S.1, Parshikova T.S.1
-
Affiliations:
- Altai State University
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 152-169
- Section: PUBLICATIONS
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-6063/article/view/258232
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869606324010109
- EDN: https://elibrary.ru/ZVWFMY
- ID: 258232
Cite item
Full Text
Abstract
The article presents the results of studying materials obtained during excavations of the Bulan-Koby necropolis identified as part of the large multi-temporal archaeological complex Choburak-I. This site, located in Chemal district of the Altai Republic, is being studied by an expedition from Altai State University. The burial ground included 12 mounds, which contained undisturbed burials of seven men, three women, a teenager and a child. The key features of the ritual practice identified during the excavations include a small stone mound with an oval stonework-crepidoma; shallow graves; single human inhumation; the head of the dead person pointing northwest; accompanying burial of a horse, laid “at the feet” and on top of the deceased. Representative grave goods was found in the burials, including weapons, items of human equipment, tools and household products, ornaments, as well as horse harness. An analysis of these finds makes it possible to determine the time of construction of the Choburak-I necropolis as the middle – second half of the 4th century AD, which is confirmed by the results of radiocarbon dating. An assumption was made about the short period of the burial ground functioning (no more than 30 years). It was established that this complex belongs to the Dialian tradition of ritual practice of the Bulan-Koby population, the bearers of which constituted the elite of the Northern Altai nomads in the Rouran period.
Full Text
Одним из наименее изученных периодов в истории номадов Центральной Азии является жужанское время (вторая половина IV – первая половина VI вв. н.э.). Это обусловлено главным образом незначительным количеством имеющихся археологических материалов, полученных в ходе исследований в Монголии, Туве и Синьцзяне. Исключением является, пожалуй, только Алтай, где благодаря интенсивным полевым работам на сегодняшний день сформирована довольно обширная источниковая база, которая представлена результатами раскопок более 130 захоронений на десяти памятниках (Берель, Верх-Еланда-II, Верх-Уймон, Дялян, Катанда-I, Кок-Паш, Степушка, Чендек, Усть-Бийке-III, Яломан-II), относящихся к позднему этапу булан-кобинской культуры (вторая половина IV – первая половина V в. н.э.) (Тетерин, 1991; Соенов, Эбель, 1992; Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018 и др.). Вместе с тем значительная часть обозначенных материалов остается не введенной в научный оборот. Кроме того, за редким исключением, отсутствуют полностью раскопанные некрополи жужанского времени. Очевидна актуальность продолжения полевых исследований памятников указанного периода, а также комплексного изучения уже имеющихся источников.
Обозначенные обстоятельства определяют основную цель настоящей статьи, посвященной общей характеристике, анализу и интерпретации полностью раскопанного некрополя булан-кобинской культуры Чобурак-I, материалы которого свидетельствуют об исторической судьбе одной из локальных групп населения Алтая в жужанское время.
Погребально-поминальный комплекс Чобурак-I расположен в Чемальском р-не Республики Алтай, к югу от с. Еланда, на правом берегу Катуни (рис. 1). В составе этого разновременного памятника археологической экспедицией Алтайского государственного университета раскопан небольшой некрополь булан-кобинской культуры, состоявший из 12 курганов (Серегин и др., 2019, 2022 и др.). Данные объекты были локализованы в пространстве в виде двух параллельных рядов, ориентированных по направлению юго-запад – северо-восток (рис. 2). “Восточная” линия включала шесть насыпей (курганы № 29, 29а, 32, 32а, 33, 34), находящихся вплотную друг к другу, а в некоторых случаях (курганы № 29, 29а, 33), вероятно, соприкасавшихся. “Западный” ряд объединял также шесть сооружений, образовывавших две группы: курганы № 30, 30а (располагались в линию) и 38 (примыкал с северо-запада к кургану № 30); курганы № 31, 34а (выстроены в линию) и 31а (примыкал с запада к кургану № 31).
Рис. 1. Расположение погребально-поминального комплекса Чобурак-I.
Fig. 1. The location of the funeral and memorial complex of Choburak-I
Рис. 2. План некрополя Чобурак-I.
Fig. 2. A plan of the Choburak-I necropolis
Наземные конструкции рассматриваемых объектов представляли собой плоские каменные наброски округлой или овальной формы (длина 3.2–6.2 м, ширина 2.2–5 м, высота 0.3–0.5 м) с крепидой по внешнему краю, вытянутой длинной осью по линии северо-запад – юго-восток. Под насыпями во всех случаях находилась одна могильная яма вытянуто-овальной формы, ориентированная продольной осью с северо-запада на юго-восток, с плотной каменно-земляной забутовкой. В десяти объектах находились “длинные” (3–4.8 м) могилы глубиной около 1 м от уровня древнего горизонта с деревянными конструкциями (колода, рама) и без таковых, содержавшие одиночные захоронения мужчин и женщин (рис. 3). Умершие были похоронены вытянуто на спине, головой ориентированы на северо-запад. Важным признаком являлось присутствие верховой лошади, уложенной в юго-восточной части могилы, “в ногах”, на одном уровне или поверх покойных (в последнем случае перекрывая до трети тела человека). Животные были обращены головой в одну сторону с погребенными людьми и размещались преимущественно на правом боку.
Рис. 3. Планы могил некрополя Чобурак-I: 1 – курган № 30а; 2 – курган № 32; 3 – курган № 33; 4 – курган № 34; 5 – курган № 34а; 6 – курган № 38.
Fig. 3. Plans of the graves at the Choburak-I necropolis
Все захоронения оказались непотревоженными и содержали костные останки двенадцати человек: ребенка 9–11 лет (курган № 29); подростка 13–15 лет (курган № 29а); трех женщин в возрасте от 20–25 до 40–50 лет (курганы № 32а, 33, 34); семи мужчин от возмужалого (25–30 лет) до старческого (более 55 лет) возраста (курганы № 30, 30а, 31, 31а, 32, 34а, 38)1. Важно отметить, что на посткраниальных скелетах трех мужчин (курганы № 30а, 31, 34а) были диагностированы множественные однотипные травмы без следов заживления, нанесенные клинковым рубяще-режущим оружием (вероятно, мечом), а также иные смертельные раны. При этом похороненный в кургане № 34а индивид 30–35 лет был обезглавлен, а на месте его головы и пяти первых шейных позвонков находился череп молодого барана, установленный на основание и таким образом демонстрирующий своеобразную попытку создания муляжа целого человеческого тела.
С умершими найдены многочисленные предметы сопроводительного инвентаря (рис. 4–7). При этом раскопанные погребения довольно заметно различались по насыщенности инвентарем. Так, среди захоронений мужчин выделялись воины, снабженные мечами, боевыми ножами, железными наконечниками стрел, разнообразным воинским снаряжением, амуницией верхового коня и другими изделиями (курганы № 30, 30а, 38). В женской группе захоронений наиболее представительный комплекс предметов найден с покойной из объекта №34а, похороненной в оригинальном по оформлению головном уборе. Весьма своеобразный набор изделий обнаружен в погребении молодой женщины из кургана № 33, в котором преобладали вещи (железная панцирная пластина доспеха, шило, железный инструмент), в большей степени характерные для мужских захоронений булан-кобинской культуры (Серегин и др., 2019). В могиле подростка из кургана № 29а зафиксирован полноценный комплект мужского инвентаря (лук, стрелы с железными наконечниками, боевой нож в ножнах, пояс с различными ременными гарнитурами, костяная рукоять плети), и при этом найден костяной (роговой) гребень, традиционный для женских захоронений рассматриваемой общности (Серегин и др., 2022).
Рис. 4. Комплекс вооружения и снаряжения из могильника Чобурак-I: 1–14 – накладки на лук; 15, 16 – мечи с деталями ножен; 19–32 – наконечники стрел; 33 – панцирная пластина; 34, 35 – колчанные крюки; 36, 37, 39–41 – поясные пряжки; 39 – крепление; 42 – наконечник ремня; 43, 44, 56 – “блоки”; 45 – распределитель ремней; 46–53 – поясные бляхи; 57–60 – детали плетей (1–14, 57–60 – кость (рог); 16–56 – железо).
Fig. 4. A weapon and equipment complex from the Choburak-I burial ground
Рис. 5. Снаряжение верхового коня из могильника Чобурак-I: 1–3 – удила с деталями узды; 4, 5 – уздечные пряжки; 6 – уздечная застежка; 7–15, 18–23, 25–27 – уздечные бляхи; 16, 17 – детали нагривника; 24 – ремень суголовья; 28 – наконечник ремня; 30–32, 35 – подпружные пряжки; 33, 34 – седельные канты; 36–38 – цурки (1–15, 18–23, 28–30 – железо; 16, 17 – цветной металл; 24 – кожа, бронза; 31–38 – кость (рог)).
Fig. 5. Riding horse equipment from the Choburak-I burial ground
Рис. 6. Орудия труда и предметы быта из могильника Чобурак-I: 1–7 – наконечники стрел; 8 – рукоять косметической щетки; 9 – гребень; 10, 11 – пряслица; 12–15 – шилья; 16 – инструмент; 17, 18 – ножи; 19 – реконструкция котла (1–9 – кость (рог); 10, 11 – камень; 12–19 – железо).
Fig. 6. Tools and household items from the Choburak-I burial ground
Рис. 7. Украшения из могильника Чобурак-I: 1, 2, 4 – нашивные пластины; 3, 5, 6, 12, 13 – бляхи; 7 – накосник; 8, 14 – подвески; 9, 10 – серьги (1–7, 9–13 – цветной металл; 8 – железо; 14 – кость).
Fig. 7. Ornaments from the Choburak-I burial ground
Изучение результатов раскопок некрополя Чобурак-I, а также сопоставление полученных данных с материалами из других памятников Алтая последней четверти I тыс. до н.э. – первой половины I тыс. н.э. позволяет выявить общие, особенные и единичные элементы обрядовой практики, важные для понимания этнокультурных и социальных процессов, происходивших в обозначенном регионе на рубеже поздней древности и раннего средневековья.
Зафиксированные показатели планиграфии погребений (плотная концентрация курганов на территории кладбища, локализация в виде рядов) и устройства насыпей (полусферические каменные наброски овальной в плане формы, практически всегда с выкладкой-крепидой) характерны для традиций большинства групп населения Алтая во II в. до н.э. – V в. н.э. (Соенов, 2003. С. 29–31; Серегин, Матренин, 2016. С. 13–21). Принимая во внимание разницу расстояний между насыпями, с большой степенью вероятности можно предположить, что более поздними являлись сооружения, выходящие за “прямую” линию (курганы № 31а и 38).
Выявлена определенная вариативность оформления семи погребальных камер, выполненного из дерева. В четырех курганах (№ 29, 29а, 30а, 34) находились конструкции плохой сохранности в виде ящика или рамы из тонких жердей с продольным перекрытием (рис. 3, 1, 4), наиболее массово представленные у кочевников Северного и Юго-Восточного Алтая во II – первой половине IV вв. н.э. (Серегин, Матренин, 2016. С. 37). В курганах № 30 и 33 сохранились колоды (рис. 3, 3). Отметим, что население булан-кобинской культуры крайне редко практиковало погребения в таких конструкциях (менее 5% случаев) (Серегин, Матренин, 2016. С. 38). В могиле кургана № 32 расчищено деревянное ложе, перекрытое сверху тесом из широких пластин, снятых со ствола дерева (рис. 3, 2). Точные аналогии такому сооружению в материалах рассматриваемой общности нам не известны. В остальных пяти объектах зафиксированы ямы без внутримогильных конструкций, в целом характерные для кочевников Северного Алтая во второй четверти I тыс. н.э. (Серегин, Матренин, 2016. С. 38). Также традиционной формой обряда являлась одиночная ингумация и ориентировка умерших головой в северо-западном направлении.
Особенностью обряда представителей локальной группы “булан-кобинцев”, оставивших погребения на некрополе Чобурак-I, является присутствие в могилах всех взрослых мужчин и женщин сопроводительного захоронения верхового коня в юго-восточной части могильной ямы. Данная традиция фиксируется в разном виде на всех этапах существования булан-кобинской культуры (Серегин, Матренин, 2016. С. 60, 61). В трех мужских (курганы № 31, 31а, 38) и одной женской (курган № 32а) могилах рассматриваемого памятника в разных местах были обнаружены остатки ритуальной мясной пищи в виде костей мелкого рогатого скота (пояснично-крестцовая часть скелета овцы, реже лопатка, ребра), которая, вероятно, помещалась в деревянную посуду. В одном случае рядом с ней находился нож с коротким клинком.
Изучение обнаруженных в некрополе жужанского времени на памятнике Чобурак-I многочисленных предметов сопроводительного инвентаря с учетом актуальных аналогий в археологических материалах Алтая и сопредельных территорий первой половины I тыс. н.э. предоставляет широкие возможности для датирования данного комплекса.
Анализ результатов типологии разных категорий изделий позволяет выделить несколько групп хронологических индикаторов, имеющих разное значение для установления времени сооружения некрополя жужанского периода на памятнике Чобурак-I. Наиболее показательные из них представлены “поздними” изделиями с самым коротким периодом бытования в рамках булан-кобинской культуры, определяющими нижнюю дату рассматриваемого комплекса захоронений.
В составе вооружения к таковым относятся железные однолезвийные мечи без перекрестия и навершия (рис. 4, 15, 16), которые вошли в состав предметного комплекса воинов Алтая с середины IV в. н.э. (Горбунов, 2006. С. 59, 111). Железные бронебойные трехгранные наконечники стрел с листовидным (рис. 4, 27–29) и килевидным (рис. 4, 31) пером, а также боевые четырехгранные изделия листовидной формы (рис. 4, 30), часто снабженные кольцевым упором, активно использовались населением региона во второй половине IV – V вв. н.э. (Горбунов, 2006. С. 40). Сравнительно поздней модификацией можно считать ярусный трехгранно-трехлопастной наконечник стрелы с кольцевым упором (рис. 4, 24), являющийся продуктом усовершенствования “булан-кобинцами” изделий хуннуской военной традиции в жужанское время (Горбунов, 2006. С. 39).
Важными для хронологической интерпретации некрополя жужанского времени в составе комплекса Чобурак-I являются декоративные элементы конской амуниции. К обозначенным изделиям относятся бронзовые уздечные бляхи-накладки с полусферическим корпусом округлой формы (рис. 5, 24–27), встречающиеся среди находок на территории Северного Китая и датируемые IV–V вв. н.э. (Yu Junyu, 1997. Fig. 3, 6; Гао Фэн, 2006. Рис. 33, 1 и др.), а также известные по материалам булан-кобинских курганов второй половины IV – V вв. н.э. (Матренин, Тишкин, 2016. Рис. 1, А1, Б, В1). Верхний хронологический горизонт их бытования на Алтае демонстрируют изделия из тюркских памятников второй половины VI – первой половины VII в. н.э. (Гаврилова, 1965. С. 22, 23. Табл. VII, 2; XIV, 8; Горбунова, 2010. С. 64, 65. Рис. 29, 31). В составе уздечных суголовий из погребений жужанского времени комплекса Чобурак-I присутствуют железные бляхи, фиксирующиеся вставным шпеньком с конической или полусферической шляпкой, вмонтированным в корпус четырехугольной в сечении пластины округлой формы (рис. 5, 19–23). Точные аналогии им происходят из объектов памятника Верх-Уймон на Алтае (Соенов, 2000. Рис. 10, 1–5). Весьма оригинальными являются железные уздечные бляхи с полусферическим корпусом округлой формы и подвеской в виде крученой восьмерковидной петли (рис. 5, 29). Конструктивно близкие уздечные детали обнаружены в ходе раскопок погребений могильника Яломан-II, относящихся ко второй половине IV – первой половине V в. н.э. (Матренин, Тишкин, 2016. Рис. 3, А, Б; Матренин, 2018. Рис. 1, 43–51). Похожие экземпляры, изготовленные из цветного металла, известны в археологических материалах второй половины IV – V в. н.э. Северного Китая и Алтайской лесостепи (Егоров, 1993. Рис. 1, 8; Yu Junyu, 1997. Fig. 3, 6; Гао Фэн, 2006. Рис. 33, 1; 36, 3, 4, 10 и др.), а также обнаружены в захоронении V – начала VI в. н.э. в Томском Приобье (Беликова, Плетнева, 1983. Рис. 2, 9; 18, 4).
В снаряжении верхового коня показательными являются костяные (роговые) цурки (рис. 5, 36–38). Такие изделия относятся к маркерам позднего этапа булан-кобинской культуры (вторая половина IV – первая половина V в. н.э.), что подтверждают датированные находки из разных регионов Центральной Азии (Левина, 1996. Рис. 94, 4; Дашибалов, 2011. С. 26. Рис. 58, 7; Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003. С. 175. Рис. 4, 6, 8, 9; Матренин, 2018. С. 193. Рис. 2, 22–25 и др.). Своего рода хронологическими маркерами выступают также костяные (роговые) окантовки (рис. 5, 33, 34) несохранившихся деревянных лук от пяти седел, которые имеют аналогии на Алтае в погребениях второй половины IV – первой половины V в. н.э. из памятников Дялян и Яломан-II (Серегин и др., 2021. С. 27, 28).
В комплексе украшений особое значение имеют металлические серьги с выделенным основанием в форме цилиндрической спирали (рис. 7, 10). Аналогии таким изделиям известны в археологических материалах второй половины IV – V вв. н.э. Верхнего Приобья и Восточного Казахстана (Грязнов, 1956. Табл. XLV, 11, 25–27; Арсланова, 1975. Табл. II, 11), а также зафиксированы в ходе раскопок комплексов позднего этапа булан-кобинской культуры Алтая (Соенов, 2000. Рис. 7, 9; Тетерин, 2005. Рис. 2, 29; Трифанова, Соенов, 2019. С. 57).
С большой долей вероятности в серию предметов второй половины IV – первой половины V в. н.э. входят зафиксированные на могильнике Чобурак-I костяные (роговые) детали плетей в виде массивных трубочек с одним продольным (сквозным или глухим) и двумя сквозными поперечными отверстиями (рис. 4, 59, 60) (Тетерин, 2016. С. 91. Рис. 2, 1; Соенов, 2017. С. 122. Рис. 9, 1; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018. Табл. 39, 3, 4).
Важно подчеркнуть, что датировку представленной группы изделий сопроводительного инвентаря из объектов некрополя Чобурак-I временем не ранее середины – второй половины IV в. н.э. подтверждает обнаружение их в закрытых комплексах булан-кобинской культуры Алтая (Верх-Уймон, Степушка, Яломан-II), хронология которых была обоснована результатами радиоуглеродного анализа (Тишкин, 2017. С. 55, 56; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018. С. 149–154; Konstantinov et al., 2018. Tab. 1 и др.).
Судя по актуальным аналогиям в археологических комплексах Центральной и Северной Азии, многочисленная группа изделий из погребений могильника Чобурак-I датируется периодом не ранее второй половины III – начала IV в. н.э. Данная серия предметов представлена разнообразными железными наконечниками стрел: ярусными южносибирской и хуннуской традиций с кольцевым упором (рис. 4, 19–20), килевидными с кольцевым и цилиндрическим упором (рис. 4, 23, 25), четырехгранным срезнем с четырехугольным пером (рис. 4, 32), ассиметрично-ромбическими и шестиугольными с кольцевым упором (рис. 4, 21, 22) (Худяков, 1986. С. 71. Рис. 27, 5–11; 1991. С. 56. Рис. 26, 13, 22; Горбунов, 2006. С. 28–31, 38, 39. Рис. 26, 9, 24; 77; Эрдэнэ-Очир, 2011. С. 194. Рис. 9, 10, 11 и др.); элементами снаряжения: колчанными крюками с поперечной планкой на язычке (рис. 4, 35), креплениями в виде восьмерковидных цепочек (рис. 4, 15, 38), отдельными типами поясных пряжек (рис. 4, 40), поясными бляхами-зажимами (рис. 4, 54) и накладками (рис. 4, 50, 51) (Беликова, Плетнева, 1983. Рис. 10, 4; 11, 5; 13, 12; Матренин, 2017. С. 11–13, 17–25, 24, 38, 50, 66, 76, 83, 84, 89, 90, 94; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018. С. 68, 69, 74, 79, 94, 96 и др.); амуницией верхового коня: удилами с кольчатым соединением звеньев, оснащенными кольцевыми псалиями (рис. 5, 1), соединеннокрюковыми удилами с кольчатыми окончаниями грызл и восьмерковидными петлями (рис. 5, 2, 3), уздечными пряжками с т-образными рамками (рис. 5, 5), восьмерковидными застежками и креплениями (рис. 5, 6), уздечными бляхами-пронизями в виде обойм (рис. 5, 8–11, 12–15), подпружными костяными (роговыми) пряжками с подвижным язычком (рис. 5, 31, 32) (Тетерин, 2007. Рис. 18, 2; Матренин, 2017. С. 48, 49, 66, 84, 92. Рис. 17, 7–13; 2018. С. 188–191; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018. С. 112, 114); костяными (роговыми) наконечниками стрел с выступающей втулкой-свистункой бочонковидной формы (рис. 6, 3–5) (Матренин, Серегин, 2019. С. 109), крючковыми серьгами с щитком в виде двойной концентрической спирали (рис. 7, 10) (Яремчук, 2005. Рис. 114, 1–3, 5, 9, 10; Ковычев, 2006. Рис. 5, 25–27, 29), железным круглодонным котлом (“казаном”) (рис. 6, 19) (Кызласов, 1979. Рис. 21, 9).
Остальные категории сопроводительного инвентаря из объектов жужанского периода комплекса Чобурак-I существовали в течение достаточного продолжительного времени в рамках II–V вв. н.э.
Охарактеризованные хроноиндикаторы предметного комплекса с учетом нижней границы появления наиболее поздних изделий дают основания для определения даты рассматриваемой части могильника Чобурак-I в рамках середины – второй половины IV в. н.э., что соответствует началу жужанского периода в истории населения Алтая. Данное заключение согласуется с полученными результатами радиоуглеродного анализа серии образцов из погребений обозначенного комплекса (Серегин и др., 2022. С. 129 и др.).
По совокупности характеристик обрядовой практики некрополь жужанского времени, исследованный на памятнике Чобурак-I, относится к дялянской традиции погребального обряда населения булан-кобинской культуры. Ключевыми ее особенностями, наряду с показателями, получившими широкое распространение на Алтае во II в. до н.э. – V в. н.э., являются каменная насыпь небольшого размера с овальной выкладкой-крепидой; одиночная ингумация человека; ориентировка умершего головой на северо-запад; сопроводительное захоронение лошади, уложенной в ногах и поверх покойного (Серегин, Матренин, 2016. С. 161, 162; Митько, 2018. С. 26–39).
Судя по имеющимся данным, ключевым компонентом в генезисе дялянской погребальной традиции была группа пришлого населения, проникшая на Алтай еще в начале хуннуского времени (II – начало I в. до н.э.) и по некоторым характеристикам обряда близкая кочевникам Восточного Казахстана (Серегин, Матренин, 2016. С. 160, 161). Дальнейшие исторические судьбы носителей дялянской традиции были связаны с существовавшим в Центральной Азии Жужанским каганатом (359–552 гг. н.э.). Во второй половине IV – начале V в. н.э. “дялянцы” стали элитой общества кочевников Северного Алтая. Вероятно, во второй половине V – начале VI в. н.э. носители рассматриваемой традиции были включены в состав формировавшейся этнополитической общности тюрок. При этом отсутствие у последних практики размещения в могиле лошади в ногах или поверх человека демонстрирует определенную дистанцию в контактах с “дялянцами”. Одним из результатов коренных изменений политической ситуации в Центральной Азии (ослабление жужаней и образование в середине VI в. н.э. Первого тюркского каганата) стало вовлечение элиты населения булан-кобинской культуры, среди которых, очевидно, были носители дялянской традиции, в миграционный поток в западном направлении. Отражением данного переселения (в составе жужанской общности?) можно считать появление во второй половине VI – VII в. н.э. в европейских степях (Приазовье, Паннония) могил с лошадью и отдельными частями ее туши, уложенными в “длинных” ямах с западной и северо-западной ориентировкой и размещенных в ногах покойных на разном уровне (Митько, 2018. С. 32, 33. Рис. 7, 8).
Другую возможную линию истории носителей дялянской традиции позволяют наметить результаты раскопок археологических памятников раннего средневековья Алтайской лесостепи и предгорной зоны Алтая. Аргументом для ее обоснования являются объекты конца VI – начала VIII в. н.э., раскопанные на некрополе Горный-10 (Абдулганеев, 2001. С. 128; Серегин, Абдулганеев, Степанова, 2019. С. 19. Рис. 2 и др.), а также погребения второй половины VIII – первой половины IX в. н.э. из памятника Иня-1 (Уманский, 1970. С. 50–63; Горбунов, 2020. С. 31–33), содержавшие “нестандартные” для тюрок захоронения с верховым конем.
В целом представляется возможным утверждать, что жужанское время оказалось наиболее важным этапом в истории носителей дялянской традиции погребального обряда, а в дальнейшем они оказались вовлечены в сложные этнополитические процессы, происходившие в Центральной Азии и на обширных сопредельных территориях. Именно к этому периоду относится рассматриваемый некрополь в составе комплекса Чобурак-I, демонстрирующий недолгое существование локального коллектива кочевников. Проанализированные материалы свидетельствуют о совершении захоронений на территории данного могильника в течение непродолжительного периода (по-видимому, не более 30 лет)2. Основными доводами в пользу данного утверждения выступают небольшой размер рассматриваемого комплекса, значительное единообразие погребального обряда и облика сопроводительного инвентаря, а также документированные случаи насильственной смерти троих из семи мужчин. При этом, судя по имеющимся материалам, некрополь жужанского времени в составе памятника Чобурак-I является близким по времени (возможно, синхронным?) могильнику Дялян из Северного Алтая, с которым он обнаруживает поразительное сходство по большинству характеристик (Тетерин, 1991; Митько, 2018).
Несмотря на сравнительную немногочисленность, полученная серия археологических и антропологических материалов предоставляет основания для изучения некоторых аспектов социальной истории населения Северного Алтая в жужанское время. Средняя продолжительность жизни взрослых людей составляла 35 лет с незначительной разницей у мужчин (35.7 лет) и женщин (32.2 лет), что совпадает с показателями среднего возраста смерти представителей обоих полов, полученными на основе обобщенной выборки по погребальным комплексам Алтая последней четверти I тыс. до н.э. – первой половины I тыс. н.э. (Серегин, Матренин, 2020. С. 77). Для мужской части рассматриваемой популяции характерно отсутствие индивидов моложе 25 лет. Можно сделать заключение, что пик смертности у мужчин приходился на период с 30 до 35 лет. Отдельного внимания заслуживает крайне редкий для населения булан-кобинской культуры случай доживания мужчины до глубокой старости (старше 55 лет), сохранившего, принимая во внимание состав инвентаря в рассматриваемом погребении, довольно высокий статус в обществе.
Важным фактором, оказавшим влияние на демографическую структуру локальной группы, оставившей некрополь жужанского времени на территории комплекса Чобурак-I, было участие ее представителей в вооруженных конфликтах. Зафиксированные у троих мужчин свидетельства летальных травм демонстрируют высокий уровень вооруженного насилия на Алтае в эпоху Великого переселения народов, когда в связи с распадом державы сяньби во второй половине III в. н.э. и обострением междоусобной борьбы за власть в IV в. н.э. отдельные коллективы “булан-кобинцев” могли стать участниками столкновений, в том числе с культурно/этнически чужеродным населением (Тур, Матренин, Соенов, 2018. С. 136).
Социальная стратификация мужчин, похороненных в курганах некрополя жужанского времени на территории памятника Чобурак-I, нашла отражение в качественном и количественном составе предметов вооружения, снаряжения человека и верхового коня. Изучение взаимной встречаемости различных категорий изделий позволяет с известной долей условности выделить три социальные группы: военачальники или особо отличившиеся профессиональные воины (курганы № 30, 30а, 38); профессиональный воин с высоким материальным достатком (курган № 32); зажиточная прослойка рядового населения, представители которой в мирное время занимались животноводством и охотой, а в военный период выполняли функции легковооруженных ополченцев (курганы № 31, 31а, 34а). Судя по наборам украшений и конского снаряжения, все женщины имели при жизни довольно высокий социальный статус. При этом покойная, похороненная в кургане № 34, выделялась своим положением не только в рамках рассматриваемого локального коллектива скотоводов, но и среди других групп населения Северного Алтая предтюркского времени. Выявлен “особый” статус подростка 13–15 лет из кургана № 29а, который определялся произошедшим формальным переходом данного индивида во взрослое состояние при сохранении некоторых ограничений, обусловленных отставанием его физического развития.
Результаты раскопок некрополя жужанского времени в составе комплекса Чобурак-I предоставляют основания для обозначения его в качестве эталонного памятника жужанского времени на Северном Алтае, материалы которого имеют большое значение для изучения различных аспектов истории носителей дялянской погребальной традиции населения булан-кобинской культуры. Введенные в научный оборот сведения позволяют конкретизировать общие и особенные характеристики погребального обряда обозначенной группы кочевников в предтюркское время, а также представить реконструкцию исторических судеб “дялянцев” в контексте сложных этнополитических процессов в Центральной Азии и на сопредельных территориях. Проанализированный сопроводительный инвентарь, имеющий значительное количество аналогий, а также полученные результаты радиоуглеродного датирования способствуют определению времени создания рассматриваемого могильника в рамках середины – второй половины IV в. н.э. Принимая во внимание небольшое количество захоронений, значительное единообразие погребального обряда и сопроводительного инвентаря, а также зафиксированные случаи насильственной смерти мужчин, сделан вывод о функционировании данного некрополя в течение непродолжительного периода. Сопоставление материалов раскопок части комплекса Чобурак-I с другими памятниками булан-кобинской культуры позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемый некрополь оставлен представителями местной элиты кочевников Северного Алтая жужанского времени. Данный могильник отражает существование небольшого, но при этом весьма монолитного коллектива, и включает, вероятно, захоронения близких родственников. Возможности детализации различных аспектов истории группы кочевников, совершавших погребения жужанского периода на комплексе Чобурак-I, связаны с продолжением междисциплинарного изучения полученных данных, в том числе с палеогенетическими исследованиями, предполагающими привлечение широкого круга материалов.
Исследование выполнено в рамках проекта «Тюркский мир “Большого Алтая”: единство и многообразие в истории и современности» (реестровый номер 850000Ф.99.1. БН66АА04000).
1 Антропологические определения выполнены С.С. Тур.
2 Важно отметить, что раскопанные на сегодняшний день погребальные памятники булан-кобинской культуры второй половины IV – первой половины V в. н.э. пока не имеют выраженных отличий в сопроводительном инвентаре для уверенного разделения на “ранние” и “поздние” комплексы.
About the authors
Nikolay N. Seregin
Altai State University
Author for correspondence.
Email: nikolay-seregin@mail.ru
Russian Federation, Barnaul
Alexey A. Tishkin
Altai State University
Email: tishkin210@mail.ru
Russian Federation, Barnaul
Sergey S. Matrenin
Altai State University
Email: matrenins@mail.ru
Russian Federation, Barnaul
Tatiana S. Parshikova
Altai State University
Email: taty-parshikova@yandex.ru
Russian Federation, Barnaul
References
- Abdulganeev M.T., 2001. The Gorny 10 burial ground as a site of the ancient Turkic period in the northern foothills of Altai. Prostranstvo kul’tury v arkheologo-etnograficheskom izmerenii. Zapadnaya Sibir’ i sopredel’nye territorii [The space of culture in the archaeological and ethnographic dimension. Western Siberia and adjacent territories]. Tomsk: Izdatel’stvo Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, pp. 128–131. (In Russ.)
- Arslanova F.Kh., 1975. Mounds with stone ridges in Eastern Kazakhstan. Drevnosti Kazakhstana [Antiquities of Kazakhstan]. Alma-Ata: Izdatel’stvo Akademii nauk Kazakhskoy SSR, pp. 116–129. (In Russ.)
- Belikova O.B., Pletneva L.M., 1983. Pamyatniki Tomskogo Priob’ya v V–VIII vv. n.e. [Sites of the Tomsk area of the Ob region in the 5th–8th centuries AD]. Tomsk: Izdatel’stvo Tomskogo universiteta. 243 p.
- Bobrov V.V., Vasyutin A.S., Vasyutin S.A., 2003. Vostochnyy Altay v epokhu Velikogo pereseleniya narodov (III–VII veka) [Eastern Altai in the Migration Period (3rd–7th centuries AD)]. Novosibirsk: Institut arkheologii i etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk. 224 p.
- Dashibalov B.B., 2011. Drevnosti khori-mongolov: khunno-syan’biyskoe nasledie Baykal’skoy Sibiri [Antiquities of the Khori-Mongols: the Xiongnu-Xianbei heritage of Baikal Siberia]. Ulan-Ude: Izdatel’stvo Buryatskogo universiteta. 174 p.
- Egorov Ya.V., 1993. New study of a warrior burial from the Migration Period in Altai. Kul’tura drevnikh narodov Yuzhnoy Sibiri [Culture of the ancient peoples of South Siberia]. Barnaul: Izdatel’stvo Altayskogo universiteta, pp. 77–80. (In Russ.)
- Erdene-Ochir N., 2011. Weapons of the three ancient states of Korea from the Seoul National University Museum. Arkheologiyn sudlal [Archaeology], XXXI. C. 183–220. (In Russ.)
- Gallay G., Spindler K., 1970. Archäologische und anthropologische Betrachtungen zu den neolithisch-kupferzeitlichen Funden aus der Cova da Moura, Portugal. Madrider Mitteilungen, 11, pp. 35–58.
- Gao Fen, 2006. North Wen burials on the highway in the city of Datong, Shanxi province. Ven’u [Wenwu], 10, pp. 51–71. (In Chinese).
- Gavrilova A.A., 1965. Mogil’nik Kudyrge kak istochnik po istorii altayskikh plemen [The Kudyrge burial ground as a source on the history of Altai tribes]. Moscow; Leningrad: Nauka. 146 p.
- Gorbunov V.V., 2006. Voennoe delo naseleniya Altaya v III–XIV vv. [Military art of the population of Altai in the 3rd–14th centuries AD], II. Nastupatel’noe vooruzhenie (oruzhie) [Offensive weapons]. Barnaul: Izdatel’stvo Altayskogo universiteta. 232 p. (In Russ.)
- Gorbunov V.V., 2020. Accompanying burials of animals at the Inya-1 burial ground in the Barnaul area of the Ob region. Sokhranenie i izuchenie kul’turnogo naslediya Altayskogo kraya [Preservation and study of the cultural heritage of the Altai region], XXVI. Barnaul: Izdatel’stvo Altayskogo universiteta, pp. 235–243. (In Russ.)
- Gorbunova T.G., 2010. Rekonstruktsiya konskogo snaryazheniya srednevekovykh kochevnikov Altaya: metodika i nekotorye rezul’taty [Reconstruction of horse equipment of Altai medieval nomads: Methodology and some results]. Barnaul: Azbuka. 136 p.
- Gryaznov M.P., 1956. Istoriya drevnikh plemen Verkhney Obi po raskopkam bliz s. Bol’shaya Rechka [History of the ancient tribes of the Upper Ob based on excavations near the village of Bolshaya Rechka]. Moscow; Leningrad: Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR. 162 p. (Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR, 48).
- Khudyakov Yu.S., 1986. Vooruzhenie srednevekovykh kochevnikov Yuzhnoy Sibiri i Tsentral’noy Azii [Armament of medieval nomads of South Siberia and Central Asia]. Novosibirsk: Nauka. 268 p.
- Khudyakov Yu.S., 1991. Vooruzhenie tsentral’noaziatskikh kochevnikov v epokhu rannego i razvitogo srednevekov’ya [Armament of Central Asian nomads in the Early and Advanced Middle Ages]. Novosibirsk: Nauka. 190 p.
- Konstantinov N., Soenov V., Trifanova S., Svyatko S., 2018. History and culture of the early Türkic period: A review of archaeological monuments in the Russian Altai from the 4th–6th century AD. Archaeological Research in Asia, 16, pp. 103–115.
- Kovychev E.V., 2006. Some issues of the ethnic and cultural history of Eastern Transbaikalia at the end of the 1st millennium BC – 1st millennium AD. Izvestiya Laboratorii drevnikh tekhnologiy [News of the Laboratory of Ancient Technologies], 4, pp. 242–258. (In Russ.)
- Kyzlasov L.R., 1979. Drevnyaya Tuva (ot paleolita do IX v.) [Ancient Tuva (from the Palaeolithic to the 9th century AD)]. Moscow: Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta. 207 p.
- Levina L.M., 1996. Etnokul’turnaya istoriya Vostochnogo Priaral’ya. I tysyacheletie do n.e. – I tysyacheletie n.e. [Ethnocultural history of the Eastern Aral Sea region of the 1st millennium BC – 1st millennium AD]. Moscow: Vostochnaya literatura. 396 p.
- Matrenin S.S., 2017. Snaryazhenie kochevnikov Altaya (II v. do n.e. – V v. n.e.) [Equipment of the Altai nomads (2nd century BC – 5th century AD)]. Novosibirsk: Izdatel’stvo Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk. 142 p.
- Matrenin S.S., 2018. Chronological indications of the horse riding equipment of the Xianbei-Rouran period nomads (based on materials from burial sites of the Bulan-Koby culture). Sovremennye resheniya aktual’nykh problem evraziyskoy arkheologii [Modern solutions to topical issues of Eurasian archaeology], 2. Barnaul: Izdatel’stvo Altayskogo universiteta, pp. 188–195. (In Russ.)
- Matrenin S.S., Seregin N.N., 2019. Bone (horn) arrowheads of Altai nomads at the turn of antiquity and the Middle Ages. Izvestiya Altayskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoricheskie nauki i arkheologiya [Izvestiya of Altai State University. Series: Historical sciences and archaeology], 3 (107), pp. 104–113. (In Russ.)
- Matrenin S.S., Tishkin A.A., 2016. Bridle plaques from Altai sites of the Xiongnu-Xianbei-Rouran period: experience of classification and typology. Izvestiya Altayskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoricheskie nauki i arkheologiya [Izvestiya of Altai State University. Series: Historical sciences and archaeology], 2, pp. 220–228. (In Russ.)
- Mit’ko O.A., 2018. Archaeological evidence of the migration of Altai tribes to the Eastern European steppes at the end of the first half of the 1st millennium AD. Aktual’nye voprosy izucheniya istoriko-kul’turnogo naslediya narodov Evrazii [Current issues in the study of the historical and cultural heritage of the peoples of Eurasia]. Astana: Evraziyskiy natsional’nyy universitet imeni L.N. Gumileva, pp. 26–39. (In Russ.)
- Seregin N.N., Abdulganeev M.T., Stepanova N.F., 2019. A burial with two horses of the Turkic Khaganate period from the Gorny-10 necropolis (Northern Altai). Teoriya i praktika arkheologicheskikh issledovaniy [Theory and practice of archaeological research], 2, pp. 15–34. (In Russ.)
- Seregin N.N., Matrenin S.S., 2016. Pogrebal’nyy obryad kochevnikov Altaya vo II v. do n.e. – XI v. n.e. [Funeral rite of Altai nomads in the 2nd century BC – 11th century AD]. Barnaul: Izdatel’stvo Altayskogo universiteta. 272 p.
- Seregin N.N., Matrenin S.S., 2020. Sotsial’naya istoriya naseleniya Altaya v epokhu kochevykh imperiy (II v. do n.e. – XIV v. n.e.): po materialam arkheologicheskikh kompleksov [Social history of the population of Altai in the period of nomadic empires (2nd century BC – 14th century AD): based on materials from archaeological complexes]. Barnaul: Izdatel’stvo Altayskogo universiteta. 268 p.
- Seregin N.N., Tishkin A.A., Matrenin S.S., Parshikova T.S., 2019. Burial of the Rouran period from Northern Altai (based on materials from the Choburak-I burial ground). Teoriya i praktika arkheologicheskikh issledovaniy [Theory and practice of archaeological research], 4 (28), pp. 51–68. (In Russ.)
- Seregin N.N., Tishkin A.A., Matrenin S.S., Parshikova T.S., 2021. Saddle edges from excavated Rouran burial mounds of Altai. Narody i religii Evrazii [Peoples and religions of Eurasia], 1 (26), pp. 25–36. (In Russ.)
- Seregin N.N., Tishkin A.A., Matrenin S.S., Parshikova T.S., 2022. An extraordinary burial of a teenager with military equipment from the Rouran necropolis of Choburak-I (Northern Altai). Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii [Vestnik Arheologii, Antropologii i Etnografii], 1, pp. 122–133. (In Russ.)
- Soenov V.I., 2000. Results of excavations at the Verkh-Uimon burial ground in 1999. Drevnosti Altaya [Antiquities of Altai], 5. Gorno-Altaysk: Gorno-Altayskiy gosudarstvennyy universitet, pp. 48–62. (In Russ.)
- Soenov V.I., 2003. Arkheologicheskie pamyatniki Gornogo Altaya gunno-sarmatskoy epokhi (opisanie, sistematika, analiz) [Archaeological sites of the Altai Mountains of the Hunnic-Sarmatian period (description, taxonomy, analysis)]. Gorno-Altaysk: Gorno-Altayskiy gosudarstvennyy universitet. 160 p.
- Soenov V.I., 2017. Disturbed military burial at the Verkh-Uimon burial ground. Drevnosti Sibiri i Tsentral’noy Azii [Antiquities of Siberia and Central Asia], 8 (20). Gorno-Altaysk: Gorno-Altayskiy gosudarstvennyy universitet, pp. 117–142. (In Russ.)
- Soenov V.I., Ebel’ A.V., 1992. Kurgany gunno-sarmatskoy epokhi na Verkhney Katuni [Mounds of the Hunnic-Sarmatian period on the Upper Katun]. Gorno-Altaysk: Gorno-Altayskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy institut. 116 p.
- Teterin Yu.V., 1991. The Dialian burial ground – a new site of the pre-Turkic period in the Altai Mountains. Problemy khronologii i periodizatsii arkheologicheskikh pamyatnikov Yuzhnoy Sibiri [Problems of chronology and periodization of archaeological sites of South Siberia]. Barnaul: Izdatel’stvo Altayskogo universiteta, pp. 155–157. (In Russ.)
- Teterin Yu.V., 2005. Earrings of the Hunnic-Sarmatian period of South Siberia (problems of typology and chronology). Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya. Filologiya [Bulletin of Novosibirsk State University. Series: History. Philology], vol. 4, no. 5, pp. 52–64. (In Russ.)
- Teterin Yu.V., 2007. Tashtyk crypts of the Markelov Cape I burial ground in the north of the Khakass-Minusinsk region. Tashtykskie pamyatniki Khakassko-Minusinskogo kraya [Tashtyk sites of Khakass-Minusinsk region]. Novosibirsk: Novosibirskiy universitet, pp. 62–88. (In Russ.)
- Teterin Yu.V., 2016. Handles of whips of nomads in the Xiongnu period of South Siberia. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya. Filologiya [Bulletin of Novosibirsk State University. Series: History. Philology], vol. 15, no. 3, pp. 87–96. (In Russ.)
- Tishkin A.A., 2017. Results of radiocarbon dating of the Rouran burial mounds of the Yaloman-II site (Central Altai). Vestnik Tomskogo universiteta. Seriya: Istoriya [Bulletin of Tomsk University. Series: History], 49, pp. 54–59. (In Russ.)
- Tishkin A.A., Matrenin S.S., Shmidt A.V., 2018. Altay v syan’biysko-zhuzhanskoe vremya (po materialam pamyatnika Stepushka) [Altai in the Xianbei-Rouran period (based on materials from the Stepushka site)]. Barnaul: Izdatel’stvo Altayskogo universiteta. 368 p.
- Trifanova S.V., Soenov V.I., 2019. Ukrasheniya naseleniya Altaya gunno-sarmatskogo vremeni (Elektronnyy resurs) [Ornaments of the Altai population of the Hunnic-Sarmatian period (Electronic resource)]. Gorno-Altaysk: Gorno-Altayskiy gosudarstvennyy universitet. 160 p.
- Tur S.S., Matrenin S.S., Soenov V.I., 2018. Armed violence among the pastoralists of the Altai Mountains of the Hunnic-Sarmatian period. Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii [Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia], 4, pp. 132–139. (In Russ.)
- Umanskiy A.P., 1970. Archaeological sites near the village of Inya. Izvestiya Altayskogo otdela geograficheskogo obshchestva SSSR [News of the Altai Department of the Geographical Society of the USSR], 11, pp. 45–74. (In Russ.)
- Yaremchuk O.A., 2005. Mogil’nik Zorgol-I – pamyatnik khunno-syan’biyskoy epokhi stepnoy Daurii: dissertatsiya … kandidata istoricheskikh nauk [The Zorgol-I burial ground as a site of the Xiongnu-Xianbei period of steppe Dauria: the thesis for the Doctoral Degree in History]. Chita. 296 p.
- Yu Junyu, 1997. Relics of the Former Yan Unearthed at Sanhecheng, Chaoyang. Wenwu, 11, pp. 42–48. (In Chinese).
Supplementary files