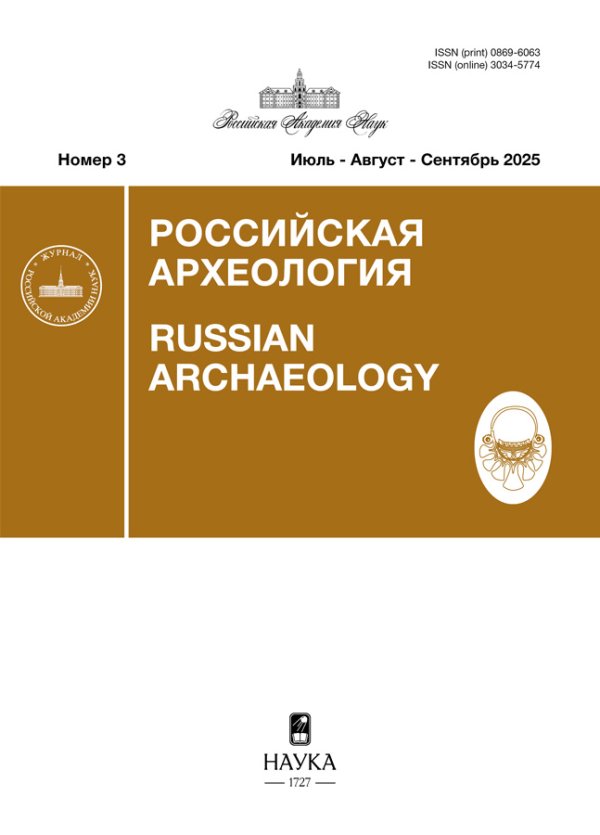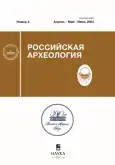Sources of Silver in North-Eastern Rus in the 10th–13th centuries ad according to lead isotope analysis
- Authors: Merkel S.W.1, Zaytseva I.E.2, Chugaev A.V.3
-
Affiliations:
- Amsterdam Free University (Vrije Universiteit)
- Institute of Archaeology RAS
- Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry RAS
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 81-99
- Section: ARTICLES
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-6063/article/view/267968
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869606324020063
- EDN: https://elibrary.ru/WOQYAB
- ID: 267968
Cite item
Full Text
Abstract
The article discusses the results of lead isotope analysis of 54 silver objects from the 9th–13th centuries AD from rural sites of Suzdal Opolye and villages around Murom. As a result of comparing the obtained data with the available databases for Pb-Pb isotopic values of archaeological objects from various collections and ore samples, it was established that in the second half of the 10th – early 11th century AD, Samanid dirhams were used in Opolye as a raw material for jewellery making. In the 11th century, silver from European sources began to flow into the region via the Baltic, becoming dominant by the end of the century. In Opolye and Murom of the 12th century, adornments were made from European raw materials.
Full Text
Хорошо известно, что Древняя Русь не имела собственных рудных источников благородных металлов: все сырье для изготовления драгоценных украшений и изделий массового потребления было привозным. Вопросы мест происхождения и путей поступления сырьевых материалов для ювелиров разных регионов древнерусского государства обсуждаются практически в каждой фундаментальной работе по металлообработке. Используются данные письменных источников (см., например: Ениосова и др., 2008. С. 155–162), анализируются материалы производственных комплексов (см., например: Олейников, Руденко, 2017), товарные слитки (Кирпичников, Ениосова, 2004), однако основной базой на сегодняшний день для рассуждений о путях поступления металлов в древнерусские производственные центры остаются массивы данных по химическому составу сплавов готовых изделий и производственных находок отдельных памятников и регионов и их сопоставление (см., например: Ениосова, Сарачева, 2005; Зайцева, Сарачева, 2011; Ениосова, 2016; Ениосова и др., 2017). Наиболее полно в настоящее время эта работа проделана для Новгорода.
Современные методы изотопного анализа свинца (Pb-Pb-анализ) уже давно активно применяются европейскими исследователями для определения источников металла археологических находок (см., например: Yener et al., 1991; Gale, 1999; Gale et al., 1997; Baker et al., 2006). Созданы базы Pb-Pb данных не только для месторождений разных регионов мира, но и охарактеризованы предметы из металлов многих древних производственных центров (Klein et al., 2022). Наиболее эффективным Pb-Pb-анализ оказывается для материалов ранних эпох, когда существовали относительно “простые” связи между производственным центром и источником металла, что обеспечивало его условную “чистоту”. Возможности Pb-Pb-метода применительно к изучению средневековых предметов, когда изделия подвергались многочисленным переплавкам с добавлением порций металла, активно обсуждаются среди исследователей (Королева, 2017). Работы С.У. Меркеля и Д. Кершоу по изучению массивов изотопных данных из находок на скандинавских памятниках эпохи викингов и их сравнение с европейским и восточным монетным материалом, а также образцами из рудных источников разных областей показали перспективность такой работы и для предметов эпохи Средневековья (Merkel, 2016, 2022; Kershaw, Merkel, 2021).
В исследованиях российских археологов-медиевистов использование результатов Pb-Pb-анализа в металлических предметах пока еще не получило широкого распространения. Тем не менее этим методом определено происхождение трех медных слитков XV в. из Новгорода (Гайдуков, Олейников, 2014), получены результаты для одного медного слитка из Старой Ладоги (Григорьева и др., 2021) и для 26 дирхемов из муромского Подболотьевского могильника (Сапрыкина и др., 2023).
Регион Суздальского Ополья в настоящее время подробно изучен работами Суздальской археологической экспедиции Института археологии РАН. Коллекция собранных в ходе исследований предметов из цветных металлов и серебра составляет более 3.5 тыс. ед. (Макаров и др., 2023). Большой массив находок получен в результате раскопок Волжской экспедицией ИА РАН сельских поселений Чаадаево 5 и Катышево 1 в округе Мурома в 2021–2022 гг. Научная ценность этих работ определяется сплошными раскопками территорий памятников, позволяющими собрать все имеющиеся в культурном слое предметы.
Одним из важнейших условий возникновения и развития крупных (“больших”) сельских поселений в X–XII вв. в Суздальском Ополье, составлявших основу жизнедеятельности региона, было формирование обширных ближних и дальних экономических контактов (Макаров и др., 2023). Наряду с другими импортами в регион поступали как монеты и готовые изделия из серебра, так и ювелирное сырье: слитки и проволока. Однако украшения из серебра редко фиксируются на селищах, больше их обнаружено в материалах некрополей. Производственные комплексы по обработке серебра в Ополье пока не открыты, но на селище Шекшово 2 найден бракованный пластинчатый перстень, а в Григорово 2 – фрагмент слитка. На Чаадаево 5 выявлены остатки цветной металлообработки в виде разрозненных находок слитков, тиглей, матриц, обрезков пластин. Изучение изотопного состава свинца в предметах обеспечивает дополнительную глубину анализа путей поступления металлов и ресурсов.
В 2018–2019 гг. нами получены первые Pb-Pb изотопные данные для 38 предметов из серебра, бронзы и легкоплавких сплавов из материалов суздальских селищ (Чугаев, Зайцева, 2019; Chugaev et al., 2020). Работа показала перспективность этого направления исследований древнерусских материалов, и было принято решение расширить источниковую базу.
В настоящей статье рассматриваются результаты анализов 54 серебряных предметов: 48 из Ополья и 6 из муромских селищ (рис. 1, 2)1. Находки из Ополья собраны в основном в верхнем распахиваемом слое сельских поселений, а также в раскопах и поверхностных сборах на грунтовом и курганном могильнике Шекшово 9. Они датируются преимущественно второй половиной X – началом XIII в. Количественно преобладают образцы второй половины X – начала XI в., происходящие из больших поселений Шекшово 2, Гнездилово 2, Суворотское 8, Кибол 5, Кубаево 7, Тарбаево 5 и из погребений некрополей Шекшово 9 и Гнездилово 12. Остальные экземпляры собраны на рядовых селищах XI–XIII вв. Определить место изготовления предметов в настоящее время затруднительно.
Шесть предметов из муромских селищ Чаадаево 5 и Катышево 1 относятся к концу XI – первой половине XIII в. Так же как и в Ополье, серебряные украшения здесь единичны. Находки второй половины X – первой половины XI в. на муромских памятниках отсутствуют, что позволяет проследить динамику поступления серебряных предметов на территорию Северо-Восточной Руси в разные хронологические периоды.
Методика исследования. Состав металла предметов определен методами рентгено-флюоресцентного анализа (РФА) и растровой электронной микроскопии с энергодисперсионным рентгеновским микроанализом (РЭМ-ЭРМ). РФА-анализы находок из Ополья проведены безвакуумным методом И.А. Сапрыкиной в Центре коллективного пользования (ЦКП) ИА РАН и А.О. Шевцовым в Отделе археологических памятников Государственного исторического музея на приборах Mistral 1 (Bruker). Чувствительность метода составляет 0.01%. ЭРМ-анализ предметов из муромских селищ выполнен И.Е. Зайцевой2 на сканирующем электронном микроскопе TESCAN VEGA Compact LMH в режиме высокого вакуума 10-3 Па. Прибор оснащен системой элементного микроанализа AZtecOne с энергодисперсионным детектором Xplore 15. Ускоряющее напряжение составляло 20 кВ. Чувствительность метода равна 0.1%. Перед проведением анализа на микро-участках предметов проводилось механическое удаление верхнего коррозионного слоя.
Изучение изотопного состава свинца выполнено А.В. Чугаевым в лаборатории изотопной геохимии и геохронологии Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН методом многоколлекторной масс-спектрометрии с ионизацией вещества в индуктивно связанной плазме (MC-ICP-MS). Анализировались пробы весом 0.01–0.03 г. Поверхность предмета в месте отбора пробы очищалась 3% раствором азотной кислоты и дистиллированной воды. Подготовка пробы заключалась в ее растворении в смеси кислот 8M NHO3+6M HCl в соотношении 2:1. Проба выдерживалась в герметичном PFA-сосуде в течение 12 часов при атмосферном давлении и температуре около 100 ˚С. Раствор упаривался досуха, после чего солевой осадок обрабатывался 1M HBr. Для получения чистых препаратов свинца использовалась ионообменная хроматография (Чугаев и др., 2013).
Масс-спектрометрические измерения изотопных отношений свинца выполнены на многоколлекторном масс-спектрометре NEPTUNE (Чернышев и др., 2007). Анализ проводился в режиме “wet plasma” для растворов образцов, трассированных таллием (Tl). Корректирование эффекта приборной масс-дискриминации осуществлялось по результатам измерения опорного отношения 205Tl/203Tl, которое принималось равным 2.3889±1. Погрешность измерения оценивалась по долговременной воспроизводимости результатов анализа стандартного образца Pb SRM 981 (n=11) и образца горной породы AGV-2 (n=4). Величина аналитической погрешности для отношений 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb и 208Pb/204Pb не превышала ±0.03% (2SD).
Из приведенных в таблице3 данных хорошо видно, что изученные нами предметы характеризуются значительной неоднородностью по изотопному составу свинца. Эта неоднородность, по-видимому, отражает происхождение металла из нескольких источников. Однако следует подчеркнуть, что отношение изотопов свинца в средневековых металлических предметах не обязательно напрямую связано с источником металла, поскольку на него могут влиять переработка, смешивание и др. (Pernicka, 2014; Kershaw, Merkel, 2021).
При интерпретации Pb-Pb изотопных данных использованы следующие важнейшие положения.
- Когда металлы смешиваются вместе, они гомогенизируются элементно и изотопно, и, таким образом, информация, относящаяся к источнику, частично сохраняется в конечном продукте.
- Рудные месторождения обладают определенными географическими и хронологическими особенностями по их разработке, поэтому, сравнивая их Pb-Pb изотопные характеристики с характеристиками готовых изделий, можно выявить корреляционные зависимости в изотопном составе свинца, которые дают возможность отследить движение металла во времени и пространстве (Merkel, 2016).
Например, Pb-Pb данные западно-/центральноевропейских серебряных монет рубежа X–XI вв., доминирующих в североевропейской морской торговле XI в., очень узкие. Они хорошо согласуются с рудными источниками Германии и/или Англии (Merkel, 2016). Такой узкий диапазон Pb-Pb данных позволяет достаточно уверенно идентифицировать западноевропейские источники серебра в исследуемом массиве.
В период раннего средневековья серебро стало важнейшим металлом для демонстрации статуса и для обмена на большей части Евразии. Его перемещение на огромные расстояния из монетизированных регионов-производителей серебра в безмонетные районы Северной и Восточной Европы на протяжении многих лет является предметом активных исследований (см., например: Янин, 2009; Merkel, 2016). Торговля серебром оказалась динамичной и очень чувствительной к хронологическим факторам. Если импорт серебра в Балтийский регион и на Русь в IX в. в основном связан с Аббасидами, а в начале X в. с Саманидами, то к концу X в. происходит смена направлений и серебро поступает сюда преимущественно из Западной Европы (Steuer et al., 2002; Hardt, 2019; Adamczyk, 2020). Византийское серебро в Европе встречается относительно редко, но его приток в виде милиарисиев достигает пика во второй половине X в. (Jankowiak, 2016). Главный вопрос, касающийся рассматриваемых здесь монет и ювелирных изделий из Северо-Восточной Руси, заключается в том, как они вписываются в международные тенденции в обороте серебра.
Результаты анализов химического состава металла (в масс. %)
Results of chemical composition analyses of the metal (wt %)
| Памятник | Предмет | Дата (век) | Происхождение металла | Изотопные отношения свинца | Ag | Cu | Au | Pb | Bi | Zn | Sn | ||||
206Pb/204Pb | 207Pb/204Pb | 208Pb/204Pb | 207Pb/206Pb | 208Pb/206Pb | ||||||||||||
1 | Гнездилово 12 | Милиарисий | X | горы Тавра | 18.616 | 15.671 | 38.792 | 0.8418 | 2.0838 | 98.3 | 1.14 | 0.6 |
|
|
|
|
2 | Весь 1 | Милиарисий | X | горы Тавра | 18.598 | 15.666 | 38.721 | 0.8423 | 2.0820 | 98.8 | 0.42 | 0.8 | ||||
3 | Шекшово 9 | Милиарисий | X | горы Тавра | 18.650 | 15.681 | 38.832 | 0.8408 | 2.0822 | 92.8 | 4.83 | 0.7 | 0.62 | 0.26 | ||
4 | Крапивье 10 | Денарий (Кнут) | XI | Европа | 18.468 | 15.636 | 38.436 | 0.8467 | 2.0812 | 96.1 | 2.46 | 0.4 | 0.39 | |||
5 | Шекшово 9 | Денарий (Этельред II) | X | смесь Саманиды/ Европа | 18.358 | 15.643 | 38.503 | 0.8521 | 2.0974 | 96.3 | 1.92 | 0.5 | 0.58 | 0.2 | ||
6 | Шекшово 9 | Денарий (Оттон III) | X–XI | рейнский массив | 18.289 | 15.622 | 38.269 | 0.8542 | 2.0925 | 96.4 | 1.13 | |||||
7 | Ратницкое 4 | Денарий (Оттон III) | X | Верхний Гарц | 18.424 | 15.628 | 38.425 | 0.8483 | 2.0857 | 95.9 | 2.23 | 0.1 | ||||
8 | Шекшово 9 | Имитация саманидского дирхама | X | Аббасиды | 18.605 | 15.651 | 38.763 | 0.8412 | 2.0835 | 92.9 | 6.7 | 0.3 | ||||
9 | Шекшово 9 | Дирхам (Волжская Болгария) | X | Аббасиды | 18.466 | 15.626 | 38.491 | 0.8462 | 2.0845 | 96.9 | 2.82 | 0.3 | ||||
10 | Шекшово 9 | Подвеска имитация дирхама | XI | Тянь-Шань | 18.175 | 15.645 | 38.324 | 0.8608 | 2.1086 | 90.6 | 5.64 | 0.42 | 1.99 | |||
11 | Ратницкое 4 | Дирхам (Саманиды. Андараба) | X | Неизвестно (Гиндукуш?) | 18.779 | 15.700 | 39.454 | 0.8360 | 2.1009 | 99.1 | 0.43 | 0.49 | ||||
12 | Весь 5 | Дирхам (Аббасиды. Багдад) | IX | горы Тавра (Пираджман) | 19.085 | 15.729 | 39.441 | 0.8241 | 2.0666 | 98.5 | 0.37 | |||||
13 | Шекшово 9 | Дирхам (Саманиды. аш-Шаш) | X | Тянь-Шань (Илак) | 17.589 | 15.549 | 37.921 | 0.8840 | 2.1559 | 95.9 | 2.62 | 1.95 | 0.9 | |||
14 | Шекшово 9 | Дирхам | IX–X | Саманиды. Афганистан | 18.731 | 15.706 | 39.000 | 0.8385 | 2.0821 | 89.9 | 6.21 | 0.4 | 1.25 | 0.5 | ||
15 | Шекшово 9 | Дирхам | IX–X | Аббасиды | 18.696 | 15.709 | 39.006 | 0.8402 | 2.0863 | 94.9 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | |||
16 | Чаадаево 5 | Вис. кольцо | XI–XIII | Зап./Центр. Европа | 18.380 | 15.627 | 38.375 | 0.8502 | 2.0879 | 96.9 | 2.6 |
| 1.5 |
|
|
|
17 | Чаадаево 5 | Перстень | XI–XIII | Зап./Центр. Европа | 18.444 | 15.644 | 38.489 | 0.8482 | 2.0867 | 90.3 | 6.6 |
| 3.4 |
|
|
|
18 | Чаадаево 5 | Вис. кольцо | XI–XIII | Зап./Центр. Европа | 18.397 | 15.643 | 38.344 | 0.8503 | 2.0842 | 86.2 | 1.5 | 0.2 | 1.7 |
|
| 0.1 |
19 | Чаадаево 5 | Вис. кольцо | XI–XIII | Зап./Центр. Европа | 18.407 | 15.609 | 38.361 | 0.8480 | 2.0840 | 94.0 | 0.9 |
| 1.6 |
|
| 0.6 |
20 | Катышево 1 | Перстень | XII–XIII | Зап./Центр. Европа | 18.363 | 15.627 | 38.376 | 0.8510 | 2.0898 | 91.5 | 4.0 | 0.3 | 1.8 |
| 0.1 | 0.5 |
21 | Катышево | Вис. кольцо | XII–XIII | Зап./Центр. Европа | 18.382 | 15.631 | 38.377 | 0.8503 | 2.0877 | 51.2 | 44.8 | 0.5 | 2.62 |
| 0.1 |
|
22 | Гнездилово 12 | Ушко милиарисия № 1 | XI | Зап./Центр. Европа | 18.391 | 15.621 | 38.395 | 0.8494 | 2.0877 | 94.0 | 3.35 |
| 0.43 |
|
|
|
23 | Григорово 2 | Слиток | X–XIII | Зап./Центр. Европа | 18.413 | 15.618 | 38.397 | 0.8482 | 2.0853 | 96.2 | 2.25 | 1.2 | 0.21 |
|
|
|
24 | Гнездилово 12 | Бусина (проволока) | XI–XII | Зап./Центр. Европа | 18.383 | 15.615 | 38.352 | 0.8494 | 2.0863 | 95.5 | 4.08 | 0.2 | 0.79 |
|
|
|
25 | Вышеславское 3 | Поясная накладка | XII | Европа (свинец Йоркшир) | 18.565 | 15.633 | 38.573 | 0.8421 | 2.0778 | 89.2 | 1.34 | 1.5 | 1.46 |
| 3.42 |
|
26 | Теренеево 1 | Перстень | XII–XIII | Зап./Центр. Европа | 18.399 | 15.618 | 38.343 | 0.8489 | 2.0840 | 91.9 | 3.94 | 2.7 |
|
|
|
|
27 | Шекшово 9 | Бусина | XI–XII | Европа (свинец Йоркшир) | 18.511 | 15.629 | 38.512 | 0.8443 | 2.0805 | 96.4 | 2.45 | 0.4 | 1.18 |
|
|
|
28 | Шекшово 2 | Бусина | X–XI | Зап./Центр. Европа | 18.377 | 15.627 | 38.366 | 0.8504 | 2.0877 | 92.8 | 4.24 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.1 |
|
29 | Шекшово 9 | Перстень | X–XI | Зап./Центр. Европа | 18.401 | 15.638 | 38.450 | 0.8498 | 2.0895 | 90.6 | 2.6 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 1.1 |
30 | Михали 3 | Проволока | XI–XII | Зап./Центр. Европа | 18.366 | 15.634 | 38.394 | 0.8512 | 2.0905 | 87.2 | 11.0 | 0.5 | 2.2 | 0.2 | 0.2 |
|
31 | Шекшово 9 | Вис. кольцо | XI–XIII | Зап./Центр. Европа | 18.368 | 15.638 | 38.427 | 0.8514 | 2.0921 | 88.0 | 6.7 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 0.9 |
32 | Шекшово 9 | Вис. кольцо | XI–XII | Зап./Центр. Европа | 18.406 | 15.606 | 38.383 | 0.8479 | 2.0854 | 97.2 | 2.0 | 0.3 | 1.3 |
|
|
|
33 | Суворотское 8 | Крест | XI–XIII | Зап./Центр. Европа | 18.396 | 15.634 | 38.402 | 0.8499 | 2.0875 | 82.8 | 9.9 |
| 1.1 |
| 1.6 |
|
34 | Суворотское 8 | Крест | XII–XIII | Зап./Центр. Европа | 18.400 | 15.634 | 38.407 | 0.8497 | 2.0873 | 95.2 | 2.4 | 0.7 |
|
| 0.2 |
|
35 | Шекшово 9 | Ушко денария № 6 | XI | Саманиды? | 18.152 | 15.622 | 38.432 | 0.8606 | 2.1172 | 96.7 | 1.89 | 0.1 | 0.22 |
|
|
|
36 | Вышеславское 3 | Нашивная бляшка | X–XI | Саманиды? | 18.325 | 15.658 | 38.670 | 0.8544 | 2.1102 | 94.6 | 4.09 | 1.0 | 0 |
|
|
|
37 | Шекшово 9 | Подвеска | X–XI | Саманиды? | 18.374 | 15.645 | 38.646 | 0.8515 | 2.1033 | 96.1 | 3.28 | 0.2 | 0.46 | 0.2 |
|
|
38 | Шекшово 9 | Фибула | X–XI | Саманиды? | 18.486 | 15.668 | 38.748 | 0.8475 | 2.0961 | 92.4 | 5.95 | 0.1 | 0.13 | 0.6 |
|
|
39 | Шекшово 9 | Гривна | X–XI | Саманиды? | 18.366 | 15.650 | 38.655 | 0.8521 | 2.1047 | 93.9 | 4.49 | 0.2 |
| 0.7 |
|
|
40 | Шекшово 9 | Подвеска | X–XI | Саманиды? | 18.403 | 15.652 | 38.694 | 0.8505 | 2.1026 | 96.4 | 0 | 0.1 | 0.63 | 0.1 |
|
|
41 | Ратницкое 4 | Ушко денария № 7 | XI | Аббасиды? | 18.542 | 15.670 | 38.735 | 0.8451 | 2.0890 | 96.0 | 3.07 | 0.4 | 2.02 |
|
|
|
42 | Шекшово 9 | Поясная накладка | X | Аббасиды? | 18.754 | 15.706 | 38.929 | 0.8375 | 2.0758 | 63.6 | 24.4 | 1.3 | 1.08 | 0.3 | 7.2 |
|
43 | Шекшово 9 | Поясная накладка | X | Аббасиды? | 18.640 | 15.695 | 38.811 | 0.8420 | 2.0821 | 89.9 | 7.29 | 0.2 | 0.91 | 0.3 | 0.06 | 0.3 |
44 | Ратницкое 4 | Ушко дирхама № 10 | X–XI | Саманиды? Афганистан? | 18.936 | 15.724 | 39.427 | 0.8304 | 2.0821 | 96.1 | 2.74 |
| 0.05 |
|
|
|
45 | Шекшово 9 | Гривна | X–XI | Восток | 18.458 | 15.659 | 38.691 | 0.8483 | 2.0962 | 97.1 | 2.05 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
|
|
46 | Шекшово 9 | Перстень | X–XI | Саманиды. Согдиана | 18.346 | 15.652 | 38.680 | 0.8531 | 2.1084 | 96.3 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.5 |
| 0.3 |
47 | Шекшово 9 | Поясная накладка | X | Иран? | 18.755 | 15.704 | 38.919 | 0.8373 | 2.0751 | 87.7 | 6.7 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.1 |
48 | Шекшово 9 | Гривна | X–XI | восточное/ европейское смесь | 18.438 | 15.661 | 38.653 | 0.8494 | 2.0963 | 95.9 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 |
|
|
49 | Шекшово 9 | Вис. кольцо | XI–XII | Иран? | 18.756 | 15.709 | 38.936 | 0.8375 | 2.0759 | 94.5 | 4.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 0.2 |
50 | Шекшово 9 | Вис. кольцо | XI–XII | восточное/ европейское смесь | 18.400 | 15.650 | 38.570 | 0.8505 | 2.0961 | 96.3 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.2 |
| 0.5 |
51 | Шекшово 9 | Поясная накладка | X | дирхамы Багдад | 19.024 | 15.730 | 39.408 | 0.8269 | 2.0715 | 89.9 | 7.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
52 | Шекшово 9 | Браслет | X–XI | Саманиды? | 18.883 | 15.724 | 39.334 | 0.8327 | 2.0831 | 71.6 | 17.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
|
|
53 | Шекшово 9 | Бусина | XI–XII | восточное/ европейское смесь | 18.473 | 15.658 | 38.616 | 0.8476 | 2.0905 | 94.5 | 4.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 |
|
|
54 | Михали 3 | Крест | XII–XIII | восточное/ европейское смесь | 18.407 | 15.628 | 38.492 | 0.8490 | 2.0912 | 42.0 | 55.3 |
|
|
| 0.9 |
|
Примечание: номера 7 и 41 на рис. 1 не представлены.
Рис. 1. Серебряные предметы из Суздальского Ополья и Муромских селищ. Денарий (№ 7, 41 в таблице) не представлен.
Fig. 1. Silver objects from Suzdal Opolye and Murom rural sites
Рис. 2. Серебряные предметы из Суздальского Ополья.
Fig. 2. Silver objects from Suzdal Opolye
Нами исследовано 54 предмета (таблица; рис. 1, 2). Материалы из Ополья представлены 15 монетами (3 милиарисия, 4 денария и 8 дирхамов и их подражаний) и 4 ушками от них, фрагментом слитка, бракованным перстнем, 5 поясными накладками, 4 из которых из Шекшово 9, вероятно, входили в один набор (Зайцева, 2015), 3 крестами-тельниками, 7 височными кольцами (браслетообразное втульчатое мерянского типа, два перстнеобразных и 4 бусины от трехбусинных колец), бусиной, двумя щитообразными подвесками, обломками двух дротовых гривен, двумя перстнями (широкосрединным с завязанными концами и щитковым), нашивной бляшкой, подковообразной фибулой. Из муромских селищ происходят четыре височных кольца (перстнеобразное с завитком и три трехбусинных) и два щитковых перстня.
Монеты. Византийские милиарисии (рис. 1, 1–3). Все три монеты датируются второй половиной X в. (от Константина VII Багрянородного (945–959) до Василия II (977–989)). По изотопному составу свинца они сходны с двумя (из трех) ранее проанализированными милиарисиями из Хедебю (монеты Никифора II (963–969) и Василия II (977–989) (Merkel, 2016)). Вероятно, металл пяти из шести исследованных монет происходит из одного источника. Три образца из Ополья содержат повышенное содержание золота (0.6–0.8%) и низкое висмута и, следовательно, не имеют отношения к саманидскому серебру (Ениосова, Митоян, 2011). Скорее всего, для их чеканки было использовано серебро, полученное в пределах Византии. Месторождения серебра с подобными свинцово-изотопными характеристиками достаточно редки в Эгейском регионе, но существуют некоторые аналоги месторождений с серебросодержащей полиметаллической минерализацией из района Болкардаг/Аладаг в западных горах Тавра (Тавр 2A) (рис. 3) (Yener et al., 1991). В начале 960-х годов здесь наблюдалась военная активность Византии, приведшая к завоеванию соседней Киликии (Garrood, 2008). Резкое увеличение экспорта византийских серебряных монет на Север и его связь с появлением у Византии доступа к богатым серебряным рудникам в горах западного Тавра – актуальная тема для дальнейших исследований.
Рис. 3. Сравнение византийских серебряных монет с рудами Таврских гор (Тавр 2А). Условные обозначения: а – предметы из серебра (Ополье и Муром); б – руды гор Тавра 2А; в – милиарисии (Ополье); г – милиарисии (Хедебю).
Fig. 3. Comparison of Byzantine silver coins with ores of the Taurus Mountains (Taurus 2A)
Основываясь только на Pb-Pb изотопных данных, можно отметить, что монеты из Ополья близки по своим характеристикам к золото-серебряным месторождениям Роша Монтана в Румынии (Baron et al., 2011). Однако считается, что их разработка была прекращена еще в римский период. Новый этап добычи руд в этом регионе приходится только на XIII–XIV вв. и связан с саксонскими иммигрантами (Ciugudean, 2012). Это позволяет исключить данный регион из рассмотрения.
Имитации дирхамов (рис. 1, 8–10). Проанализированы три образца: два не идентифицированы и один имеет волжско-булгарское происхождение. Поскольку на территории Волжской Булгарии не было серебряных рудников, можно с уверенностью предположить, что серебро для их чеканки поступало из южных регионов (переработка куфических монет).
Рис. 4. Сравнение дирхамов и их подражаний с базой данных аббасидских дирхамов. Условные обозначения: а – аббасидские дирхамы; б – подражания дирхамам (Ополье); в – аббасидский дирхам (Ополье); г –неопределимые дирхамы (Ополье).
Fig. 4. Comparison of dirhams and their imitations with the Abbasid dirham database
Одна монета (№ 8, подражание саманидскому дирхаму Насра б. Ахмада, X в.) имеет величины изотопных отношений свинца, идентичные аббасидским дирхамам (рис. 4), а также содержит меньше висмута, чем саманидские дирхамы, которые она имитирует. Аналогичные особенности установлены ранее для волжско-булгарского дирхама из Хедебю (Merkel, 2016). Имитация дирхама (№ 9) изготовлена из серебра, которое по изотопному составу свинца аналогично иранским дирхамам Аббасидов (Merkel et al., 2023). Экземпляр № 10 (подражание с неопределимым прототипом) относится к группе Тянь-Шань. В арабском серебре примесь цинка в основном не превышает тысячных долей процента (Ilisch et al., 2003. S. 31–39), тогда как в этой монете зафиксировано его высокое содержание (1.99%), что может указывать на разбавление серебра медным сплавом (латунью). Судя по опубликованным данным, серебро разбавляли латунными сплавами на территории Волжской Болгарии и Хазарского каганата (Валиулина, Храмченкова, 2001. С. 273–274. Табл. 1). Все три монеты были сделаны из переплавленных дирхамов.
Куфические дирхамы (рис. 1, 11–15). Самая ранняя из изученных монет – Аббасидский дирхам Харуна ар-Рашида, отчеканенный в Мадинат ас-Саламе (соврем. Багдад) в 807/808 г. (№ 12). Он имеет низкое содержание золота и висмута. Величины изотопных отношений свинца в нем соответствуют основной группе синхронных монет из Ирака (после 773 г.; группа Пираджман), металл которых происходит из месторождений восточного Тавра (рис. 4) (Merkel, в печати). Второй дирхам – Саманиды, Ахмад б. Исма‘ил (907–914 гг.), аш-Шаш (№ 13), по своим Pb-Pb изотопным характеристикам совпадает с другими изученными ранее монетами из аш-Шаша (рис. 5) и отходами средневекового производства серебра (шлаками) из Тункета в области Илак (Merkel, 2016).
Саманидский дирхам (№ 11, Наср б. Ахмад, место чеканки затерто, по типу – Андараба, (934/935 г.)) существенно отличается по величине отношения 208Pb/204Pb, которое составляет 39.45. Как следствие, значение Th/U, рассчитанное согласно модели Стейси-Крамерса (1975), весьма высокое и составляет 4.22.
Рис. 5. Сравнение дирхамов и их подражаний с основными изотопными группами саманидских дирхамов. Условные оозначения: а – афганские дирхамы; б – дирхамы Шаша; в – подражания дирхамам (Ополье); г – неопределимые дирхамы (Ополье); д – дирхам Шаша (Ополье).
Fig. 5. Comparison of dirhams and their imitations with the main isotopic groups of Samanid dirhams
Близкие значения обнаруживают месторождения гор Гиндукуша (Stacy et al., 1980; al-Ganad et al., 1994; Merkel, 2016), что позволяет их рассматривать в качестве возможного источника серебра для изготовления дирхама. Однако из-за ограниченности справочных данных этот вывод требует дальнейшего подтверждения. Фрагменты дирхамов (№ 14, 15) содержат висмут и имеют изотопные отношения свинца, соответствующие иранским дирхамам Аббасидов (рис. 4) и дирхамам Саманидов из Северного Афганистана: Балха и Андарабы (рис. 5).
Европейские монеты (рис. 1, 4–6). Изотопные характеристики двух пфеннингов Оттона III позволяют предположить, что источники их металла находились в Германии: один (№ 7) – это месторождения Верхнего Гарца, а другой (№ 6) – Рейнского массива.
Рис. 6. Сравнение европейских монет и украшений из Ополья с монетами конца X–XI в. из Германии, Дании, Англии и Ирландии, а также свинцом и пьютером из Хедебю и Шлезвига. 1 – монеты; 2 – украшения. Условные обозначения: а – европейские монеты (Ополье); б – европейские монеты; в – пьютер/свинец (Дания); г – украшения “типа дирхамов”; д – украшения “европейского типа”; е – европейские монеты; ж – пьютер/свинец (Дания).
Fig. 6. Comparison of European coins and jewellery from Opolye with coins from the late 10th–11th centuries AD from Germany, Denmark, England and Ireland, as well as lead and pewter from Hedeby and Schleswig
Полученные нами Pb-Pb изотопные данные полностью согласуются с результатами изучения подобных монет из Хедебю (Merkel, 2016). Англосаксонский пенни Кнута (№ 4) имеет параллели во многих экземплярах конца X–XI в. из регионов Северного и Ирландского морей. Металл этих монет, вероятно, связан с экспортом серебра из районов современной Западной и Центральной Германии (рис. 6, 1; Merkel, 2016). По изотопному составу свинца он близок к металлическому свинцу, циркулирующему по побережьям Северного и Балтийского морей в это время (находки из Хедебю и Шлезвига (Merkel, в печати)).
Англосаксонский пенни Этельреда II конца X в. (№ 5) не вписывается в эту картину. Серебро образца содержит висмут, а величины изотопных отношений свинца в нем позволяют полагать, что это смесь саманидского и европейского металлов. Аналогичная смесь исламского и европейского серебра установлена для англо-норвежского пенни середины X в. из Йорка (Merkel, 2016. Cat. 68). Эти два примера маркируют импорт восточного серебра в Англию в X в. через скандинавские контакты.
Украшения из серебра (рис. 1, 15–48, 50, 51; 2). Сопоставляя Pb-Pb изотопные данные серебряных украшений из Суздальского Ополья и муромских селищ с европейскими монетами из Англии, Ирландии, Дании, Саксонии и Нижнего Рейна, можно видеть, что 19 из 39 артефактов соответствуют Pb-Pb данным металла, который, вероятно, был получен из европейских месторождений (рис. 6, 2). Два предмета – поясная накладка (№ 25) и бусина (№ 27), имеют изотопный состав свинца, сходный с данными по полиметаллическим рудам месторождений Йоркшира, одного из основных источников свинца в то время в Северной Европе (Kershaw, Merkel, 2023). Нельзя исключать, что свинец из Англии мог использоваться в рафинировании серебра (купеляции).
Остальные 20 предметов либо совершенно не связаны с европейским серебром, либо изготовлены из смеси серебра из разных источников (рис. 7).
Рис. 7. Сравнение украшений из Ополья и Мурома с саманидскими дирхамами и их подражаниями. Условные обозначения: а – украшения “типа дирхамов”; б – украшения “европейского типа”; в – подражания дирхамам (Ополье); г – дирхамы (Ополье); д – подражания дирхамам (Merkel, 2016); е – дирхамы (Merkel, 2016).
Fig. 7. Comparison of decorations from Opolye and Murom with Samanid dirhams and their imitations
Повышенные уровни висмута фиксируются в металле, поступавшем из контролируемых Саманидами регионов Центральной Азии и Афганистана в X в. (Ениосова, Митоян, 2011. С. 93). В этом серебре, как правило, содержание 208Pb/206Pb по отношению к 207Pb/206Pb выше, чем в европейском металле X–XI вв. (Merkel, 2016). На рис. 6, 2 восточное серебро не только отображается на отдельной линии тренда выше европейского серебра, но и демонстрирует значительно больший диапазон отношений изотопов свинца.
Если разделить изученные украшения на две группы по изотопному составу свинца: изделия с изотопными метками “европейского типа” и “типа дирхамов”, то можно заметить, что висмут преимущественно фиксируется в металле второй группы (рис. 8). Наличие корреляционной зависимости между свинцово-изотопными характеристиками изделия и содержания в нем висмута подтверждает вывод о том, что металл для части изученных нами серебряных украшений имеет происхождение из регионов Центральной Азии и Афганистана. Таким образом, повышенная концентрация висмута и более высокое содержание 208Pb и 207Pb изотопов в свинце металла изделий служат маркерами, указывающими на переработку саманидских дирхамов, которые были в доступе на большей части Евразии в начале–середине X в. (Noonan, 2001).
Все предметы с изотопными характеристиками “типа дирхамов” найдены в Суздальском Ополье. Из такого металла изготовлено большинство украшений второй половины X – начала XI в. (таблица), в числе которых браслетообразное втульчатое височное кольцо мерянского типа (№ 49), накладки серебряного поясного набора (№ 42, 43, 47, 51) и щитообразные подвески (№ 37, 40). Большая часть опольского серебра ранней группы, вероятно, была получена в результате переработки саманидских монет первой половины X в. (о путях поступления дирхамов в Ополье см. Гомзин, 2023). Позднее качество серебра этих монет быстро снизилось, что привело к прекращению их экспорта (Noonan, 2001; Ilisch et al., 2003). На муромских селищах, хронологические позиции которых позже (с рубежа XI–XII вв.), нет ни одной такой находки.
Рис. 8. Группы серебряных украшений (Ополье и Муром). Условные обозначения: а – содержат висмут; б – не содержат висмут.
Fig. 8. Groups of silver jewellery (Opolye and Murom), with bismuth in the metal (a) and without it (б)
Торговля восточным серебром из других источников и, возможно, византийским серебром продолжалась и в более позднее время (Roslund, 2015), однако, этот вопрос требует специального изучения с привлечением узко датированных предметов. Наши исследования позволяют полагать, что вторая половина, а скорее, конец XI в., – время прекращения массовой переработки куфического серебра и его окончательного исчезновения из сырьевого оборота на территории Северо-Восточной Руси. На смену ему приходит центральноевропейский металл, который доставляется преимущественно в виде сырьевых продуктов: слитков и проволоки (слиток № 23 из Григорово 2). Пример использования такого сырья – литейный брак пластинчатого перстня с геометрическим орнаментом из Шекшово 9 (№ 29). Трехбусинные и перстнеобразные височные кольца XI–начала XII в. сделаны уже из смешанного или из металла только европейского происхождения (№ 24, 27, 31, 32, 50, 51), а наиболее поздние в суздальской выборке украшения второй половины XI–XII в. (№ 25, 26) – только из европейского. Из него же изготовлены и все проанализированные изделия из Чаадаево 5 и Катышево 1 (№ 16–21).
Таким образом, благодаря привлечению Pb-Pb-метода для изучения средневековых артефактов из Суздальского Ополья и окрестностей Мурома впервые появилась возможность достоверно связать обнаруженные в Северо-Восточной Руси серебряные украшения X–XIII вв. с потенциальными источниками металла, что позволило на качественно новом уровне исследовать проблему евразийского оборота серебра.
Наличие серебра европейского и исламского происхождения свидетельствует о ввозе металла в Суздальское Ополье с обоих направлений. При этом во второй половине X – первой половине XI в. основным сырьем при производстве украшений в регионе были саманидские дирхамы X в. В течение XI в. поток саксонского и англосаксонского серебра наводнил Прибалтику и полностью заменил восточное серебро. Полученные нами результаты показывают, что он достигал и достаточно отдаленных от моря северо-восточных территорий Древнерусского государства: все украшения из опольских и муромских селищ конца XI – начала XIII в. изготовлены из металла “европейского типа”. Конец XI в. можно считать переломным периодом в обороте серебра в Северо-Восточной Руси – временем окончательного выхода из сырьевой базы куфического серебра и полную переориентацию мастеров на западные источники металла.
Авторы выражают глубокую признательность Н.А. Макарову и О.В. Зеленцовой за предоставление материалов для исследования, а также А.А. Гомзину за определение куфических монет и консультации.
Работа выполнена в рамках плановой темы ИА РАН, НИОТКР № 122011200266-3.
1 Предметы из сплавов на основе меди и легкоплавких сплавов будут проанализированы в другой статье.
2 Исследование проведено с использованием приборной базы ЦКП ИА РАН.
3 В статье (текст, рисунки, таблица) для удобства дана единая сквозная нумерация предметов.
About the authors
Stephen W. Merkel
Amsterdam Free University (Vrije Universiteit)
Author for correspondence.
Email: swmerkel@hotmail.com
Netherlands, Amsterdam
Irina E. Zaytseva
Institute of Archaeology RAS
Email: izaitseva@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
Andrey V. Chugaev
Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry RAS
Email: vassachav@mail.ru
Russian Federation, Moscow
References
- Adamczyk D., 2020. Monetarisierungsmomente, Kommerzialisierungszonen oder fiskalische Währungslandschaften? Edelmetalle, Silberverteilungsnetzwerke und Gesellschaften in Ostmitteleuropa (800–1200). Wiesbaden: Harrassowitz. 305 p.
- Baker J., Stos S., Wеight T., 2006. Lead isotope Analysis of Archaeological Metals by Multiple-Collector inductively coupled Plasma Mass Spectrometry. Archaeometry, vol. 48, iss. 1, pp. 45–56.
- Baron S., Tămaş C., Cauuet B., Munoz M., 2011. Lead isotope analyses of gold-silver ores from Roşia Montană (Romania): a first step of a metal provenance study of Roman mining activity in Alburnus Maior (Roman Dacia). Journal of Archaeological Science, vol. 38, iss. 5, pp. 1090–1100.
- Chernyshev I.V., Chugaev A.V., Shatagin K.N., 2007. High-precision Pb isotope analysis by multicollector-ICP-mass-spectrometry using 205TI/203TI normalization: optimization and calibration of the method for the studies of Pb isotope variations. Geokhimiya [Geochemistry International], 11, pp. 1155–1168. (In Russ.)
- Chugaev A.V., Chernyshev I.V., Lebedev V.A., Eremina A.V., 2013. Lead isotopic composition and the origin of Quaternary lavas of the Elbrus volcano (Big Caucasus, Russia): data from the high-precision MC-ICP-MS method. Petrologiya [Petrology], vol. 21, no. 1, pp. 20–33. (In Russ.)
- Chugaev A.V., Merkel S.W., Zaytseva I.E., 2020. Lead isotopic characteristics and metal sources for the jewelry in the medieval rural settlements from Suzdal Region (Kievan Rus’). Metalla, vol. 25, no. 2. Bochum, pp. 101–125.
- Chugaev A.V., Zaytseva I.E., 2019. Lead isotopic composition in ornaments from medieval rural settlements of Suzdal Opolye and identification of metal sources. Arkheologiya i istoriya Pskova i Pskovskoy zemli: Ezhegodnik Seminara imeni akademika V.V. Sedova [Archaeology and history of Pskov and the Pskov land: Yearbook of the Academician V.V. Sedov seminar], 34. Materialy 64-go zasedaniya (2018 g.) [Proceedings of the 64th session (2018)]. Moscow; Pskov: Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk, pp. 348–376. (In Russ.)
- Ciugudean H., 2012. Ancient gold mining in Transylvania: the Roşia Montană-Bucium Area. Caiete ARA, 3, pp. 219–232.
- Eniosova N.V., 2016. Chemical composition of non-ferrous metal from Gnyozdovo. Istoricheskiy zhurnal. Nauchnye issledovaniya [History magazine – Research], 6 (36), pp. 724–733. (In Russ.)
- Eniosova N.V., Mitoyan R.A., 2011. Arab silver as a source of raw materials for Slavic and Scandinavian jewellers (based on materials from the Gnyozdovo hoards of the 10th century AD). Ot paleolita do Srednevekov’ya [From the Palaeolithic to the Middle Ages]. Moscow: Istoricheskiy fakul’tet Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta, pp. 90–95. (In Russ.)
- Eniosova N.V., Mitoyan R.A., Saracheva T.G., 2008. Chemical composition of jewellery raw materials of the Middle Ages and the ways of its import to the territory of Rus. Tsvetnye i dragotsennye metally i ikh splavy na territorii Vostochnoy Evropy v epokhu Srednevekov’ya [Non-ferrous and precious metals and their alloys in the territory of Eastern Europe during the Middle Ages]. Moscow: Vostochnaya literatura, pp. 107–162. (In Russ.)
- Eniosova N.V., Mitoyan R.A., Singkh V.K., 2017. New data on the chemical composition of raw materials used by Novgorod jewellers in the 10th–15th centuries AD. Arkheologiya i istoriya Pskova i Pskovskoy zemli. Seminar imeni akademika V.V. Sedova [Archaeology and history of Pskov and the Pskov land. Academician V.V. Sedov Seminar], 32. Materialy 62-go zasedaniya (2016 g.) [Proceedings of the 62nd session (2016)]. Moscow; Pskov: Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk, pp. 187–203. (In Russ.)
- Eniosova N.V., Saracheva T.G., 2005. “Gold is from Greeks... but silver is from the Czech and Hungarian lands” (Routes of importing jewellery raw materials to the North and South of Rus in the 9th–11th centuries AD). Rus’ v IX–XIV vekakh. Vzaimodeystvie Severa i Yuga [Rus in the 9th–14th centuries AD. Interaction of North and South]. Moscow: Nauka, pp. 11–19. (In Russ.)
- Gale N.H., 1999. Lead isotope characterization of the ore deposits of Cyprus and Sardinia and its application to the discovery of the sources of copper for Late Bronze Age oxhide ingots. Metals in Antiquity. Oxford: Archaeopress, pp. 110–121. (British Archaeological Reports. International Series, 792).
- Gale N.H., Stos-Gale Z.A., Maliotis G., Annetts N., 1997. Lead isotope data from the isotrace laboratory, Oxford: Archaeometry data base 4, ores from Cyprus. Archaeometry, vol. 39, iss. 1, pp. 237–246.
- Al-Ganad I., Lagny P., Lescuyer J.L., Ramboz C., Touray J.C., 1994. Jabali, a Zn-Pb-(Ag) carbonate-hosted deposit associated with Late Jurassic rifting in Yemen. Mineralium Deposita, 29, pp. 44–56.
- Garrood W., 2008. The Byzantine conquest of Cilicia and the Hamdanids of Aleppo, 959–965. Anatolian Studies, 58, pp. 127–140.
- Gaydukov P.G., Oleynikov O.M., 2014. On the sources of raw materials on the Novgorod market of non-ferrous metals in the 15th century AD. Novgorod i Novgorodskaya zemlya [Novgorod and the Novgorod land], 28. Velikiy Novgorod: Novgorodskiy muzey-zapovednik, pp. 263–266. (In Russ.)
- Gomzin A.A., 2023. Kufic coins. Arkheologiya Suzdal’skoy zemli [Archaeology of the Suzdal land], 2. Moscow; Vologda: Drevnosti Severa, pp. 87–102. (In Russ.)
- Grigor’eva N.V., Krupenik V.A., Krupenik Z.V., 2021. Copper of the Volkhov River banks. Arkheologicheskie vesti [Archaeological news], 31. St. Petersburg: Institut istorii material’noy kul’tury Rossiyskoy akademii nauk, pp. 277–285. (In Russ.)
- Hardt M., 2019. The importance of long-distance trade of the Slavic princes in the Early and High Middle Ages. The Medieval Networks in East Central Europe: Commerce, Contacts, Communication. London: Routledge, pp. 174–186.
- Ilisch L., Lorenz S., Stern W.B., Steuer H., 2003. Dirham und Rappenpfennig. Mittelalterliche Münzprägung in Bergbauregionen. Bonn: Habelt. 204 p. (Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters; supplement 17).
- Jankowiak M., 2016. Byzantine coins in Viking-Age northern lands. Byzantium and the Viking world. F. Androshchuk, J. Shepard, M. White, eds. Uppsala: Uppsala Universiteit, pp. 117–139. (Studia Byzantina Upsaliensia, 16).
- Kershaw J., Merkel S.W., 2021. Silver recycling in the Viking Age: Theoretical and analytical approaches. Archaeometry, 64, pp. 116–133.
- Kershaw J., Merkel S.W., 2023. International trade in outland resources: the mining and export of lead in early medieval England in light of new isotope data from York. Medieval Archaeology, vol. 67, iss. 2, pp. 249–282.
- Kirpichnikov A.N., Eniosova N.V., 2004. Casting moulds for producing ingots from Staraya Ladoga. Vostochnaya Evropa v Srednevekov’e: k 80-letiyu Valentina Vasil’evicha Sedova [Eastern Europe in the Middle Ages: to the 80th anniversary of Valentin Vasilievich Sedov]. Moscow: Nauka, pp. 290–296. (In Russ.)
- Klein S., Rose T., Westner K.J., Hsu Y.-K., 2022. From OXALID to GlobaLID: Introducing a modern and FAIR lead isotope database with an interactive application. Archaeometry, vol. 64, iss. 4, pp. 935–950. doi: 10.1111/arcm.12762.
- Koroleva E.V., 2017. Interpretation of data on the chemical composition of medieval objects: opportunities and risks of an integrated approach. Arkheologiya i istoriya Pskova i Pskovskoy zemli. Seminar imeni akademika V.V. Sedova [Archaeology and history of Pskov and the Pskov land. Academician V.V. Sedov Seminar], 32. Materialy 62-go zasedaniya (2016 g.) [Proceedings of the 62nd session (2016)]. Moscow; Pskov: Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk, pp. 27–35. (In Russ.)
- Makarov N.A., Shpolyanskiy S.V., Fedorina A.N., 2023. General nature of settling and the dynamics of territory development. Arkheologiya Suzdal’skoy zemli [Archaeology of the Suzdal land], 1. Moscow; Vologda: Drevnosti Severa, pp. 41–68. (In Russ.)
- Merkel S., 2022. The elemental and lead isotope analysis of brass and other copper-based alloys from Viking Hedeby and High Medieval Schleswig. Haithabu 983–1066. Der Untergang eines dänischen Handelszentrums in der späten Wikingerzeit. München: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, pp. 423–456. (Die Ausgrabungen in Haithabu, 19).
- Merkel S.W. Early to high medieval lead, pewter and tin from workshops and trading contexts in West and North Germany: Elemental and lead isotope analysis. (In print).
- Merkel S.W., 2016. Silver and the Silver Economy at Hedeby. Raw Materials, Innovation, Technology of Ancient Cultures. Bochum: Verlag Marie Leidorf. 273 p.
- Merkel S.W., Oravisjärvi J., Kershaw J., 2023. Early Islamic silver: sources revealed through lead isotope analysis of dirhams. Antiquity, vol. 97, iss. 396, pp. 1564–1580.
- Noonan T.S., 2001. Volga Bulgharia’s tenth-century trade. Archivum Eurasiae medii aevi, 11, pp. 140–218.
- Oleynikov O.M., Rudenko K.A., 2017. Finds of copper ladles of 12th century in Veliky Novgorod: the issue of the sources and composition of raw materials in the Novgorod market of non-ferrous metals revisited. Kratkie soobshcheniya Instituta arkheologii [Brief Communications of the Institute of Archaeology], 247. C. 326–341. (In Russ.)
- Pernicka E., 2014. Provenance Determination of Archaeological Metal Objects. Archaeometallurgy in Global Perspective: Methods and Syntheses. Heidelberg: Springer, pp. 239–268.
- Roslund M., 2015. At the end of the silver flow. Islamic dirhams in Sigtuna and the shrinking Viking network. Small Things Wide Horizons: Studies in Honour of Birgitta Hårdh. Oxford: Archaeopress, pp. 43–48.
- Saprykina I.A., Chugaev A.V., Zelentsova O.V., Bakirov B.A., Kichanov S.E., 2023. Study of the chemical and Pb isotope composition in dirhams from the Podbolotyevo cemetery. Nizhnevolzhskiy arkheologicheskiy vestnik [The Lower Volga archaeological bulletin], vol. 22, no. 2, pp. 168–185. (In Russ.)
- Stacy J.S., Doe B.R., Roberts R.J., Delevaux M.H., Gramlicht J.W., 1980. A lead isotope study of mineralization in the Saudi Arabian Shield. Contributions to Mineralogy and Petrology, 74, pp. 175–188.
- Steuer H., Stern W.B., Goldenberg G., 2002. Der Wechsel von der Münzgeld- zur Gewichtsgeldwirschaft in Haithabut um 900 und die Herkunft des Münzsilbers im 9. und 10. Jahrhundert. Haithabu und die frühe Stadtentwicklung im nördlichen Europa. Neumünster: Wachholtz, pp. 133–167.
- Valiulina S.I., Khramchenkova R.Kh., 2001. Chemical composition of non-ferrous metal objects from the Bolshye Tigany burial ground. Drevnie remeslenniki Priural’ya [Ancient artisans of the Urals]. Izhevsk: Udmurtskiy institut istorii, yazyka i literatury Ural’skogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk, pp. 264–280. (In Russ.)
- Yanin V.L., 2009. Denezhno-vesovye sistemy domongol’skoy Rusi i ocherki istorii denezhnoy sistemy srednevekovogo Novgoroda [Monetary weight systems of pre-Mongol Rus and studies in the history of the medieval Novgorod’s monetary system]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul’tur. 414 p.
- Yener K., Sayre E., Joel E., Ozbal Barnes I., Brill R., 1991. Stable lead isotope studies of Central Taurus оre sources and related artifacts from Eastern Mediterranean Chalcolithic and Bronze Age sites. Journal of Archaeological Science, 18, pp. 541–577.
- Zaytseva I.E., 2015. Belt sets from the Shekshovo cemetery in Suzdal Opolye region. Kratkie soobshcheniya Instituta arkheologii [Brief Communications of the Institute of Archaeology], 236, pp. 161–165. (In Russ.)
- Zaytseva I.E., Saracheva T.G., 2011. Yuvelirnoe delo “Zemli vyatichey” vo vtoroy polovine XI – XIII v. [Jewellery craft of the Land of Vyatichs in the second half of the 11th – 13th century AD]. Moscow: Indrik. 402 p.
Supplementary files