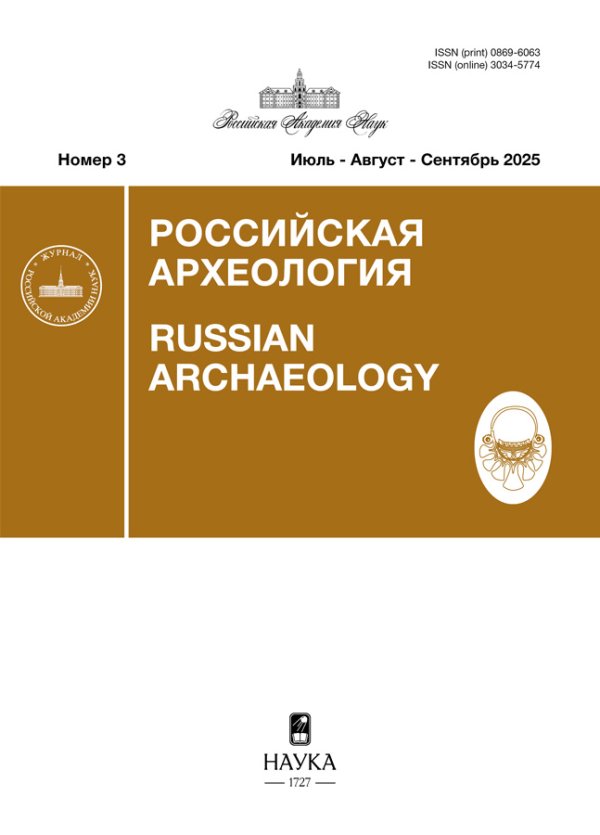The investigative CASE against the state Academy for the History of material culture (1936–1937): background, formation, results
- Authors: Zastrozhnova E.G.1, Medvedeva M.V.2, Ponikarovskaya M.V.1
-
Affiliations:
- St. Petersburg Branch of the RAS Archive
- Institute for the History of Material Culture RAS
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 171-182
- Section: HISTORY OF SCIENCE
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-6063/article/view/276098
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869606324030131
- EDN: https://elibrary.ru/WZJXVV
- ID: 276098
Cite item
Full Text
Abstract
Political repressions against the scientific staff of academic institutions in Leningrad led to the destruction of scientific schools and the reorganization of institutes. Significant changes in the institution-building process of Russian archaeology occurred largely due to the tragic events that took place in the State Academy for the History of Material Culture (GAIMK) in 1934–1936. Personnel changes, scandals and “squabbles” that began after the death of the long-time Chairman of the Academy N.Ya. Marr were aggravated by the events of the “Kirov series” and the subsequent mass arrests among the pro-Trotsky-Zinoviev opposition. The “terrorist organization at the GAIMK” was included in the criminal “Case of a network of counter-revolutionary pro-Trotsky-Zinoviev groups in research institutions of Leningrad” framed-up by NKVD. Mass arrests within this case deprived the Academy of its entire administrative staff and became the reason for the inclusion of GAIMK in the USSR Academy of Sciences as an ordinary institute. Unpublished materials from criminal investigative cases contribute to more detailed restoration of the last chapter in the history of GAIMK.
Full Text
Обстоятельства “Дела ГАИМК” начали изучаться с 2018 г., когда в Архиве Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области был получен доступ к следственному делу в семи томах, заведенному в отношении Ф.В. Кипарисова, С.Н. Быковского, В.С. Адрианова и М.Г. Худякова (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-23819. Т. 1–7). В предварительной публикации (Панкратова, 2019, С. 263–276) приводились общие детали следственного процесса: даты арестов и допросов, характер выдвигаемых обвинений, формулировка вынесенного приговора и сведения о реабилитации. В ходе дальнейшей исследовательской работы с материалами архивно-уголовного дела стало очевидным, что круг арестованных и осужденных за членство в “террористической организации ГАИМК” существенно больше, чем четыре человека. Изучение следственных дел, заведенных в отношении лиц, упоминаемых Ф.В. Кипарисовым, С.Н. Быковским, М.Г. Худяковым и В.С. Адриановым на допросах, позволило выявить этапы формирования следственного дела и определить основной состав обвиняемых.
Основным источником для реконструкции последовательности формирования “Дела ГАИМК” стали материалы архивов ФСБ: архивно-уголовные дела, заведенные в отношении: Г.С. Зайделя (П-26810), Б.А. Латынина (П-20881), М.Ю. Пальвадре (П-22068), С.А. Лотте (П-52050), А.Г. Пригожина (следственное дело до перевода в Москву – Р-8213, Т.1-2), Э.Г. Пригожиной (П-47300), С.Г. Томсинского (П-26810), М.Л. Ширвиндта (П-21027), М.М. Цвибака (П-25769), О.О. Крюгера (П-21065). Документы следственных дел в значительной степени дополняются материалами архива ГАИМК (НА ИИМК РАН. РО. Ф. 2; ФО. Ф. 46), где разворачивались основные “преступные” действия “террористической” группы.
Рис. 1. Николай Яковлевич Марр в своем кабинете, ГАИМК (Мраморный дворец, 1925 г.). Фотоархив НА ИИМК РАН. О. 1067-42.
Fig. 1. Nikolai Yakovlevich Marr in his office, GAIMK (Marble Palace, 1925). Photo archive of the Institute for the History of Material Culture RAS. L. 1067-42
1934 г. стал своеобразной точкой отсчета в деле ГАИМК, но предпосылки этому сложились намного раньше. Еще начиная с 1929 г. Н.Я. Марр (рис. 1) проводил в жизнь политику по привлечению марксистских кадров в ГАИМК. 18 января 1929 г. по приглашению Н.Я. Марра пост товарища председателя ГАИМК занял ученик С.А. Жебелева – Федор Васильевич Кипарисов (рис. 2) (Панкратова, 2020б). В начале 1930 г. на должность научного сотрудника I-го разряда Н.Я. Марром был приглашен Сергей Николаевич Быковский (рис. 3) (Застрожнова, Тихонов, Тихомиров, 2023). Именно благодаря его инициативе в аспирантуру ГАИМК поступил в мае 1931 г. В.Ф. Зыбковец (Панкратова, Смирнов, 2022). В 1932 г. на работу в ГАИМК поступил Пригожин Абрам Григорьевич (рис. 4) (Панкратова, 2020а) и успел проработать заведующим сектором капиталистических и социалистических формаций и заместителем председателя ГАИМК (1932–1934 гг.). Именно ему в 1933 г. было поручено ведение переговоров с ГУЛАГ ОГПУ об организации спасательных археологических работ в районах масштабных лагерных строек.
Рис. 2. Федор Васильевич Кипарисов (Москва, 1920-е годы). Фото из семейного альбома внучки Ф.В. Кипарисова – А.А. Волковой-Кипарисовой.
Fig. 2. Fyodor Vasilievich Kiparisov (Moscow, 1920s). Photo from the family album of F.V. Kiparisov’s granddaughter – A.A. Volkova-Kiparisova
В начале 1934 г. деятельность ГАИМК подробно рассматривалась на заседании Коллегии Наркомпроса. Работы учреждения были признаны весьма успешными как с научной, так и с идеологической точки зрения. В протоколе заседания отмечалось большое количество изданных научных трудов, широкая археологическая “раскопочная” работа и ее согласованность с “ходом социалистического строительства” в СССР, активная подготовка кадров “историков докапиталистического общества”. Особо подчеркивалась роль ГАИМК в разоблачении “теоретической классовой сущности буржуазной археологии и этнографии”, и приветствовалось ее превращение “из археологического учреждения в научно-исследовательский центр по изучению истории докапиталистических обществ” (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. 1934 г. Д. 2. Л. 1).
Рис. 3. Сергей Николаевич Быковский. [1915 г.] Фото из личного архива семьи Быковских-Тихомировых.
Fig. 3. Sergey Nikolaevich Bykovsky. [1915] Photo from the personal archive of the Bykovsky-Tikhomirovs family
Наряду с заслугами Коллегия отметила и целый ряд недостатков в деятельности ГАИМК. В протоколе указывалось, что исследовательская работа “распылялась” по многочисленным дробным темам, тогда как требовалось сконцентрироваться на важнейших объектах и капитальных работах по истории докапиталистического общества. “Ядро марксистко-ленинских кадров научных работников” все еще оставалось недостаточно сформированным в ГАИМК. Одним из главных недостатков называлось недостаточное “обслуживание” других учреждений Наркомпроса (сотрудничество с университетскими и педагогическими кафедрами, чтение лекций по истории, музейная работа) и ограниченное участие в составлении и рецензировании учебников по истории.
Рис. 4. Абрам Григорьевич Пригожин (конец 1920-х годов). НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 3. Д. 535. Л. 3а.
Fig. 4. Abram Grigorievich Prigozhin (late 1920s). Archive of the Institute for the History of Material Culture RAS. F. 2. L. 3. Case 535. P. 3a
Итоговые постановления и предложения определенно были нацелены на усиление позиций Академии в системе научных учреждений страны. В их числе коллегия Наркомпроса предлагала увеличить штат и финансовые возможности ГАИМК, внеся в бюджет 1934 г. расходы по новым штатным единицам и предусмотрев в смете ассигнования на улучшение материальной базы, на содержание научных сотрудников и аспирантов. В целях обеспечения дальнейшего роста и развития учреждения Коллегия потребовала организовать в ГАИМК систему научно-исследовательских институтов по основным формациям с созданием внутри институтов научно-исследовательских кафедр по соответствующим специальностям (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. 1934 г. Д. 2. Л. 2–3).
Рис. 5. Проект новой структуры ГАИМК, 1934 г. РО НА ИИМК РАН. Ф. 2 Оп. 1 1934 г. Д. 259 Л. 1.
Fig. 5. Project of the new structure of GAIMK, 1934. Manuscript Dept. of the Archive of the Institute for the History of Material Culture RAS. F. 2 L. 1 1934 Case 259 P. 1
Академия быстро отреагировала на постановления Наркомпроса и сразу же приступила к реформации своей научной структуры (рис. 5). Тематические сектора ликвидировались, и вместо них появились: Институт истории доклассового общества (директор И.И. Мещанинов, с 15 октября 1934 г. директором уже значится В.И. Равдоникас), Институт истории рабовладельческого общества (директор С.И. Ковалев), Институт истории феодального общества (директор М.М. Цвибак). Все институты имели внутреннюю разветвленную систему кафедр. Отдельное место в сложившейся структуре занимал Институт исторической технологии (директор в 1934 г. В.Ф. Зыбковец), объединивший кафедру реставрации и консервации, кафедру исторической технологии и кафедру фотоаналитических методов исследования вещественных памятников, а также пять лабораторий и пять мастерских (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. 1934 г. Д. 2. Л. 25). Московское отделение также преобразовалось в кафедры, которые становились частью ленинградских институтов в соответствии с тематикой и хронологией (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. 1934 г. Д. 2. Л. 1–2). Кроме институтов в качестве научно-организационных и научно-вспомогательных подразделений в ГАИМК входили сектор полевых исследований, библиотека и архив.
Весной 1934 г. в ГАИМК были разработаны обширные производственные планы каждого института на ближайшие три года. По требованию администрации туда были включены защиты докторских и кандидатских диссертаций, подготовка отдельных монографий и статей в журналы, написание научно-популярных работ, переводы иностранной литературы, издание источников, экспедиционная деятельность (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. 1934 г. Д. 8).
Рис. 6. Вынос гроба с телом Н.Я. Марра. Мраморный дворец, 1934 г. СПбФ АРАН. Ф. 800. Оп. 3. Д. 294. Л. 130.
Fig. 6. Carrying out the coffin with the body of N.Ya. Marr. Marble Palace, 1934. St. Petersburg Branch of the Russian Academy of Sciences. F. 800. L. 3. Case 294. P. 130
Штат сотрудников ГАИМК в 1934 г. также был впечатляющим. На 15 октября 1934 г. по спискам в Институтах и хозяйственно-административных отделах числилось более 200 сотрудников и 41 аспирант. Ставки научного состава распределялись следующим образом: председатель, заместители и ученый секретарь Академии – 5; Институт истории доклассового общества – 21; Институт истории рабовладельческого общества – 19; Институт истории феодального общества – 41; Институт исторической технологии – 14; сектор полевых исследований – 15; библиотека – 6; архив – 6; редакционно-издательская часть – 6. Кроме того, солидную долю составляли внештатные сотрудники и работники административно-хозяйственно-финансового управления, обеспечивающие быт и материально-техническую базу для научной деятельности ГАИМК (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 6. Д. 67. Л. 8–10).
10 сентября 1934 г. приказом Наркомпроса был утвержден руководящий состав ГАИМК: председатель Академии – академик Н.Я. Марр, первый заместитель председателя – проф. Ф.В. Кипарисов, заместитель по научной части – проф. С.Г. Томсинский, заместитель по финансово-административной части – Н.И. Мягги, директор московского отделения – проф. А.Г. Иоанисян (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. 1934 г. Д. 3. Л. 17).
Возможно, научная жизнь учреждения по-прежнему успешно развивалась бы во всех направлениях и дальше, но 20 декабря 1934 г. после тяжелой болезни скончался создатель и глава ГАИМК Н.Я. Марр (рис. 6). Предвидя скорую кончину руководителя, Ф.В. Кипарисовым было принято решение обратиться с письмом к Первому секретарю Ленинградского обкома ВКПб С.М. Кирову (Застрожнова, Медведева, 2023, С. 198). Важность данного документа заключается в том, что письмо было написано в ноябре 1934 г., незадолго до убийства самого С.М. Кирова, которое произошло 1 декабря 1934 г. Анализируя текст письма, можно заключить, что Ф.В. Кипарисов прекрасно осознавал важность сохранения позиций ГАИМК как ленинградского академического учреждения международного уровня, поддерживающего научные связи с зарубежной наукой, публикующего издания на иностранных языках и осуществляющего их обмен. Важным аспектом являются четко обозначенные попытки сохранения кадрового состава академии, актуализация ценности “старых специалистов” в их сотрудничестве с новым поколением “историков-марксистов” (Застрожнова, Медведева, 2023, С. 206). Убийство С.М. Кирова сделало отправку письма невозможным, а смерть Н.Я. Марра положила начало обратному отсчету в истории ГАИМК.
1935 г. был ознаменован начавшейся волной ссылок и арестов среди сотрудников научного и административного состава академических институтов Ленинграда, якобы принадлежащих к “троцкистско-зиновьевскому блоку”. В марте 1935 г., ушедший со скандалом из ГАИМК В.Ф. Зыбковец направил письмо руководителю партийной организации Ленинграда А.А. Жданову – донос, в котором обвинил большую группу сотрудников и руководителей ГАИМК в принадлежности к “троцкистско-зиновьевской оппозиции” и во вредительской деятельности (Панкратова, Смирнов, 2022), что вполне могло усугубить и без того тяжелую ситуацию.
В апреле 1935 г. был арестован А.Г. Пригожин, уволенный из ГАИМК в июне 1934 г. по причине внутреннего конфликта, и за “систематическую пропаганду контрреволюционных троцкистских взглядов” высланный на три года в Уфу (Панкратова, 2020а, С. 380). В феврале 1935 г. за “содействие контрреволюционной зиновьевской группе” в г. Туруханск Красноярского края на четыре года был выслан заместитель директора Института языка и мышления АН СССР М.Л. Ширвиндт. В мае 1935 г. в Саратов по обвинениям в приверженности к троцкизму был выслан директор Института истории ЛОКА Г.С. Зайдель (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-26810. Т.1. Л. 4). В том же году как “бывший” троцкист был сослан в Алма-Ату С.Г. Томсинский (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-26810. Т.5. Л. 8).
Массовые аресты в научных учреждениях Ленинграда были начаты в 1936 г., и на основании изученных следственных дел период арестов лиц причастных к террористической группе ГАИМК продолжался с марта 1936 г. до января 1937 г. В доступных для работы материалах террористическая ячейка ГАИМК впервые упоминается в показаниях С.Г. Томсинского, арестованного 29 апреля 1936 г. в Алма-Ате и этапированного в Ленинград 13 мая 1936 г. Важно отметить, что в группу следователей ЛО ОГПУ/НКВД, проводивших аресты, обыски, дознания и иные следственные мероприятия по этому делу, входили: Л.В. Коган, Л.Ф. Райхман, Н.С. Драницын, В.С. Карпович, Г.А. Лупекин, П.А. Коркин, И.В. Федоров и Н.А. Завилович. Некоторые допросы по делам троцкистско-зиновьевской оппозиции в Ленинграде проводил заместитель начальника Секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР Борис Давыдович Берман1, печально известные методы дознания которого вызывали недоумение и страх даже среди следователей ОГПУ/НКВД (Жертвы своих же преступлений, 1989). 26 мая 1936 г. допрос С.Г. Томсинского проводил как раз Б.Д. Берман. И если на предшествующих допросах, проводимых 15 и 16 мая Г.А. Лупекиным, С.Г. Томсинский категорически отрицал выдвигаемые обвинения, признаваясь лишь в связях с “троцкистской оппозицией”, то на допросе, проведенном Б.Д. Берманом, он признал себя “полностью виновным в том, что по день ареста был активным участником контрреволюционной троцкистско-зиновьевской организации, существовавшей в Ленинграде”. С.Г. Томсинским были “представлены” также показания о наличии в Ленинграде целой сети террористических групп, которые действовали в АН СССР, ЛИФЛИ и ГАИМК. Список членов этих групп составил две страницы от протокола допроса (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-26810. Т. 5. Л. 33–55). На вопрос Б.Д. Бермана, что ему известно о контрреволюционной группе в ГАИМК, в протоколе зафиксирован следующий ответ: “в 1933 г. в Ленинграде начала усиливаться еще одна троцкистско-зиновьевская контрреволюционная группа в ГАИМК в составе: А.Г. Пригожина, М.М. Цвибака, С.А. Лотте, М.Л. Ширвиндта”, причем А.Г. Пригожин был обозначен как “руководитель группы историков-марксистов по Ленинграду” (Там же. Л. 57).
Абсолютно похожая ситуация и с протоколами допросов Г.С. Зайделя. Он был арестован 5 мая 1936 г. в Саратове и по запросу Ленинградского ОГПУ/УНКВД со специальным конвоем направлен для продолжения следствия в Ленинград (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-26810. Т. 1. Л. 2). На первых трех допросах (10, 15 и 16 мая), проводимых следователями В.С. Карповичем, Г.А. Лупекиным и П.А. Коркиным, он отрицал любую террористическую деятельность, но “показывал” о “связях с троцкистами по работе” (Там же. Л. 14–63). На допросе 5 июня 1936 г., который проводил Б.Д. Берман, З.Г. Зайделем были даны исчерпывающие показания о сети террористических групп в научных учреждениях Ленинграда: ИКП, ФТИ, ИЯМ и Военно-политической академии им. Н.Г. Толмачева. Методом борьбы как самого Г.С. Зайделя, так и всех многочисленных участников этих групп, был признан “индивидуальный террор”, который он ранее “пытался скрыть от следствия” (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-26810. Л. 64–108).
Кроме допросов С.Г. Томсинского и Г.С. Зайделя, фамилия Б.Д. Бермана не встречалась более ни в одном из изученных протоколов допросов в архивно-уголовных делах “участников” террористической группы ГАИМК. Вполне возможно, что само “Дело о сети террористических групп” в научных учреждениях Ленинграда изначально не предполагалось следствием, поскольку обвинения в террористической деятельности и без того выдвигались многим, но было оформлено в ходе бесчеловечных методов получения показаний и проведения следственных мероприятий Б.Д. Берманом. Дальнейшие события представляют собой цепочку арестов круга знакомых и коллег подследственных.
Провозглашенный руководителем террористической группы ГАИМК А.Г. Пригожин был арестован в Уфе в июле 1936 г. (ЦА ФСБ. Р-8213. Т. 1. Л. 5). 5 июля он был переведен в Ленинградский ДПЗ (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-23819. Т. 1). Во внутренней тюрьме он находился на протяжении июля 1936 г., и за это время было проведено три допроса: 28 июня (протокол в следственном деле отсутствует), 5 и 20–21 июля (ЦА ФСБ. Р-8213. Т. 2. Л. 9; Архив УФСБ по СПб и ЛО. Т. 7. Л. 25). В ходе последнего допроса, продолжавшегося двое суток, А.Г. Пригожин “признался” в том, что руководимая им троцкистско-зиновьевская группа ГАИМК в составе Ф.В. Кипарисова, С.Н. Быковского, Е.К. Некрасовой, М.М. Цвибака являлась частью троцкистско-зиновьевской контрреволюционной сети организаций в Ленинграде и ставила своей конечной целью смену руководства ВКПб. Согласно его показаниям, вербовка в “террористическую группу ГАИМК” происходила в следующем порядке: в 1933 г. на квартире Ф.В. Кипарисова А.Г. Пригожин предложил ему вступить в группу, на что тот ответил, что “на эту тему у него был разговор с Быковским, у которого уже имеется террористическая группа”, из участников которой Ф.В. Кипарисов назвал Б.А. Латынина и М.Г. Худякова (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-23819. Т. 7. Л. 25).
1 августа 1936 г. А.Г. Пригожин был переведен в Москву для продолжения следствия. Причиной тому явились показания обвиняемых в Москве по другому следственному делу, согласно которым А.Г. Пригожин являлся участником одной контрреволюционной организации с ними (ЦА ФСБ. Р-8213. Т. 1. Л 1). В ходе дальнейшего следствия, которое продолжалось вплоть до марта 1937 г., ленинградская группа ГАИМК уже не фигурировала в его показаниях.
В ночь с 3 на 4 августа был арестован С.Н. Быковский, перешедший к тому моменту на работу в ИАЭ АН СССР (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-23819. Т. 1. Л. 4). На допросе, который проводили следователи Г.А. Лупекин и Л.Ф. Райхман, он признался в знакомстве с А.Г. Пригожиным и во встречах на своей квартире с Ф.В. Кипарисовым и М.Л. Ширвиндтом. На допросе 8, 9 августа он отрицал какую-либо контрреволюционную деятельность, но в итоге “признал”, что с 1932 г. являлся участником контрреволюционной троцкистско-зиновьевской организации, руководимой А.Г. Пригожиным. В качестве членов организации им были названы Ф.В. Кипарисов, М.М. Цвибак (у которого уже была своя террористическая группа в ЛИФЛИ), С.А. Лотте, М.Л. Ширвиндт.2
Следующим был арестован уже сам председатель ГАИМК Ф.В. Кипарисов. 16 августа 1936 г. Н.А. Завиловичем было подписано постановление об его аресте, но сам арест и обыск состоялись только 27 августа (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-23819. Т. 1. Л. 3)3. На допросе 27 августа он решительно опроверг выдвигаемые ему Л.В. Коганом обвинения. 29 августа на настойчивые требования перечислить участников троцкистской организации ГАИМК Ф.В. Кипарисов ответил, что “среди моих связей действительно имеются троцкисты и зиновьевцы, с которыми я встречался до последнего времени, среди них – А.Г. Пригожин, М.Л. Ширвиндт4, М.М. Цвибак, А.А. Бусыгин, С.Г. Томсинский, Г.С. Зайдель, С.Н. Быковский и Н.М. Маторин”. Выдвигаемые против него обвинения в членстве в террористической организации, готовившей убийство С.М. Кирова, он отрицал. Далее, вплоть до октября 1936 г., в деле отсутствуют протоколы допросов, но это, как было сказано выше, не означает, что они не проводились. Мы можем только представить степень эффективности “следственных мероприятий”, проходивших в период с августа по октябрь, поскольку в протоколе допроса от 27 октября 1936 г. Ф.В. Кипарисов “решил дать правдивые показания” и признал себя виновным в предъявленном обвинении, а именно “в участии в составе контрреволюционной группы, существовавшей в ГАИМК, образование которой относится к концу 1932 г.”. На следующий день на допросе были даны уточнения, что группа ГАИМК “согласно А.Г. Пригожину, стояла на активных позициях борьбы против руководства ВКПб и считала необходимым применение террористических методов” (Там же. Л. 23–24). О практических методах осуществления террора Ф.В. Кипарисов говорить отказался, как и называть “террористов” на последнем допросе от 3 ноября 1936 г., протокол которого имеется в деле.
10 сентября 1936 г. был арестован еще один обвиняемый по основному составу группы – М.Г. Худяков (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-23819. Т. 3. Л. 3). 11 сентября на допросе он отрицал предъявляемые обвинения, но признался в “деловых связях с троцкистами: Н.М. Маториным, М.М. Цвибаком, А.Г. Пригожиным, Ф.В. Кипарисовым, С.Г. Томсинским, Г.С. Зайделем и С.А. Лотте” (Там же. Л. 9). 29 сентября 1936 г. на допросе, который проводил Н.С. Драницын, М.Г. Худяков признался в том, что его предыдущие показания были ложными, и он являлся участником контрреволюционной организации, созданной Н.М. Маториным в Ленинграде в 1930 г. Согласно протоколу допроса, в террористическую группу ГАИМК он был завербован С.Н. Быковским в декабре 1932 г., после чего дал свое согласие на участие в подготовке террористического акта по убийству С.М. Кирова. Кроме того, в апреле 1936 г. С.Н. Быковский сообщил М.Г. Худякову, “что на набережной Васильевского острова он завербовал в группу вернувшегося из ссылки Б.А. Латынина” (Там же. Л. 15).
На вопрос Н.С. Драницына о В.С. Адрианове и обстоятельствах его вербовки он ответил, что С.Н. Быковским было дано задание, проверить, “является ли В.С. Адрианов подходящим человеком для участия в террористической деятельности”. После переговоров с В.С. Адриановым он “убедился, что тот вполне пригоден, о чем и сообщил С.Н. Быковскому” (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-23819. Т.3. Л. 18). После личной встречи С.Н. Быковского и В.С. Адрианова в начале 1935 г. последний дал свое согласие на вступление в контрреволюционную группу ГАИМК. Особенно подчеркивалось, что В.С. Адрианов должен был взять на себя роль физического исполнителя убийства А.А. Жданова, для чего “он собирался послать ему подробное письмо по каким-то культурным вопросам, с тем, чтобы его заинтересовать и добиться того, чтобы А.А. Жданов его принял” (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-23819. Т. 3. Л. 19).
4 ноября 1936 г. был арестован и сам В.С. Адрианов (Панкратова, 2020в). 8 декабря Н.А. Завиловичем было затребовано из архива Смольного упомянутое выше письмо В.С. Адрианова к А.А. Жданову. Вместе с письмом в ДПЗ было направлено и “Заключение по вопросу о состоянии на научном фронте по этнографии и археологии”, подготовленное 29 октября 1936 г. сотрудником отдела науки Ленинградского городского комитета Муратовым (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-23819. Т. 7. Л. 43). Письмо и заключение были приобщены в качестве вещественных доказательств к следственному делу В.С. Адрианова. На допросе 15 декабря 1936 г. следователь И.В. Федоров предъявил ему показания М.Г. Худякова в части плана по убийству С.М. Кирова, обвинив В.С. Адрианова в сокрытии предполагаемых методов террористической борьбы. В.С. Адрианов на это заявил: “показания Худякова по этому вопросу ложные. Я никогда никакой террористической деятельности не вел. Письмо Жданову действительно было послано мной, но с целью ознакомления его с положением на историческом фронте. Других целей к посылке письма не преследовал” (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-23819. Т. 7. Л. 22).
В этот же день, 15 декабря 1936 г., состоялся допрос Б.А. Латынина, который был арестован еще 13 ноября 1936 г. На основе показаний А.Г. Пригожина от 20–21 августа 1936 г. Б.А. Латынину были выдвинуты обвинения в членстве в террористической группе, куда он был завербован М.Г. Худяковым и С.Н. Быковским (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-20881. Л.16). Б.А. Латынин признал служебный характер знакомства с ними, однако участие в террористической группе категорически отрицал5.
19 декабря было подготовлено предварительное заключение по обвинению С.Н. Быковского, Ф.В. Кипарисова, М.Г. Худякова и В.С. Адрианова, в котором была приведена краткая хроника образования и деятельности террористической группы ГАИМК. В этот же день состоялось закрытое судебное заседание Военной коллегии Верховного суда РСФСР. На нем был зачитан приговор, в котором подтверждалось, что обвиняемые являлись “активными участниками контрреволюционной троцкистско-зиновьевской организации, осуществившей 1 декабря 1934 г. злодейское убийство т. С.М. Кирова и подготовлявшей в 1934–1936 гг. при помощи агентов фашистской Гестапо ряд террористических актов против руководителей ВКПб и советского правительства” (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-23819. Т. 7. Л. 36). Суд постановил признать всех виновными и приговорил к высшей мере наказания с полной конфискацией имущества. Приговор был приведен в исполнение в день суда (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-23819. Т. 7. Л. 36).
Аресты продолжались и в 1937 г., хотя и не в таких масштабах. 30 января 1937 г. в Ташкенте был арестован М.М. Цвибак (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-25769. Л. 3). 20 марта 1937 г. он был доставлен для продолжения следствия в Ленинградский ДПЗ, где на основании показаний, данных ранее С.Г. Томсинским, А.Г. Пригожиным, М.Л. Ширвиндтом, Ф.В. Кипарисовым, С.Н. Быковским и др., он был объявлен руководителем “одной из террористической групп, готовивших террористический акт против Кирова” (Там же. Л. 11). На допросах (23 марта; 7, 13, 14 апреля; 7, 10 мая) Н.А. Завилович планомерно зачитывал показания указанных лиц об участии М.М. Цвибака в террористической группе ГАИМК, требуя “прекратить бесполезное сопротивление, завершить запирательство” и отвечать правдиво, признав изобличающие обвинения. Все выдвигаемые обвинения М.М. Цвибак категорически отрицал, на многие вопросы отвечать отказывался, говоря, что все его бывшие коллеги оклеветали его по непонятной ему причине (Там же. Л. 25–78). В последнем протоколе в деле, от 17 мая 1937 г., он признался, что “с 1925 г. являлся участником и сохранял связи с рядом участником контрреволюционной организации, указанными выше на допросе”, продолжая отрицать показания Ф.В. Кипарисова, С.Н. Быковского и А.Г. Пригожина, согласно которым он обвинялся в террористической деятельности. В обвинительном заключении от 19 мая 1937 г. было указано, что “с 1925 г. и до последнего времени М.М. Цвибак вел активную борьбу против ВКПб, установил связь с наиболее активными участниками троцкистско-зиновьевской террористической организации, входил в состав группы ГАИМК и участвовал в нелегальных сборищах этой группы. Террористическую деятельность отрицает, хотя изобличается показаниями ряда лиц” (Там же. Л. 186). 20 мая на суде был признан виновным в членстве в организации, совершившей злодейское убийство С.М. Кирова и готовившей террористические акты против руководства ВКПб, и приговорен к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение 21 мая 1937 г.6
Рис. 7. Керченская экспедиция ГАИМК, 1935 г., Камыш-Бурун (Тиритака). Группа научных сотрудников и практикантов. Справа налево: В.А. Лавров, Л.Ф. Силантьева, В.П. Лисин, О.П. Калистов, В.Я. Шварц, С.Ф. Стржелецкий, О.О. Крюгер, Л.М. Славин, А.П. Иванова. Фотоархив НА ИИМК РАН. II.20517.
Fig. 7. Kerch expedition of GAIMK, 1935, Kamysh-Burun (Tyritake). A group of researchers and trainees. From right to left: V.A. Lavrov, L.F. Silantyeva, V.P. Lisin, O.P. Kalistov, V.Ya. Shvarts, S.F. Strzheletsky, O.O. Kryuger, L.M. Slavin, A.P. Ivanova. Photo archive of the Institute for the History of Material Culture RAS. II.20517
Последнее упоминание о “деле ГАИМК” содержится в протоколах допроса О.О. Крюгера (рис. 7), который был арестован уже по “делу Ленинградского меньшевистского центра”. Проведя недолгий срок в должности заместителя председателя ГАИМК, 8 октября 1937 г. он был уволен из ИИМК АН СССР, но оставлен в штате Института истории АН СССР (РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 5. Д. 164. Л. 8). 5 ноября 1938 г. ученый был арестован и заключен под стражу в ДПЗ. Ему было предъявлено обвинение в принадлежности к антисоветской меньшевистской организации, а также немецкой националистической организации “Ферейн” (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-57369). Протоколы допросов, отложившиеся в деле, датируются: 6, 22 ноября, 8, 9 апреля, 8, 21, 22 мая. Проводились и допросы свидетелей: М.И. Максимовой – 24 января 1939 г., В.Я. Рабинович – 4 февраля 1939 г., М.К. Коршуновой – 15 июня 1939 г., Л.К. Осиповой – 15 июня 1939 г. На допросе от 9 апреля 1937 г. на вопрос, заданный о том, была ли ему известна преступная деятельность Ф.В. Кипарисова, О.О. Крюгер ответил, что тот “использовал свою популярность среди научных работников ГАИМК для дезориентации последних, создал в ГАИМК кружок марксизма, в который вовлек ряд антисоветски настроенных из бывших дворян и аристократии и окружил себя активными участниками из контрреволюционного троцкистско-зиновьевского подполья в лице Пригожина, Томсинского, Цвибака, Быковского и других. Цвибак даже спрашивал у Кипарисова, кого еще из бывших сосланных он пригласит в ГАИМК на работу” (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-57369. Л. 15).
Также О.О. Крюгер отметил, что Ф.В. Кипарисов “поддерживал и защищал реакционных ученых, оказавшихся впоследствии репрессированными органами Советской власти”, в частности Г.И. Боровку (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-57369. Л. 19–36). Важно также отметить, что на допросе 22 мая 1937 г. О.О. Крюгер следующим образом охарактеризовал ситуацию в ГАИМК в разгар арестов осенью 1936 г.: “в тяжелые, критические для ГАИМК дни, когда после ареста Кипарисова учреждение не имело постоянного председателя, всякие сторонние интересы и борьба усложняли существование этого учреждения (недостижимо длительно протекало включения ГАИМК в состав АН), в это время П.П. Ефименко усиливал затруднения (игнорировал пленум этого учреждения, был недоволен проверкой трудов и пр.) и отношения с ним были весьма натянутые” (Там же. Л. 138–143). Особым совещанием при НКВД СССР 10 ноября 1939 г. О.О. Крюгер был осужден на 5 лет высылки в Казахстан (Там же. Л. 165).
Впоследствии все проходившие по “Делу террористической группы ГАИМК” лица были реабилитированы за отсутствием состава преступления, справки о пересмотрах дел фиксируются начиная с 1956 г. Судя по датам арестов, допросов и очных ставок, все они находились на протяжении какого-то периода в ДПЗ одновременно, однако очевидно, что не знали о заключении друг друга (за исключением очных ставок). На основании воспоминаний и мемуаров заключенных в ДПЗ на Шпалерной можно сделать вывод, что это была обычная практика ведения следствия. Некоторые не признавали выдвигаемых обвинений в ходе всего следственного процесса (Б.А. Латынин, М.М. Цвибак), отказывались от своих показаний прямо в зале суда (С.Д. Димитров) или не признавали части обвинений (Ф.В. Кипарисов), но это уже никаким образом не влияло на дальнейшее обвинение. Уничтожение всего руководящего состава ГАИМК в 1936 и 1937 гг., высылки и аресты сотрудников привели к потере авторитетных позиций ГАИМК в области научно-методического руководства и планирования археологических исследований на территории России. В 1937 г. Академия была включена в состав АН СССР на правах рядового научного института и потеряла статус самостоятельного учреждения, что открыло новую страницу в истории российской археологической науки и оказало существенное влияние на дальнейшую институционализацию отечественной археологии.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ № 22-28-00063 “Трагедия Государственной академии истории материальной культуры: судьба учреждения и его сотрудников (1934–1936)”.
1 Берман Борис Давыдович (1901–1939) – деятель органов государственной безопасности СССР. В ВЧК−ОГПУ−НКВД с 1921 г. С 21 мая 1935 г. первый заместитель начальника ИНО ГУГБ НКВД. С 30 июля 1937 г. нарком внутренних дел БССР. Начальник 3-го отдела управления НКВД (1938). Уволен и лишен всех званий и наград 5 ноября 1938 г. Приговорен к ВМН (23 февраля 1939). В реабилитации отказано. (Кадровый состав органов ГБ. 1935–1939.)
2 Приказ о снятии Ф.В. Кипарисова с занимаемой должности по ГАИМК был подписан 11 сентября 1936 г., временно исполняющим обязанности председателя ГАИМК был назначен О.О. Крюгер.
3 Среди участников были указаны также П.П. Ефименко, Б.Л. Богаевский и Б.А. Латынин, однако они были зачеркнуты в тексте протокола самим С.Н. Быковским (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-23819. Т. 1. Л. 25).
42 сентября 1936 г. М.Л. Ширвиндт был отправлен из Туруханска в Ленинградский ДПЗ. Согласно постановлению о предъявленном обвинении, М.Л. Ширвиндт являлся активным участником контрреволюционной троцкистско-зиновьевской организации АН СССР в Ленинграде, которая в 1934 г. занималась практической подготовкой убийства С.М. Кирова. 19 декабря 1936 г. М.Л. Ширвиндт был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян в один день с Ф.В. Кипарисовым и С.Н. Быковским. Реабилитирован 28 мая 1957 г. (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-88738. Л. 1-3).
5 Ситуация со следствием в отношении Б.А. Латынина, судя по материалам дела, зашла в тупик. Протоколов допросов в деле более не содержится. Обвинительное заключение составлено только 19 января 1937 г. В нем указано, что Б.А. Латынин являлся участником контрреволюционной группы С.Н. Быковского до весны 1935 г., в чем он изобличался показаниями А.Г. Пригожина от 20–21 июля 1936 г. и М.Г. Худякова от 29 сентября 1936 г., однако виновным себя не признал. 31 мая 1937 г. дело было направлено в 4 Отдел УНКВД для доследования, ввиду “противоречивости свидетельских показаний”. 21 сентября 1937 г. Б.А. Латынин был приговорен к заключению в Колымском ИТЛ сроком на пять лет, считая срок с 6 ноября 1936 г. 13 февраля 1957 г. дело в отношении Б.А. Латынина было прекращено за отсутствием состава преступления, и он являлся одним из немногих, кто получил справку о реабилитации лично (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-20881. Л. 26).
6 Военная коллегия Верховного суда 17 сентября 1957 г. определила приговор от 20 мая 1937 г. отменить и дело о нем производством прекратить за отсутствием состава преступления.
About the authors
Evgenia G. Zastrozhnova
St. Petersburg Branch of the RAS Archive
Author for correspondence.
Email: pankratova0484@yandex.ru
Russian Federation, St. Petersburg
Maria V. Medvedeva
Institute for the History of Material Culture RAS
Email: marriyam@mail.ru
Russian Federation, St. Petersburg
Marina V. Ponikarovskaya
St. Petersburg Branch of the RAS Archive
Email: poni-marina@yandex.ru
Russian Federation, St. Petersburg
References
- The article “The victims of their own crimes” from the newspaper “Book Review”, No 49 of 08.12.1989 (Electronic resource). Elektronnyy arkhiv Fonda Iofe [Electronic Archive of the Iofe Fund]. URL: https://arch2.iofe.center/person/4897. (In Russ.)
- Berman, Boris Davydovich (Electronic resource). Kadrovyy sostav organov gosudarstvennoy bezopasnosti. 1935–1939 [Staff of State Security Agencies. 1935–1939]. URL: https://nkvd.memo.ru/index.php/Берман,_Борис_Давыдович. (In Russ.)
- Pankratova E.G., 2019. Terrorist organization of GAIMK (1936): a review of archival and criminal investigation materials. Ocherki istorii otechestvennoy arkheologii [Essays on the history of Russian archaeology], 5. I.A. Sorokina, ed. Moscow: Institut arkheologii Rossiyskoy akademii nauk, pp. 263–276. (In Russ.)
- Pankratova E.G., 2020а. Notes on the biography of “the leader of the terrorist organization of the State Academy for the History of Material Culture” A.G. Prigozhin (based on archival criminal investigation case). Arkheologicheskie vesti [Archaeological news], 29. St. Petersburg, pp. 376–384. (In Russ.)
- Pankratova E.G., 2020б. F.V. Kiparisov, the last Chairman of the State Academy for the History of Material Culture (new materials for the biography). Vestnik drevney istorii [Journal of Ancient History], 3, pp. 698–722. (In Russ.)
- Pankratova E.G. 2020в. The letter that changed the fate… (unpublished materials for the biography of V.S. Adrianov) // Rossiyskaya arkheologiya [Russian archaeology], 2, pp. 130–141 (In Russ.)
- Pankratova E.G., Smirnov N.Yu., 2022. To the history of the liquidation of GAIMK: the “statement” of V.F. Zybkovets to A.A. Zhdanov. Rossiyskaya arkheologiya [Russian archaeology], 1, pp. 174–186. (In Russ.)
- Zastrozhnova E.G., Tikhonov I.L., Tikhomirov I.S., 2023. S.N. Bykovsky: from a Red Commander to Deputy Chairman of GAIMK. Arkheologicheskie vesti [Archaeological news], 39. St. Petersburg, pp. 292–310. (In Russ.)
- Zastrozhnova E.G., Medvedeva M.V., 2023. The fate of the GAIMK is at turning point: an unsent letter from F.V. Kiparisov to S.M.Kirov. Rossiyskaya arkheologiya [Russian archaeology], 3, pp. 198–208. (In Russ.).
Supplementary files