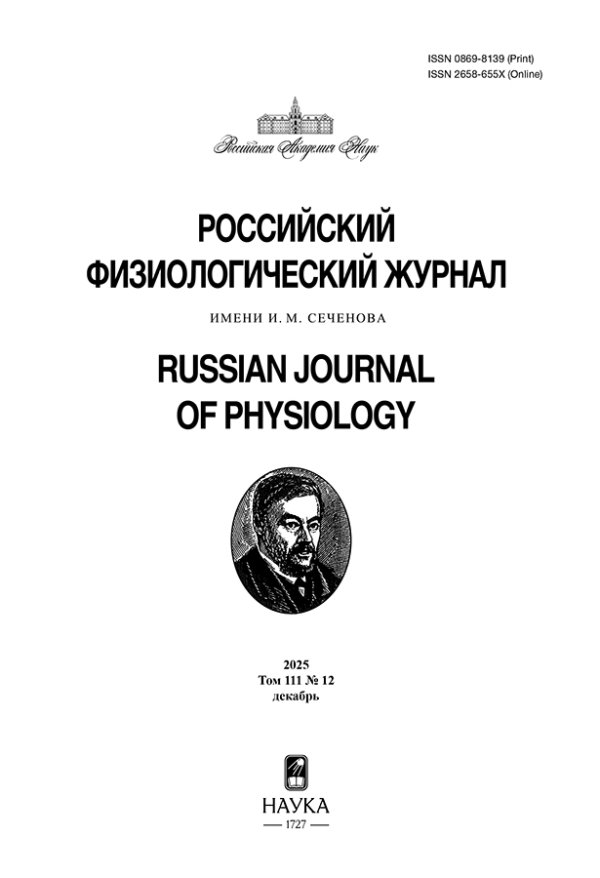Роль димерных комплексов дофаминовых рецепторов в патогенезе депрессии
- Авторы: Герасимов А.А.1, Смирнова О.В.1
-
Учреждения:
- Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
- Выпуск: Том 110, № 10 (2024)
- Страницы: 1541-1558
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-8139/article/view/274744
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869813924100013
- EDN: https://elibrary.ru/VSFVPE
- ID: 274744
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В настоящем обзоре обсуждается олигомеризация рецепторов, сопряженных с G-белком (GPCRs), позволяющая существенно расширить спектр функциональных возможностей клеток живых организмов путем модулирования внутриклеточных каскадов. Это обеспечивает разнообразие физиологических эффектов как в норме, так и при патологии. Рассмотрена структура и локализация в головном мозге одного из наиболее изученных гетеродимеров, комплекса D1-D2-рецепторов, и его сигнальные каскады, коррелирующие с развитием депрессивных расстройств. Проанализированы половые различия в функционировании данного гетеродимера, обсуждается вопрос о селективности бивалентных синтетических лигандов в отношении запуска определенных внутриклеточных каскадов, что делает их перспективной терапевтической мишенью для адресной терапии депрессивных расстройств. Заключительная часть обзора посвящена разнообразию гетеродимеров дофаминовых рецепторов с другими представителями семейства GPCR и их месту в патофизиологии депрессии.
Ключевые слова
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Дофамин, как один из ключевых нейромедиаторов, играет существенную роль в регуляции мотивационно-эмоциональной сферы человека. Этот моноамин регулирует множество функций головного мозга, включая контроль и запуск произвольных движений, чувство удовлетворения и вознаграждения, циркадные ритмы, сознание и когнитивные способности. Открытие возможности образования гомо- и гетеромерных дофаминовых рецепторных комплексов позволило переосмыслить представления об особенностях передачи дофаминовых сигналов и функционировании дофаминовой системы в целом. Такая олигомеризация не только модифицирует работу канонических мономерных рецепторов, но и влияет на перераспределение активации связанных с ними внутриклеточных сигнальных каскадов. Тканеспецифическая экспрессия данных комплексов позволяет им выступать в качестве новых терапевтических мишеней для разработки более селективных и эффективных бивалентных лекарственных препаратов, обладающих ограниченным спектром побочных эффектов [1–3].
Основной гипотезой патофизиологии депрессивных расстройств, в частности, большого депрессивного расстройства, является моноаминовая гипотеза. Она предполагает, что депрессия вызвана изменением в головном мозге уровня моноаминов, включая серотонин, норадреналин и дофамин. Депрессия часто характеризуется ангедонией, то есть потерей чувства удовольствия и интереса от повседневных занятий и снижением мотивации, что выражается в дисфункции дофаминергической передачи, особенно в мезолимбической системе. Антидепрессанты с селективным действием к дофаминергическим транспортерам, такие как бупропион, увеличивают внеклеточное содержание дофамина в мозге, что поддерживает гипотезу о важности дофамина в терапии данного аффективного расстройства. Довольно часто депрессия сопровождает болезнь Паркинсона, также характеризующуюся нарушениями в дофаминергической передаче. Во всем мире примерно 35–42% пациентов с болезнью Паркинсона испытывают депрессивные симптомы, из которых 17–25% соответствуют критериям большого депрессивного расстройства, что значительно выше, чем 13.5% в общей популяции. Вместе с тем депрессия может предшествовать диагностированию болезни Паркинсона, что затрудняет ее распознавание из-за перекрытия симптомов, таких как уплощение эмоциональной реакции, нарушение сна, усталость, снижение аппетита и психомоторная заторможенность [4–6].
На этом фоне особый интерес представляет терапевтическая роль димеров в лечении депрессии. Димерные комплексы дофаминовых рецепторов открывают новые возможности для направленного воздействия на дофаминергическую систему. Исследования в этой области могут привести к разработке новых стратегий терапии и представляют перспективные способы для создания эффективных и безопасных антидепрессантов [3].
ОЛИГОМЕРИЗАЦИЯ РЕЦЕПТОРОВ, СОПРЯЖЕННЫХ С G-БЕЛКАМИ
Рецепторы, сопряженные с G-белками (GPCRs), являются крупнейшим семейством трансмембранных рецепторов, которые активируются разнообразным набором лигандов для передачи сигналов через ряд внутриклеточных каскадов. Согласно классическому представлению, мономерные формы GPCRs, связывая отдельные лиганды, могут активировать родственные им G-белки и функционально задействовать один или несколько эффекторных путей. Однако за последние два десятилетия накопилось большое количество доказательств, которые ставят под сомнение универсальность этого классического взгляда на взаимодействие “гормон – рецептор”. В настоящее время широко признано, что GPCRs могут существовать в виде гомодимеров или даже гомоолигомеров более высокого порядка. Более того, они также способны взаимодействовать с отдаленно родственными подтипами рецепторов с образованием гетероолигомеров. Обнаружение гетеромерных рецепторных комплексов открыло возможности для изучения новых механизмов генерации разнообразных сигнальных каскадов и функций GPCRs, которые ранее не были предсказаны [7, 8].
Олигомеризация GPCRs определяется как процесс образования макромолекулярных комплексов из нескольких функциональных единиц рецепторов (протомеров), обладающих биохимическими свойствами, отличными от свойств их индивидуальных компонентов. Это позволяет расширить и разнообразить диапазон функций, опосредованных отдельными клетками [9, 10].
Относительно структуры олигомеров GPCRs в последние годы был достигнут значительный прогресс в связи с развитием кристаллографических методов исследования. Полагают, что рецепторное взаимодействие, приводящее к олигомеризации, может происходить через несколько механизмов. Во-первых, протомеры могут напрямую взаимодействовать друг с другом через свои трансмембранные (ТМ) домены. Существует две модели такой олигомеризации: модель контактной димеризации, обусловленная формированием связей через участки на внешних поверхностях ТМ-доменов протомеров, и модель обмена доменами, при которой происходит перераспределение TM-доменов с потерей целостности отдельных протомеров. Однако последняя модель считается менее энергетически выгодной, поэтому предполагается, что димеры, полученные при перераспределении доменов, могут собираться в олигомеры более высокого порядка только посредством контактной димеризации. Во-вторых, они могут образовываться путем взаимодействия внеклеточных петель с образованием дисульфидных связей между остатками цистеина и, наконец, за счет внутриклеточных петель или С-конца посредством образования ионных связей [11, 12].
Известно, что существуют как конститутивные олигомеры, формирующиеся в процессе биогенеза рецепторов в эндоплазматическом ретикулуме, так и временно индуцированные комплексы, олигомеризация которых происходит на различных стадиях жизненного цикла рецепторов. Ряд GPCRs, такие как М-холиновый рецептор 1, формилпептидный рецептор, β1- и β2-адренергические рецепторы, проявляют динамическое равновесие на клеточной мембране [11]. Причем баланс между мономерной и олигомерной формами может быть смещен посредством воздействия различных факторов. Например, присутствие лиганда может индуцировать, усилить или ослабить димеризацию. Так, при наличии агонистов образование комплексов опиоидных дельта-рецепторов уменьшается, а антагонисты 5-HT2CR дестабилизируют димеры этого рецептора, но индуцируют образование олигомеров. В некоторых случаях связывание лигандов с комплексом изменяло период полураспада взаимодействия между протомерами [13]. Более того, на примере рецептора нейротензина 1-го типа было продемонстрировано, что липидное окружение рецепторного комплекса также способно смещать равновесие. Неблагоприятное гидрофобное окружение приводит к чрезмерной димеризации, тогда как присутствие полиненасыщенных жирных кислот в мембране, наоборот, способствует снижению представленности димеров за счет более низких энтропийных затрат, требующихся для осуществления белок-липидного взаимодействия, по сравнению с насыщенными кислотами [14].
Также олигомерные комплексы GPCRs могут включать в свой состав ионные каналы, рецепторные тирозинкиназы, белки, модифицирующие активность рецепторов (RAMPs), или транспортеры медиаторов. Их аллостерические взаимодействия также обеспечивают динамическое равновесие данных комплексов, что имеет важное значение в обучении и формировании кратковременной и долговременной памяти [11, 15].
В последующих разделах данного обзора мы сконцентрируем внимание на вариантах олигомеризации дофаминовых рецепторов и возможных сигнальных каскадах, вовлеченных в механизмы развития депрессивных расстройств.
МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ РЕЦЕПТОРОВ, СОПРЯЖЕННЫХ С G-БЕЛКАМИ
Несмотря на общую поддержку концепции олигомеризации, она по-прежнему вызывает споры в научных кругах. По этой причине для обеспечения достоверности полученных результатов необходимо использовать ряд методов для подтверждения не только физического образования олигомеров, но и изучения особенностей динамики молекулярных взаимодействий между отдельными протомерами [16].
Например, одними из наиболее распространенных биофизических методов являются резонансный перенос энергии флуоресценции (FRET) и резонансный перенос энергии биолюминесценции (BRET). Оба метода основаны на явлении передачи энергии между донорно-акцепторной парой фотоактивных молекул, которые различаются по своей природе в зависимости от применяемого подхода. Преимуществами этих методов являются возможность обнаружения димеризации в живых клетках, наблюдение за динамикой взаимодействий белков в реальном времени, а также высокая чувствительность и специфичность обнаружения этих взаимодействий. Однако они зависят от правильного подбора донорно-акцепторных пар, которые потенциально могут влиять на функциональные свойства белков и ограничены по разрешению (до 10 нм), что может затруднять интерпретацию данных по изучению более слабых и дальних взаимодействий. Кроме того, с использованием феномена BRET стало возможным изучение сигнальных каскадов олигомерных комплексов, отличных от таковых у протомерных рецепторов. Так, в основе метода Receptor-HIT (Receptor-Heteromer Investigation Technology) лежит связывание фотоактивного донора с одним из рецепторов, а акцептора – с внутриклеточным белком (например, с β-аррестином), предположительно способным взаимодействовать только с олигомером. В ответ на сближение донора с акцептором происходит перенос энергии, сопровождающийся излучением светового сигнала. Этот сигнал указывает не только на близость двух рецепторов друг к другу, но и на вовлечение других белков в опосредованные олигомером сигнальные каскады в клетке [16–18].
Одним из первых биохимических подходов, предоставивших доказательство не просто колокализации GPCR, а их непосредственного взаимодействия, был метод совместной иммунопреципитации (co-IP), основанный на очистке белкового комплекса с помощью специфических антител против одного из протомеров. Олигомерный комплекс затем может быть визуализирован с помощью денатурирующего электрофореза с последующей идентификацией второго рецептора при проведении вестерн-блоттинга. В отличие от предыдущих методов, несомненным преимуществом данного подхода является прямое подтверждение физического взаимодействия белков. Однако в настоящее время метод критикуется за вероятность искажения реального наличия белок-белковых взаимодействий. Так как данный метод требует механической и химической обработки образцов, недостаточно прочные взаимодействия протомеров могут быть нарушены, что приведет к ложноотрицательному результату. Поэтому результаты, полученные с его помощью, не всегда могут точно отражать условия, характерные для живых клеток. Вместе с тем другой биохимический метод, нативный электрофорез в полиакриламидном геле (BN-PAGE), позволил разделить целевые белковые комплексы в условиях сохранения их нативной структуры благодаря применению слабых детергентов, что позволило исследовать их олигомерные состояния в условиях, уже близких к физиологическим [16, 19].
Еще одним методом для выявления взаимодействия между протомерами является анализ белковой комплементации (PCA). В основе данного подхода лежит разработка репортерных систем, состоящих их двух неактивных комплементарных фрагментов, соединенных с двумя рецепторами, предположительно обладающими сродством для образования гетеромерного комплекса. Сближение протомеров сопровождается взаимодействием репортеров и, как следствие, восстановлением функциональной активности исходного фермента, что может проявляться в изменении флуоресценции или его ферментативной активности в зависимости от выбранных систем. Преимуществом PCA является возможность изучения взаимодействий в живых клетках. Однако существенным недостатком является зависимость от используемого субстрата, который ввиду своего размера может существенно изменять пространственную конфигурацию исследуемых мишеней и вызывать потенциальные артефакты из-за рефолдинга белков [16].
Метод близкого лигирования in situ (PLA) также основан на распознавании целевого белкового комплекса с помощью разделенной репортерной системы, состоящей из пары антител, конъюгированных с короткими олигонуклеотидными последовательностями. Когда целевые протомеры находятся в непосредственной близости друг от друга (20–30 нм), введение соединительных олигонуклеотидов приводит к образованию кольцевой ДНК-матрицы. Эта матрица затем амплифицируется ДНК-полимеразой и гибридизуется с мечеными олигонуклеотидами, комплементарными ампликонам. Полученные сигналы визуализируются и количественно оцениваются в виде дискретных пятен на флуоресцентном микроскопе. Несмотря на высокую чувствительность, связанную с возможностью использования вторичных конъюгатов, данный метод не может быть использован на живых клетках, так как требуется фиксация образцов. Кроме того, при изучении гетеромерных комплексов метод не может точно указать на прямое белок-белковое взаимодействие, поскольку рецепторы также могут взаимодействовать друг с другом косвенно через адапторные белки [20].
Кроме того, существует ряд микроскопических методов исследования, таких как флуоресцентная микроскопия полного внутреннего отражения (TIRF) и анализ пространственной интенсивности (SpIDA). TIRF позволяет наблюдать за отдельными мечеными молекулами, расположенными на поверхности или непосредственно под клеточной мембраной, и процессами, происходящими с ними, в то время как SpIDA направлен на измерение плотности молекул и их олигомерных состояний. По сравнению с традиционными биохимическими методами данные подходы не только позволяют провести оценку таргетных белков в нативных образцах, но также способны предоставить информацию о динамике молекулярного взаимодействия и сигналинга в клетке [21].
Каждый из методов обнаружения гетеромерных рецепторных комплексов имеет свои уникальные преимущества и ограничения. В связи с этим для наиболее точного и надежного изучения олигомеризации рецепторов рекомендуется использовать комбинацию нескольких подходов, что позволяет минимизировать недостатки каждого отдельного метода и получить более достоверные результаты. В дополнение к вышесказанному, благодаря методам компьютерного молекулярного моделирования, таким как молекулярная динамика и белок-белковый докинг, появилась возможность предсказать возможные трехмерные структуры исследуемых комплексов, что позволило использовать данные методы в качестве вспомогательного инструмента в экспериментальных исследованиях в изучении олигомеризации GPCR [21].
МОНОМЕРНЫЕ ДОФАМИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ
Одними из представителей семейства GPCRs являются дофаминовые рецепторы, которые активируются путем связывания со своим лигандом (дофамином) и передают сигнал для инициации внутриклеточных сигнальных путей за счет рекрутирования различных α-субъединиц G-белков, таких как Gs, Gi, Gq и G12/13. Физиологические эффекты дофамина обусловлены его влиянием на два подтипа рецепторов: семейства D1 (D1R и D5R) и семейства D2 (D2R, D3R и D4R), которые различаются по своему распределению в организме, аффинности и характеру передачи сигналов внутри клеток [3, 22, 23].
D1-подобные рецепторы сопряжены с Gαs/olf-белками, связывание которых с аденилатциклазой (AC) опосредует усиление каскадного ответа cAMP/PKA (циклический аденозинмонофосфат/протеинкиназа А). Однако имеются данные о возможном связывании рецепторов семейства D1 с Gαq/11-белками, способствующими повышению уровня внутриклеточного кальция, опосредованному активацией фосфолипазы С (PLC). Помимо этого, стимуляция D1-подобных рецепторов приводит к трансактивации многих рецепторных тирозинкиназ путем каскадов, приводящих к их фосфорилированию или увеличению поверхностной экспрессии за счет притока кальция [3, 24, 25].
В свою очередь, D2-подобные рецепторы сопряжены с Gαi/o-субъединицами, вовлеченными в инактивацию AC, приводящую к снижению цитозольного уровня cAMP. Могут образовываться D2-подобные рецепторы различной длины – D2SR (D2-короткий) и D2LR (D2-длинный). Данные изоформы формируются в результате альтернативного сплайсинга 6-го экзона длиной 87 п. н. В результате D2L форма рецептора отличается от D2S дополнительной последовательностью из 29 аминокислотных остатков в составе 3-й цитозольной петли (рис. 1). Каждый из вариантов D2Rs имеет свои различные физиологические свойства. D2SR экспрессируется пресинаптически как ауторецептор и регулирует фосфорилирование ключевого фермента синтеза дофамина – тирозингидроксилазы, тогда как D2LR расположен постсинаптически и включен в регуляцию фосфорилирования дофамин- и сАМР-регулируемого фосфопротеина (DARPP-32) [22, 24, 26].
Рис. 1. Схематическое изображение изоформ D2Rs, получаемых вследствие альтернативного сплайсинга 6-го экзона на 3-й цитозольной петле, и сопряженных с ними внутриклеточных сигнальных каскадов (создано с помощью BioRender.com, по Juza et al., 2023 [26] с изменениями).
Более того, D2-подобные рецепторы могут передавать сигналы через Gβy-субъединицы, регулируя активность калиевых каналов внутреннего выпрямления GIRK, а также кальциевых каналов L- и N-типа. В дополнение к регуляции внутриклеточного каскада через регуляцию уровня cAMP D2Rs также способны активировать более медленно начинающийся и обладающий более длительным действием независимый от G-белка сигнальный механизм, способствуя образованию сигнального комплекса, состоящего из протеинкиназы B (Akt), протеинфосфатазы-2A (PP2A) и β-аррестина 2. Образование этого комплекса приводит к инактивации Akt после дефосфорилирования ее остатка треонина 308 (Thr-308) с помощью PP2A. Инактивация Akt в ответ на DA приводит к активации киназы гликогенсинтазы-3 (GSK-3), которая, в свою очередь, опосредует проявление депрессивно-подобного поведения [27]. Данный путь будет важен для дальнейшего понимания механизма развития депрессивных расстройств на молекулярно-клеточном уровне. К тому же рекрутирование β-аррестина к D2R приводит к клатрин-опосредованной интернализации рецептора, что сопровождается его деградацией через эндосомально-лизосомальную систему либо рециклированием на поверхность клетки [26].
Активность DA-рецепторов чрезвычайно сложна и регулируется множеством факторов в различных областях мозга, включая вентральную тегментальную область (VTA), прилежащее ядро, черную субстанцию, префронтальную кору (PFC), гиппокамп, миндалевидное тело, полосатое тело и латеральное хабенулярное ядро [28].
ГЕТЕРОМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС D1-D2-РЕЦЕПТОРОВ
Как и в случае всех олигомерных рецепторных комплексов, для демонстрации физических взаимодействий в гетеродимерах дофаминовых рецепторов также применяются различные методы, такие как FRET, BRET и co-IP, принципы работы которых были упомянуты ранее [29]. Было показано, что образование гетеромерного комплекса D1-D2 происходит за счет электростатического взаимодействия между двумя аргининовыми остатками третьей цитоплазматической петли D2-рецептора и противоположно заряженной парой остатков глутаминовых кислот, расположенных в карбоксильном хвосте рецептора D1, представленного на его обеих изоформах. Примечательно, что в случае наличия замещений хотя бы в одном из остатков этих двух пар гетеродимер не образуется. В свою очередь, доказательств участия трансмембранных участков в образовании гетеромерного комплекса не было выявлено [30].
Методы co-IP и FRET позволили выявить образование гетеромерных комплексов D1-D2 в базальных ядрах мозга взрослой крысы (прилежащем ядре стриатума, скорлупе), а также в области дендритных шипиков на нейронах стриато-нигральных и стриато-паллидарных путей. Позднее группой тех же авторов с использованием PLA и на уровне мРНК для измерения коэкспрессии мРНК D1R и D2R была задокументирована экспрессия гетеродимера в различных субрегионах коры, в частности в грушевидной и орбитофронтальной коре, а также в подкорковых структурах, таких как миндалевидное тело, и в латеральном поводке [23, 31, 32].
ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ КАСКАДЫ, АКТИВИРУЕМЫЕ КОМПЛЕКСОМ D1-D2-РЕЦЕПТОРОВ И ИХ СВЯЗЬ С ДЕПРЕССИЕЙ
Как было описано ранее, мономерные формы D1Rs и D2Rs не вовлечены непосредственным образом в регуляцию Ca2+-зависимых внутриклеточных сигнальных каскадов. В то же время активация гетеромерного комплекса D1-D2 индуцирует высвобождение кальция через Gαq-зависимый путь. Данный каскад приводит к внутриклеточному высвобождению кальция из запасов эндоплазматического ретикулума, чувствительных к активации рецепторов инозитолтрифосфата (IP3R), что приводит к активации и последующему аутофосфорилированию кальций/кальмодулинкиназы IIα (СаМКIIα) [22]. Hasbi с соавт. показали, что увеличенная активность как цитозольной, так и ядерной CAMKIIα сопровождается увеличением продукции нейротрофического фактора мозга (BDNF), участвующего в синаптической функции и пластичности, активации синтеза белков, ответственных за созревание, дифференцировку и выживание нейронов [31, 33].
Из-за важной роли, которую играют как дофамин, так и BDNF в аспектах синаптической пластичности и выживания нейронов, любое нарушение равновесия в описанном внутриклеточном пути активации D1-D2 может иметь драматические последствия, приводящие к изменениям способности контролировать содержимое рабочей памяти, потенциально приводя к риску развития нервно-психических расстройств, в том числе и депрессии. Действительно, было высказано предположение, что правильное функционирование рабочей памяти основано на ингибирующем механизме, устраняющем негативную информацию, которая больше не актуальна. В случае же отсутствия торможения, обрабатывающего различные навязчивые мысли, запускается “порочный круг” обдумывания пережитых событий, усиливающий состояние печали [34].
С помощью метода FRET было установлено, что с возрастом количество гетеродимерного комплекса в стриатуме возрастает при сохранении относительного уровня экспрессии генов, кодирующих D1Rs и D2Rs, что позволяет предположить смещение равновесия в сторону образования гетеромеров по сравнению с мономерными рецепторами у взрослых крыс. Во взрослом мозге сигнальный путь, опосредованный данным комплексом, регионально-специфичен и сильно ограничен. Неравномерность распределения наблюдалась уже на уровне самого полосатого тела, причем большее количество нейронов, экспрессирующих гетеромер D1-D2, наблюдалось в прилежащем ядре, чем в дорсальном полосатом теле, что связано с различием в функциональной активности данных отделов [33].
Прилежащее ядро получает глутаматергические проекции от медиальной и латеральной PFC, гиппокампа и миндалевидного тела, ингибирующий ГАМКергический сигнал от вентрального бледного шара, а также дофаминергическую иннервацию от VTA. Оно является основным посредником между лимбической и мезолимбической дофаминергической системами головного мозга [35]. Роль последней в патогенезе депрессии становится все более очевидной. Ангедония и потеря мотивации, характеризующиеся неспособностью воспринимать естественные вознаграждения, являются основными симптомами депрессии у людей, поэтому неудивительно, что нарушение регуляции мезолимбической системы связано с патофизиологией депрессивных расстройств. Проекционные шипиковые нейроны составляют около 95% всех клеток прилежащего ядра. Было показано, что часть этих нейронов, демонстрирующих комбинированный ГАМКергический/глутаматергический фенотип, способны экспрессировать гетеродимерные комплексы D1-D2-рецепторов. Отсюда следует, что их активация способна изменять экспрессию белков, участвующих в ГАМКергической и глутаматергической передаче [22, 36, 37]. В самом деле, второй мишенью CAMKIIα являются субъединицы глутаматного AMPA-рецептора – GluA1 и GluN2B. Данные рецепторы принимают участие в процессах долговременной потенциации и депрессии, а нарушение процессов посттрансляционной модификации их субъединиц, в том числе и фосфорилирования/дефосфорилирования, контролирующих активность AMPARs, связывают с развитием множества аффективных расстройств. Было показано, что у мышей, нокаутированных по субъединице GluA1, наблюдается ангедония, у грызунов проявляющаяся в снижении потребления раствора сахарозы [38]. Накопление GluA1 в постсинапсе в результате ее фосфорилирования приводит к встраиванию Ca2+-проводящих AMPA-рецепторов (CP-AMPARs) в мембрану, что приводит к активации альтернативного NMDA-зависимого пути повышения Са2+ в клетках и также играющего важную роль в поддержании синаптической передачи и нейрональной пластичности [22, 39].
Наряду с этим было обнаружено, что и ГАМКергическая нейрональная передача значительно усиливается в прилежащем ядре при активации гетеродимера D1-D2, что связано с повышением экспрессии одной из изоформ фермента, катализирующего преобразование глутамата в ГАМК – глутаматдекарбоксилазы 67 (GAD67). Впоследствии повышенная ГАМКергическая передача вызывает ингибирование передачи сигналов дофамина, что приводит к ангедонии и другим симптомам депрессивно-подобного поведения (рис. 2) [2, 40].
Рис. 2. Представление сигнального пути гетеродимерного комплекса D1-D2-рецепторов. Активация гетеродимера приводит к мобилизации внутриклеточного кальция посредством сигнального каскада, включающего транслокацию Gq-белка на плазматическую мембрану и активацию PLC. Кальций выступает в качестве активатора СаМКIIα, которая способна запускать экспрессию множества генов (например, BDNF), а также фосфорилировать другие мишени (субъединицы AMPARs, GAD67) (создано с помощью BioRender.com, по Hasbi с соавт., 2009, [33], с изменениями).
В зависимости от исследуемой области мозга активация гетеродимерного комплекса и опосредованного им сигнального пути может оказывать различные воздействия на депрессивно- и тревожно-подобное поведение. Например, введение BDNF в мезолимбические области (VTA и прилежащее ядро) коррелировало с депрессивно-подобным поведением в тесте “Принудительное плавание”, что проявлялось в виде снижения латентного периода до иммобилизации, в отличие от антидепрессивного эффекта BDNF в PFC и гиппокампе [41]. В культивируемых нейронах прилежащего ядра крыс-самцов активация гетеродимера D1-D2 приводила к увеличению продукции BDNF, что коррелировало с развитием депрессивных и анксиогенных эффектов в ряде поведенческих тестов [32].
В недавнем исследованнии также рассматривается роль гетеродимера D1-D2 в развитии послеродовой депрессии. Noori с соавт. показали, что в модели депрессии, вызванной разлучением матери с потомством, наблюдается развитие депрессивно-подобного поведения у самок. Несмотря на то, что разлучение не вызывало значительных изменений в уровне гетеродимера D1-D2 в прилежащем ядре, была отмечена слабая корреляция между выраженностью депрессивно-подобного поведения и уровнем гетеродимера. Более того, полученные результаты указывают на то, что возрастание уровня гетеродимерного комплекса может быть связано с адаптивными поведенческими реакциями на стресс, вызванный разлучением, такими как усиление ухода за потомством [42].
Таким образом, можно предположить, что повышенная экспрессия гетеродимеров D1-D2 коррелирует с вероятностью развития депрессии, поэтому их разобщение с помощью дизруптивных пептидов может положительно сказаться на психическом состоянии человека. Так, в случае блокирования этого комплекса при внутрижелудочковом введении интерферирующего пептида Tat-D2LIL3-29-2 значительно сокращалось суммарное время иммобилизации в тесте “Принудительное плавание” и возрастала частота избегания раздражителя в тесте “Выученная беспомощность” у крыс. Это значит, что гетеродимерные рецепторы D1-D2 действительно могут выступать в качестве новой фармакологической мишени для лечения депрессии и тревожных расстройств [43].
Однако стоит отметить, что для изучения внутриклеточных каскадов данного гетеродимера в качестве специфического агониста комплекса часто выступает SKF83595. Он критикуется многими исследовательскими группами, поскольку была продемонстрирована его значительная перекрестная реактивность в отношении других рецепторов [44]. Данный лиганд, наряду с SKF83959 и SKF83822, рассматривается как битопический, то есть способный связываться как с орто-, так и с аллостерическими сайтами на обоих протомерах димерного комплекса. Несмотря на высокую селективность в отношении димерного комплекса, было показано, что при связывании данные лиганды вызывают специфические конформационные изменения в комплексе, что способствует преобладанию определенного внутриклеточного сигнального пути над другими. В то же время такая избирательность в активации открывает новые возможности для разработки специфических терапевтических агентов [45, 46].
Помимо данных, полученных с использованием лиганда SKF83595, которые принимаются не всеми, было продемонстрировано увеличение количества гетеродимеров рецепторов D1-D2 в головном мозге пациентов, страдающих депрессией, а также у животных в ответ на повторное введение тетрагидроканнабинола (ТГК). В отсутствие интраназального введения дизруптивного пептида TAT-D1 этот эффект сохранялся после прекращения приема ТГК, что еще раз подтверждает специфичность его разобщающего эффекта на гетеромер D1-D2. Повышение экспрессии гетеромера D1-D2 сопровождается увеличением сигнальной активности BDNF/TrkB, приводящей к увеличению экспрессии динорфина и активации каппа-опиоидных рецепторов [47].
Важность используемого лиганда в изучении физиологических свойств рецепторных димеров подтверждается в недавнем исследовании белок-белкового взаимодействия с помощью биолюминесцентной системы с расщепленной нанолюциферазой in vivo. В работе было продемонстрировано, что по крайней мере два из шести исследованных антагонистов (спиперон и галоперидол) могут существенно снижать уровень гомодимера D2R, в то же время в отношении комплекса рецепторов A2A–D2L спиперон не оказал влияния на уровень димеризации этого гетеродимера [48].
ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ КОМПЛЕКСОВ D1-D2-РЕЦЕПТОРОВ
Несмотря на существование огромного количества информации о роли дофаминовой системы в головном мозге, данные о половых различиях в функции дофамина, показывающие врожденное существование полового диморфизма в экспрессии и функционировании дофаминовых рецепторов, ограничены, а исследования половых различий в экспрессии и функции гетеромерного комплекса рецепторов D1-D2 практически полностью отсутствуют [49].
Однако есть исследования, демонстрирующие, что у самок нечеловекообразных приматов в хвостатом ядре и у крыс в полосатом теле наблюдается более высокая плотность гетеродимеров и выявляется большее количество нейронов, экспрессирующих эти комплексы. Хотя экспрессия D1R у самок ниже, чем у самцов, в случае экспрессии D2R различий между двумя полами не наблюдалось. Результаты также показали, что самки крыс были больше склонны к депрессивно- и тревожно-подобному поведению в тесте “Принудительное плавание” и “Приподнятый крестообразный лабиринт” после активации комплексов низкими дозами SKF83959. Данный эффект был нивелирован разрушением гетеродимера пептидом TAT-D1. Эти результаты позволяют предположить, что более высокий уровень гетеродимера D1-D2 и более низкая экспрессия D1R могут свидетельствовать об общем снижении внутреннего подкрепления, способствующем увеличению предрасположенности к депрессивно-подобному поведению у самок [32, 50].
При повторных инъекциях агониста гетеромерного комплекса SKF83959 увеличивалась экспрессия BDNF и активность TrkB у самок в большей степени, нежели у самцов. Эти наблюдения указывают на то, что базальная сигнальная активность BDNF/TrkB более выражена в прилежащем ядре самок крыс по сравнению с самцами, и активация у них гетеродимера приводит к более усиленной внутриклеточной сигнализации по сравнению с самцами [32].
Важной нисходящей мишенью передачи сигналов BDNF/TrkB является Akt/GSK3-путь. Известно, что активация Akt критически зависит от фосфорилирования ее по остаткам Ser473 и Thr308. Было показано, что у самок крыс фосфорилирование фермента по данным остаткам существенно снижено. В связи с меньшей активностью Akt наблюдалось снижение фосфорилирования GSK3, поэтому последний фермент обладал повышенной активностью у самок по сравнению с самцами крыс. Однако наличие прямой связи между активированным гетеромерным комплексом D1-D2 и его влиянием на GSK3 еще не было установлено. Данный факт подкрепляется тем, что при введении SKF83959 активность Akt у самок крыс возрастала и в то же время снижалось количество фосфорилированной GSK3. Это позволяет предположить, что влияние SKF 83959 на GSK3 может быть опосредовано его влиянием на сигнальные каскады, отличные от пути с Akt [32].
В связи с более высокой плотностью гетеродимера D1-D2 и низкой экспрессией D1R в прилежащем ядре самок преобладающее воздействие на модуляцию активности Akt/GSK3 будет осуществляться через D2R посредством активации βarr2/Akt/PP2A-пути, описанного ранее. Напротив, у самцов крыс активность Akt/GSK3 регулируется через D1R посредством трансактивации рецепторной тирозинкиназы, приводящей к усилению передачи сигналов PI3K и последующему ингибированию GSK3 [25, 49].
Одной из основных мишеней GSK3 является β-катенин. Вместе они способны образовывать комплекс с рядом других белков, что в конечном счете ведет к фосфорилированию β-катенина и его дальнейшей деградации. Свободный β-катенин способен перемещаться в ядро и влиять на экспрессию множества генов, вовлеченных в патогенез депрессии. Половые различия в модуляции активности GSK3 сопровождаются изменениями в накоплении β-катенина. Поскольку активация гетеромера D1-D2 у самок крыс связана с активацией GSK3, то это приводит к снижению количества свободного β-катенина. И действительно, как у грызунов, так и у людей с депрессией была задокументирована сниженная активность β-катенина в нейронах прилежащего ядра (рис. 3) [24, 32].
Рис. 3. Представление нисходящих мишеней передачи сигналов BDNF/TrkB в зависимости от пола (создано с помощью BioRender.com).
Таким образом, можно полагать, что повышенная активность GSK3, обусловленная более высокой плотностью гетеродимера D1-D2 и низкой экспрессией D1R, приводит к снижению количества свободного β-катенина у самок крыс, что ведет к большей подверженности к депрессивно-подобному поведению у самок крыс. У самцов данный эффект нивелируется повышенным фосфорилированием GSK3 по PI3K/Akt-пути.
ВАРИАНТЫ ДИМЕРИЗАЦИИ ДОФАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ С ДРУГИМИ РЕЦЕПТОРАМИ
После признания концепции рецепторных гетеромеров ученые начали уделять серьезное внимание изучению их функций в контексте патогенеза различных болезней. Дофаминовые рецепторы способны образовывать гетеромерные комплексы и с другими представителями GPCR. Была продемонстрирована гетеродимеризация для всех подтипов дофаминовых рецепторов [7].
Например, была показана гетеродимеризация как D1R, так и D2R с рецепторами серотонина 5-HT1АR и 5-HT2АR, чья ассоциация вовлечена в развитие различных психических расстройств. Было продемонстрировано, что образование гетеромерного комплекса D1-5-HT2А повышается в различных моделях стресс-индуцированной депрессии [51].
Гетеродимеры рецепторов D2-5-HT1A активируют внутриклеточные сигнальные каскады, включая продукцию инозитолфосфатов и активацию внеклеточной сигнал-регулируемой киназы (ERK). Эти процессы могут быть связаны с изменениями в функционировании нейронов и передачей сигналов в мозге, что, в свою очередь, может влиять на развитие депрессивных симптомов. Исследования подтвердили наличие гетеродимеров D2-5-HT1A в префронтальной коре мышей. При обработке нейронов с колокализованными D2Rs и 5-HT1ARs низкой дозой клозапина и агонистом 5-HT1AR, 8-OH-DPAT наблюдалось значительное снижение продукции cAMP по сравнению с воздействием этой комбинации препаратов на клетки, экспрессирующие только один из этих рецепторов. Повышение продукции инозитолфосфатов и активация ERK после обработки данными препаратами контрансфецированных гетеродимерами D2-5-HT1A клеток указывает на активацию специфических сигнальных путей, отличных от таковых для одиночных рецепторов. Кроме того, различные антипсихотические препараты могут дифференциально регулировать уровень этих гетеродимеров, что подчеркивает их роль в механизмах действия данных препаратов при лечении депрессии [51, 52].
Недавнее исследование также раскрыло роль комплекса D1-5-HT1A в патофизиологии депрессии. Было продемонстрировано, что при коэкспрессии D1R и 5-HT2AR уровень фосфорилированного cAMP-элемент-связывающего белка (CREB) снижался, в то же время наблюдалось усиление активности ERK и снижение активности PI3K/Akt, что коррелировало с развитием депрессивно-подобного поведения у мышей. Кроме того, исследователи показали, что ингибитор гистондеацетилазы 3-го типа, MS-275, способен обратить антидепрессивное действие дизруптивного пептида на данный гетеродимер в ряде поведенческих тестов [53].
Основными функционально значимыми гетеромерами аденозиновых (ARs) и дофаминовых рецепторов являются комплексы рецепторов A2A-D2 и A1-D1, хотя также имеются данные о других возможных комбинациях, например, A2A-D3- и A2A-D4-рецепторов. Гетеромеризация приводит к образованию гетеротетрамеров, включающих по два А2А- и D2-рецептора. В реализации внутриклеточного каскада данного комплекса важную роль играет характер взаимодействия данных рецепторов, определяемый конформацией и своим окружением. В дополнение к этому существенную роль играет уровень внутриклеточного кальция, определяющий связывание двух различных нейрональных Ca2+-связывающих белков, NCS-1 и CALN1, с гетеромером A2A-D2-рецепторов при низких и высоких концентрациях Ca2+ соответственно. Это, в свою очередь, будет как способствовать, так и противодействовать активации MAPK в зависимости от уровня внутриклеточного Ca2+ [54].
Анатомически комплексы рецепторов А2А-D2 в основном находятся в базальных ганглиях, особенно в стриатопаллидарных ГАМКергических нейронах дорсального стриатума, формирующих кортико-стриатальный путь, гипоактивация которого наблюдается при депрессии. Хотя для подтверждения участия данных комплексов в патофизиологии депрессивных расстройств требуются дальнейшие исследования, на сегодняшний день существует ряд убедительных доказательств этой связи. Так, применение галоперидола, классического антипсихотика с антагонистическим действием на D2Rs, способствовало предотвращению антидепрессант-подобной активности агониста A2AR в тесте “Принудительное плавание” [54, 55].
К тому же в стриатуме, а также в гиппокампе и префронтальной коре было показано взаимодействие локальной ренин-ангиотензиновой системы и дофаминергической системы мозга на уровне образования гетеродимера AT1-D2. Образование гетеродимеров этих рецепторов приводит к изменению их функциональных свойств и внутриклеточной сигнализации, что оказывает значительное влияние на нейрофизиологические процессы, связанные в том числе и с депрессией [56].
Рядом других авторов было продемонстрировано существование и других гетеродимерных комплексов, активация которых сопровождалась смещением сигнальных каскадов. Например, с использованием синтетических бивалентных лигандов in vitro было продемонстрировано существование комплекса D2R и рецептора нейротензина 1-го типа (NTS1R), способных вызывать преимущественную активацию β-аррестина-2 в коэкспрессирующих оба типа рецепторов клетках [45].
В дополнение к комплексам, локализованным на нейронах, были обнаружены глиальные гетеромеры рецепторов D2-OXT и D2-A2A. Оба типа рецепторов колокализованы на астроцитах стриатума и играют важную роль в регуляции высвобождения глутамата. Исследования показали, что в присутствии окситоцина агонист D2-рецепторов, квинпирол, который сам по себе неэффективен при исследуемых концентрациях, ингибировал высвобождение глутамата. Это происходит потому, что окситоцин, связываясь с OXTR, повышает аффинность D2-рецепторов, позволяя им активироваться при низких концентрациях своих агонистов. Этот механизм особенно важен в условиях дефицита дофамина, характерного для депрессии. Активация рецепторов A2A-D2, помимо участия в регуляции глутаматергической передачи, может модулировать воспалительные процессы в головном мозге через высвобождение цитокинов, что также связано с риском развития депрессии [57, 58].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании вышеизложенного можно заключить, что олигомеризация дофаминовых рецепторов как внутри своего семейства, так и с другими представителями GPCRs приводит к модулированию внутриклеточных каскадов и связана с появлением разнообразных физиологических эффектов, лежащих в основе патогенеза множества заболеваний, в том числе и депрессивных расстройств. Дальнейшая разработка синтетических бивалентных лигандов гетеродимерных комплексов рецепторов дофамина представляет потенциальный интерес для адресной и избирательной терапии депрессивных расстройств. Она также дает возможность снизить нежелательные побочные эффекты, которые часто сопровождают традиционные антидепрессанты. Учитывая преимущества выбора олигомеров дофаминовых рецепторов в качестве терапевтической мишени, необходимо проведение дальнейших исследований для оценки безопасности и эффективности влияния бивалентных лигандов этих олигомеров на организм человека в целом.
ВКЛАДЫ АВТОРОВ
Концепция (О. В. С.), написание текста (А. А. Г.), оформление рисунков (А. А. Г.), редактирование манускрипта (О. В. С.).
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Данная работа финансировалась за счет средств бюджета государственного задания Московского государственного университета № 121032300075-6.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
В данной работе отсутствуют исследования человека или животных.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
Об авторах
А. А. Герасимов
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Автор, ответственный за переписку.
Email: drewgerasimov@gmail.com
Россия, Москва
О. В. Смирнова
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Email: drewgerasimov@gmail.com
Россия, Москва
Список литературы
- Kaur S, Singh S, Jaiswal G, Kumar S, Hourani W, Gorain B, Kumar P (2020) Pharmacology of Dopamine and Its Receptors. Front Pharmacol Neurotransmit: 143–182. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3556-7_5
- Misganaw D (2021) Heteromerization of dopaminergic receptors in the brain: Pharmacological implications. Pharmacol Res 170: 105600. https://doi.org/10.1016/j.phrs.2021.105600
- Perreault ML, Hasbi A, O’Dowd BF, George SR (2014) Heteromeric Dopamine Receptor Signaling Complexes: Emerging Neurobiology and Disease Relevance. Neuropsychopharmacology 39: 156–168. https://doi.org/10.1038/npp.2013.148
- Lubomski M, Davis RL, Sue CM (2020) Depression in Parkinson’s disease: Perspectives from an Australian cohort. J Affect Disord 277: 1038–1044. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.09.032
- Dean J, Keshavan M (2017) The neurobiology of depression: An integrated view. Asian J Psychiatry 27: 101–111. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2017.01.025
- Szczypiński JJ, Gola M (2018) Dopamine dysregulation hypothesis: the common basis for motivational anhedonia in major depressive disorder and schizophrenia? Rev Neurosci 29: 727–744. https://doi.org/10.1515/revneuro-2017-0091
- Maggio R, Aloisi G, Silvano E, Rossi M, Millan MJ (2009) Heterodimerization of dopamine receptors: new insights into functional and therapeutic significance. Parkinsonism Relat Disord 15: S2–S7. https://doi.org/10.1016/S1353-8020(09)70826-0
- George SR, Kern A, Smith RG, Franco R (2014) Dopamine receptor heteromeric complexes and their emerging functions. Progr Вrain Res 211: 183–200. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63425-2.00008-8
- Johnson GP, Agwuegbo U, Jonas KC (2021) New insights into the functional impact of G protein–coupled receptor oligomerization. Curr Opin Endocr Metab Res 16: 43–50. https://doi.org/10.1016/j.coemr.2020.08.005
- Ferré S, Ciruela F, Casadó V, Pardo L (2020) Oligomerization of G protein-coupled receptors: Still doubted? Progr Mol Biol Translat Sci 169: 297–321. https://doi.org/10.1016/bs.pmbts.2019.11.006
- Hu S, Wang D, Liu W, Wang Y, Chen J, Cai X (2024) Apelin receptor dimer: Classification, future prospects, and pathophysiological perspectives. Biochim Biophys Acta BBA – Mol Basis Dis 1870: 167257. https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2024.167257
- Shah U, Pincas H, Sealfon SC, González-Maeso J (2020) Structure and function of serotonin GPCR heteromers. Handbook Behav Neurosci 31: 217–238. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64125-0.00011-6
- Yeganeh-Hajahmadi M, Moosavi-Saeed Y, Rostamzadeh F (2023) Apelin Receptor Dimerization and Oligomerization. Curr Mol Pharmacol 17: e180823219999. https://doi.org/10.2174/1874467217666230818113538
- Gahbauer S, Böckmann RA (2020) Comprehensive Characterization of Lipid-Guided G Protein-Coupled Receptor Dimerization. J Phys Chem B 124: 2823–2834. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.0c00062
- Mirchandani-Duque M, Choucri M, Hernández-Mondragón JC, Crespo-Ramírez M, Pérez-Olives C, Ferraro L, Franco R, Pérez De La Mora M, Fuxe K, Borroto-Escuela DO (2024) Membrane Heteroreceptor Complexes as Second-Order Protein Modulators: A Novel Integrative Mechanism through Allosteric Receptor – Receptor Interactions. Membranes 14: 96. https://doi.org/10.3390/membranes14050096
- Faron-Górecka A, Szlachta M, Kolasa M, Solich J, Górecki A, Kuśmider M, Żurawek D, Dziedzicka-Wasylewska M (2019) Understanding GPCR dimerization. Methods Cell Biol 149: 155–178. https://doi.org/10.1016/bs.mcb.2018.08.005
- Johnstone EKM, See HB, Abhayawardana RS, Song A, Rosengren KJ, Hill SJ, Pfleger KDG (2021) Investigation of Receptor Heteromers Using NanoBRET Ligand Binding. Int J Mol Sci 22: 1082. https://doi.org/10.3390/ijms22031082
- Dale NC, Johnstone EKM, Pfleger KDG (2022) GPCR heteromers: An overview of their classification, function and physiological relevance. Front Endocrinol 13: 931573. https://doi.org/10.3389/fendo.2022.931573
- Odagaki Y, Borroto-Escuela DO (2019) Co-Immunoprecipitation Methods for Brain Tissue. Humana Press. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8985-0
- Lujan R, Ciruela F (2021) Receptor and Ion Channel Detection in the Brain. Humana Press. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1522-5
- Guo H, An S, Ward R, Yang Y, Liu Y, Guo X-X, Hao Q, Xu T-R (2017) Methods used to study the oligomeric structure of G-protein-coupled receptors. Biosci Rep 37: BSR20160547. https://doi.org/10.1042/BSR20160547
- Zhao F, Cheng Z, Piao J, Cui R, Li B (2022) Dopamine Receptors: Is It Possible to Become a Therapeutic Target for Depression? Front Pharmacol 13: 947785. https://doi.org/10.3389/fphar.2022.947785
- Vekshina NL, Anokhin PK, Veretinskaya AG, Shamakina IYu (2017) Heterodimeric D1-D2 dopamine receptors: a review. Biomed Khimiya 63: 5–12. https://doi.org/10.18097/PBMC20176301005
- Beaulieu J-M, Gainetdinov RR (2011) The Physiology, Signaling, and Pharmacology of Dopamine Receptors. Pharmacol Rev 63: 182–217. https://doi.org/10.1124/pr.110.002642
- Iwakura Y, Nawa H, Sora I, Chao MV (2008) Dopamine D1 Receptor-induced Signaling through TrkB Receptors in Striatal Neurons. J Biol Chem 283: 15799–15806. https://doi.org/10.1074/jbc.M801553200
- Juza R, Musilek K, Mezeiova E, Soukup O, Korabecny J (2023) Recent advances in dopamine D2 receptor ligands in the treatment of neuropsychiatric disorders. Med Res Rev 43: 55–211. https://doi.org/10.1002/med.21923
- Beaulieu J-M, Tirotta E, Sotnikova TD, Masri B, Salahpour A, Gainetdinov RR, Borrelli E, Caron MG (2007) Regulation of Akt Signaling by D2 and D3 Dopamine Receptors In Vivo. J Neurosci 27: 881–885. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5074-06.2007
- Delva NC, Stanwood GD (2021) Dysregulation of brain dopamine systems in major depressive disorder. Exp Biol Med 246: 1084–1093. https://doi.org/10.1177/1535370221991830
- Kim H, Nam M-H, Jeong S, Lee H, Oh S-J, Kim J, Choi N, Seong J (2022) Visualization of differential GPCR crosstalk in DRD1-DRD2 heterodimer upon different dopamine levels. Prog Neurobiol 213: 102266. https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2022.102266
- O’Dowd BF, Ji X, Nguyen T, George SR (2012) Two amino acids in each of D1 and D2 dopamine receptor cytoplasmic regions are involved in D1–D2 heteromer formation. Biochem Biophys Res Commun 417: 23–28. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2011.11.027
- Hasbi A, O’Dowd BF, George SR (2011) Dopamine D1-D2 receptor heteromer signaling pathway in the brain: emerging physiological relevance. Mol Brain 4: 26. https://doi.org/10.1186/1756-6606-4-26
- Hasbi A, Nguyen T, Rahal H, Manduca JD, Miksys S, Tyndale RF, Madras BK, Perreault ML, George SR (2020) Sex difference in dopamine D1-D2 receptor complex expression and signaling affects depression- and anxiety-like behaviors. Biol Sex Differ 11: 8. https://doi.org/10.1186/s13293-020-00285-9
- Hasbi A, Fan T, Alijaniaram M, Nguyen T, Perreault ML, O’Dowd BF, George SR (2009) Calcium signaling cascade links dopamine D1–D2 receptor heteromer to striatal BDNF production and neuronal growth. Proc Natl Acad Sci U S A 106: 21377–21382. https://doi.org/10.1073/pnas.0903676106
- Joormann J, Gotlib IH (2010) Emotion regulation in depression: Relation to cognitive inhibition. Cogn Emot 24: 281–298. https://doi.org/10.1080/02699930903407948
- Фонсова НА, Сергеев ИЮ, Дубынин ВА (2016) Анатомия центральной нервной системы. Учебник для академического бакалавриата. М.; Изд-во Юрайт. [Fonsova NA, Sergeev IYU, Dubynin VA (2016) Anatomy of the Central Nervous System. A Textbook for Academic Bachelor's Degree. M. YUrajt. (In Russ)].
- Koo JW, Chaudhury D, Han M-H, Nestler EJ (2019) Role of Mesolimbic Brain-Derived Neurotrophic Factor in Depression. Biol Psychiatry 86: 738–748. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2019.05.020
- Fatima M, Ahmad MH, Srivastav S, Rizvi MA, Mondal AC (2020) A selective D2 dopamine receptor agonist alleviates depression through up-regulation of tyrosine hydroxylase and increased neurogenesis in hippocampus of the prenatally stressed rats. Neurochem Int 136: 104730. https://doi.org/10.1016/j.neuint.2020.104730
- Strickland JA, Austen JM, Sprengel R, Sanderson DJ (2021) The GluA1 AMPAR subunit is necessary for hedonic responding but not hedonic value in female mice. Physiol Behav 228: 113206. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2020.113206
- Dolgacheva LP, Tuleukhanov ST, Zinchenko VP (2020) Participation of Ca2+-Permeable AMPA Receptors in Synaptic Plasticity. Biochemistry (Moscow) Suppl Ser A: Membrane And Cell Biology 37: 175–187. https://doi.org/10.31857/S0233475520030044
- Shen MYF (2015) The role of the dopamine D1-D2 receptor heteromer in brain reward function: Relevance to drug addiction and depression. Univer Toronto. 1–223.
- Phillips C (2017) Brain-Derived Neurotrophic Factor, Depression, and Physical Activity: Making the Neuroplastic Connection. Neural Plast 2017: 1–17. https://doi.org/10.1155/2017/7260130
- Noori M, Hasbi A, Sivasubramanian M, Milenkovic M, George SR (2020) Maternal Separation Model of Postpartum Depression: Potential Role for Nucleus Accumbens Dopamine D1–D2 Receptor Heteromer. Neurochem Res 45: 2978–2990. https://doi.org/10.1007/s11064-020-03145-5
- Pei L, Li S, Wang M, Diwan M, Anisman H, Fletcher PJ, Nobrega JN, Liu F (2010) Uncoupling the dopamine D1-D2 receptor complex exerts antidepressant-like effects. Nat Med 16: 1393–1395. https://doi.org/10.1038/nm.2263
- Dziedzicka-Wasylewska M, Polit A, Błasiak E, Faron-Górecka A (2024) G Protein-Coupled Receptor Dimerization – What Next? Int J Mol Sci 25: 3089. https://doi.org/10.3390/ijms25063089
- Botta J, Appelhans J, McCormick PJ (2020) Continuing challenges in targeting oligomeric GPCR-based drugs. Progr Mol Biol Translat Sci 169: 213–245. https://doi.org/10.1016/bs.pmbts.2019.11.009
- Zhuang Y, Xu P, Mao C, Wang L, Krumm B, Zhou XE, Huang S, Liu H, Cheng X, Huang X-P, Shen D-D, Xu T, Liu Y-F, Wang Y, Guo J, Jiang Y, Jiang H, Melcher K, Roth BL, Zhang Y, Zhang C, Xu HE (2021) Structural insights into the human D1 and D2 dopamine receptor signaling complexes. Cell 184: 931–942.e18. https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.01.027
- Hasbi A, Madras BK, George SR (2023) Daily Δ9-Tetrahydrocannabinol and Withdrawal Increase Dopamine D1-D2 Receptor Heteromer to Mediate Anhedonia- and Anxiogenic-like Behavior Through a Dynorphin and Kappa Opioid Receptor Mechanism. Biol Psychiatry Glob Open Sci 3: 550–566. https://doi.org/10.1016/j.bpsgos.2022.07.003
- Wouters E, Marín A, Dalton J, Giraldo J, Stove C (2019) Distinct Dopamine D2 Receptor Antagonists Differentially Impact D2 Receptor Oligomerization. Int J Mol Sci 20: 1686. https://doi.org/10.3390/ijms20071686
- Williams OOF, Coppolino M, George SR, Perreault ML (2021) Sex Differences in Dopamine Receptors and Relevance to Neuropsychiatric Disorders. Brain Sci 11: 1199. https://doi.org/10.3390/brainsci11091199
- Shen MYF, Perreault ML, Bambico FR, Jones-Tabah J, Cheung M, Fan T, Nobrega JN, George SR (2015) Rapid anti-depressant and anxiolytic actions following dopamine D1–D2 receptor heteromer inactivation. Eur Neuropsychopharmacol 25: 2437–2448. https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2015.09.004
- Mitroshina EV, Marasanova EA, Vedunova MV (2023) Functional Dimerization of Serotonin Receptors: Role in Health and Depressive Disorders. Int J Mol Sci 24: 16416. https://doi.org/10.3390/ijms242216416
- Shioda N, Imai Y, Yabuki Y, Sugimoto W, Yamaguchi K, Wang Y, Hikida T, Sasaoka T, Mieda M, Fukunaga K (2019) Dopamine D2L Receptor Deficiency Causes Stress Vulnerability through 5-HT1A Receptor Dysfunction in Serotonergic Neurons. J Neurosci 39: 7551–7563. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0079-19.2019
- Li W, Ali T, Mou S, Gong Q, Li N, Hao L, Yu Z-J, Li S (2023) D1R-5-HT2AR Uncoupling Reduces Depressive Behaviours via HDAC Signalling. Neurotherapeutics 20: 1875–1892. https://doi.org/10.1007/s13311-023-01436-7
- Gonçalves MCB, Glaser T, Oliveira SLBD, Ulrich H (2020) Adenosinergic-Dopaminergic Signaling in Mood Disorders: A Mini-Review. J Caffeine Adenosine Res 10: 94–103. https://doi.org/10.1089/caff.2020.0009
- Ferré S, Bonaventura J, Zhu W, Hatcher-Solis C, Taura J, Quiroz C, Cai N-S, Moreno E, Casadó-Anguera V, Kravitz AV, Thompson KR, Tomasi DG, Navarro G, Cordomí A, Pardo L, Lluís C, Dessauer CW, Volkow ND, Casadó V, Ciruela F, Logothetis DE, Zwilling D (2018) Essential Control of the Function of the Striatopallidal Neuron by Pre-coupled Complexes of Adenosine A2A-Dopamine D2 Receptor Heterotetramers and Adenylyl Cyclase. Front Pharmacol 9: 243. https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00243
- Durdagi S, Erol I, Salmas RE, Aksoydan B, Kantarcioglu I (2019) Oligomerization and cooperativity in GPCRs from the perspective of the angiotensin AT1 and dopamine D2 receptors. Neurosci Lett 700: 30–37. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2018.04.028
- Amato S, Averna M, Guidolin D, Ceccoli C, Gatta E, Candiani S, Pedrazzi M, Capraro M, Maura G, Agnati LF, Cervetto C, Marcoli M (2023) Heteromerization of Dopamine D2 and Oxytocin Receptor in Adult Striatal Astrocytes. Int J Mol Sci 24: 4677. https://doi.org/10.3390/ijms24054677
- Cervetto C, Maura G, Guidolin D, Amato S, Ceccoli C, Agnati LF, Marcoli M (2023) Striatal astrocytic A2A-D2 receptor-receptor interactions and their role in neuropsychiatric disorders. Neuropharmacology 237: 109636. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2023.109636
Дополнительные файлы