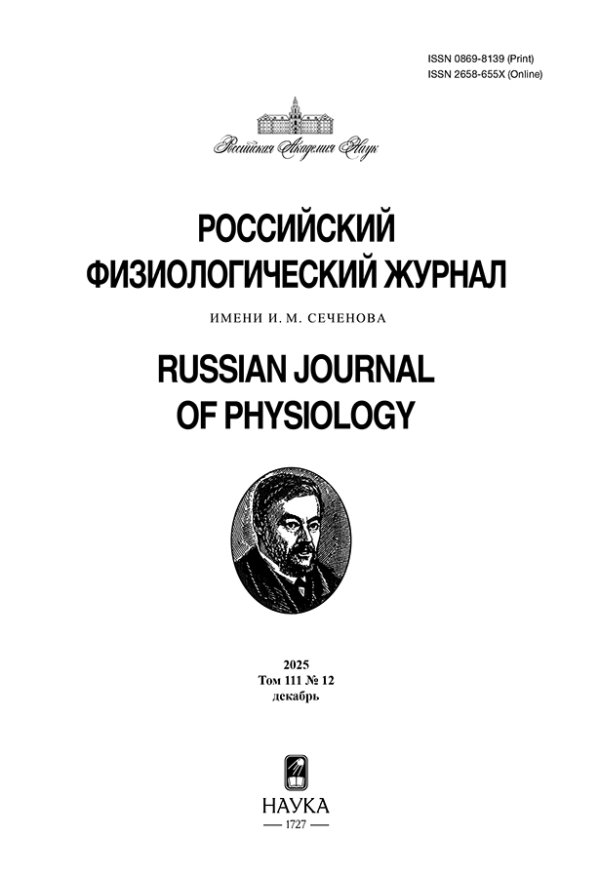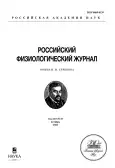Therapeutic effects of noble gases
- Authors: Kabiolskiy I.А.1, Simonenko S.D.1, Sarycheva N.U.1, Dubynin V.А.1
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: Vol 110, No 10 (2024)
- Pages: 1582-1601
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-8139/article/view/274752
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869813924100033
- EDN: https://elibrary.ru/VRXCIA
- ID: 274752
Cite item
Full Text
Abstract
Since the last century it has been known that inert gases can cause a range of physiological effects. The biological activity of inert gases is an extremely multifaceted phenomenon. Despite the similarity of most physical and chemical characteristics, they are able to affect many organs and tissues by interacting with a variety of protein targets. Currently, it is known that xenon, krypton and argon are capable of changing the functional state of the central nervous system and correcting some psychoemotional disorders. In addition, they influence the processes of apoptosis and cellular response to stress. Noble gases affect the state of the immune system and various parameters of homeostasis. The cytoprotective effects of helium on the cardiovascular and respiratory systems have also been convincingly demonstrated. Thus, noble gases are currently being considered as potential means of correcting various diseases.
This review is devoted to the analysis of literature data on the physiological effects of noble gases identified in biomedical studies on patients, as well as in cell culture and in vivo models. Each chapter of the review is devoted to a particular gas of this group, starting with the most studied ones. For each of the noble gases (helium, neon, argon, krypton, xenon and radon) their physiological activity, the possibility of using these substances in medicine and some known mechanisms of their action are considered. Moreover, in the review existing data were critically analyzed and key gaps that need to be filled in future research were identified.
Keywords
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Инертные («благородные», noble) газы – элементы особой группы таблицы Менделеева. Они представлены одноатомными газами с полностью занятыми электронными орбиталями, что определяет их абсолютную химическую пассивность в нормальных условиях. Атомы инертных газов являются симметричными и неполярными, что исключает также возможность электростатических взаимодействий с биологическими мишенями. Вместе с тем уже с середины прошлого века ученым известны как минимум анестетические свойства инертных газов в нормобарических и гипербарических условиях [1]. Это позволяет предположить, что биологическая активность инертных газов должна быть опосредована некоторыми специфическими физико-химическими особенностями данных веществ.
Одной из характерных особенностей атомов инертных газов является прямая зависимость их растворимости в липидах от атомной массы. Именно это свойство изначально предполагалось в качестве основной причины наличия у инертных газов анестетических эффектов в соответствии с гипотезой Мейера – Овертона [2]. Инертные газы, масса которых больше массы молекулярного азота (Xe, Kr, Ar), обладают анестетическими свойствами. У ксенона они проявляются при атмосферном давлении, а у криптона и аргона в условиях гипербарии [3]. При воздействии более легких и менее липофильных инертных газов (Ne, He) в гипербарических условиях характерно развитие неврологического синдрома высокого давления, при котором наблюдаются дисметрии, миоклонии, тремор и прочие нарушения двигательных функций [4]. Методами моделирования молекулярной динамики взаимодействия с липидным бислоем показано, что тяжелые, вызывающие анестезию инертные газы встраиваются внутрь билипидного слоя и в гидрофобные сайты белковых молекул. Малые инертные газы, в свою очередь, в условиях повышенного давления действуют как «растворители», нарушающие структуру границы между водной фазой и липидами, что как раз и может становиться причиной развития синдрома высокого давления [5].
Как уже было сказано, благодаря своей липофильности, тяжелые инертные газы способны не только внедряться в структуру мембраны, но и занимать гидрофобные сайты внутри белковых молекул. Существует множество методов исследования мест и энергии связывания атомов инертных газов с белковыми молекулами. Проводятся работы с применением как рентгеноструктурного анализа [6], так и компьютерного моделирования [7], при котором места связывания предсказываются с точностью до 1-2 вандерваальсовых радиусов. Так, выявлено, что атомы инертных газов склонны связываться с гидрофобными остатками лейцина, фенилаланина и валина в основном в соответствующих карманах белковых молекул [7]. Также существует методология детекции белок-ксеноновых взаимодействий на основе анализа стабильности белков по скорости окисления (SPROX) и ограниченного протеолиза (LiP) [8]. В настоящее время в базах данных, таких как RCSB (Research Collaboratory for Structural Biology), можно найти множество спрогнозированных интерактомов между инертными газами и белками [9].
Параллельно с изучением молекулярной динамики взаимодействия инертных газов с биологическими молекулами активно идет анализ интегративных (системных) аспектов их влияния на организм. Уже около восьмидесяти лет в физиологии и медицине известны анестетические свойства ксенона. Позже исследования были направлены на изучение действия его субанестетических концентраций на организм, что привело к открытию органопротекторных эффектов ксенона и аргона. Эта актуальная и многообещающая тема заинтересовала многих ученых, и в последние годы наблюдается заметное увеличение числа работ, направленных на изучение терапевтического действия всей группы инертных газов на организм. В числе прочего "бум" исследований в данной области обусловлен необходимостью поиска газа, который стал бы более дешевым аналогом ксенона, обладая при этом сходными протекторными свойствами. Вместе с тем на волне растущего интереса к оценке свойств этих относительно новых для биомедицинской области веществ появляются исследования, авторы которых подходят к интерпретации своих результатов с не слишком высокой степенью ответственности и критичности. Многие исследователи заявляют о наличии разнообразных «целебных» свойств инертных газов. Однако, как правило, такие выводы не подкреплены достаточно убедительными эмпирическими выкладками и не снабжены сопоставлением с исследованиями других авторов. Изложенная ситуация – одна из причин, по которой представляется важным и актуальным провести критический анализ литературы в данной области, чему и посвящен данный обзор.
ЭФФЕКТЫ КСЕНОНА
Ксенон среди инертных газов стал первым, для которого были открыты явные физиологические эффекты. Более того, на данный момент известно, что среди прочих инертных газов именно ксенон обладает наиболее выраженной нейротропной активностью. Впервые его действие было показано более 80 лет назад: профессор кафедры фармакологии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Н. В. Лазарев выдвинул предположение о наличии анестетических свойств у ксенона [10]. Позже данное предположение подтвердилось в исследованиях на лабораторных животных [2]. Дальнейшее изучение привело к тому, что с 1999 г. ксенон официально разрешен Министерством здравоохранения РФ для применения в анестезиологической практике. Известно, что минимальная альвеолярная концентрация (МАК – концентрация ингаляционного анестетика, предотвращающая двигательную активность у 50% пациентов в ответ на стандартный болевой раздражитель) ксенона для человека составляет 63.1% [11], что позволяет использовать его при нормальном давлении. Для крыс же МАК превышает атмосферное давление и составляет 161 ± 17% (парциальное давление ксенона должно составлять 1.6 ± 0.17 атм.) [3]. Концентрация ксенона при анестезии положительно коррелирует с мощностью медленноволновых компонент в спектре ЭЭГ в лобной и теменной коре испытуемых [12]. Ксеноновая анестезия, по сравнению с кетаминовой, характеризуется быстрым выходом из наркоза с минимальным проявлением постанестетических симптомов и галлюцинаций, что обусловлено более глубоким подавлением активности коры больших полушарий [13]. Однако как после ксеноновой, так и после севофлурановой анестезии через час после индукции у пациентов для проведения литотрипсии отмечали повышение маркеров нейронального повреждения в крови. Были увеличены тотальный и фосфорилированный Тау-белок и тонкий полипептидный нейрофиламент (NFL) [14]. Впрочем, такой эффект может быть сопряжен с ростом проницаемости гематоэнцефалического барьера, что характерно при проведении операций под наркозом [15]. Таким образом, ксенон представляется одним из наилучших газовых анестетиков в клинической практике. Обзоры, посвященные оценке эффективности ксеноновой анестезии, указывают на улучшение постоперационного когнитивного восстановления у пациентов [16]. Вдобавок ксенон способен влиять на серотонинергическую систему – показано, что он способен ингибировать ток через ионотропные серотониновые рецепторы (5-HT3), что может купировать постоперационную тошноту и рвоту [17].
Анестетический эффект ксенона опосредован в первую очередь его способностью ингибировать глутаматергические NMDA-рецепторы [18]. Известно, что ксенон взаимодействует с сайтом глицина на NMDA-рецепторах, включая одновременно конкурентную и аллостерическую компоненты молекулярного антагонизма [19]. При помощи компьютерного моделирования динамики взаимодействия ксенона с глициновым сайтом показано, что область связывания глицина на NMDA-рецепторе образована полостью в белковой молекуле; внутри полости находятся три ароматические аминокислоты – Phe 484, Phe 758 и Trp 781 [20]. При связывании с глицином эти аминокислоты обуславливают взаимодействие с лигандом и запускают конформационные изменения в NMDA-рецепторе, опосредующие его активацию. Для атомов ксенона данные аминокислоты создают три локальных сайта улавливания, образованные π-комплексами электронов ароматических колец, между которыми возможна миграция атома ксенона [21]. Атом ксенона стабилизирует лиганд-связывающий домен в открытом положении. Были найдены точечные мутации (F758W и F758Y) в сайте связывания глицина, которые нивелируют аффинность ксенона к данному сайту [22].
Электрофизиологические исследования сообщают о влиянии ксенона не только на NMDA-рецепторы, но и на другие мишени. В клетках гиппокампа крыс ксенон снижал амплитуду входящих токов, генерируемых NMDA-, AMPA- и каинатными рецепторами [23, 24]. При этом ксенон не оказывал влияния на токи, генерируемые ГАМК-рецепторами, однако при экспозиции нейронов в среде ксенона отмечалось снижение частоты спонтанных тормозных постсинаптических потенциалов при сохранении их амплитуды и кинетики затухания. В исследованиях на ооцитах гладкой шпорцевой лягушки ксенон проявил ингибирующее действие по отношению к α4β2 и α4β4 никотиновым ацетилхолиновым рецепторам и, напротив, потенцировал α1-глициновый рецептор и ГАМКА-рецептор [25]. Авторы рассуждают о механизмах анальгетического действия ксенона, однако ингибирующее воздействие ксенона на α4β2 Н-холинорецепторы противоречит их роли в ноцицепции. В статье выдвигается предположение, что анальгетический эффект ксенона, по всей видимости, опосредован воздействием на NMDA-рецепторы. Помимо этого, показано, что ксенон способен оказывать влияние на внутриклеточную концентрацию кальция. Для ряда газовых анестетиков (ксенон, закись азота, изофлуран и галотан) показано ингибирующее влияние на Ca2+-АТФазу плазматической мембраны [26]. Такой эффект газовых анестетиков может приводить к значительным альтерациям в гомеостазе внутриклеточного кальция, увеличивая кальциевую нагрузку и потенциально влияя на секрецию нейротрансмиттеров [27]. Однако существуют и противоположные данные: ксенон способен подавлять долговременную потенциацию в нейронах гиппокампа мыши [28] и данный эффект, напротив, опосредован снижением внутриклеточной концентрации кальция за счет блокады кальциевого тока через каналы NMDA-рецепторов. Среди прочих механизмов действия ксенона отмечена его способность активировать некоторые из двупоровых калиевых каналов – TREK-1, TASK-3, а также АТФ-чувствительные калиевые каналы [29]. Активацию TREK-1 связывают с нейропротекторными эффектами ксенона – подавлением глутаматной эксайтотоксичности [30].
В ряду других проявлений нейропротекторного действия ксенон способен увеличивать выживаемость нейронов в срезах гиппокампа мышей в модели кислородно-глюкозной депривации. При этом при повышении концентрации глицина в среде защитные свойства ксенона исчезают [31]. В модели травмы мозга in vivo ксенон привел к увеличению выживаемости нейронов и снижению воспаления в нервной ткани, что стало причиной улучшения пространственной памяти у животных [32]. Ксенон частично, но устойчиво обеспечивал защиту кортикальных нейронов и септальных холинергических нейронов крыс в модели болезни Альцгеймера, вызванной воздействием L-транс-пирролидин-2,4-дикарбоновой кислоты (PDC) на культуру клеток. PDC является синтетическим аналогом глутамата и оказывает легкий эксайтотоксический стресс [33]. Также было продемонстрировано, что ксенон способен оказывать нейропротекторное действие комплементарно с мемантином или кетамином, совместно усиливая подавление избыточной активности NMDA-рецепторов.
В рамках исследований прочих положительных эффектов ксенона в субанестетических концентрациях было выявлено его антиконвульсантное действие как в моделях на животных [34], так и в терапии младенцев с энцефалопатией [35]. Ингаляции ксенонсодержащими смесями (30% Xe) способны снижать проявления абстинентного синдрома при моделировании морфиновой зависимости у мышей [36] и алкогольной зависимости у крыс [37].
Ингибиторное влияние на импульсацию клеток мозга может быть использовано в терапии психоэмоциональных расстройств, связанных с избыточной активностью нейронов головного мозга. В частности, ингаляции ксеноном применяются в клинике в качестве средства терапии панических атак [38], оказывая анксиолитический эффект и купируя симптомы сопутствующих депрессивных эпизодов. Данные эффекты также подтверждаются и в исследованиях на лабораторных животных с использованием модели депрессии, вызванной инъекцией липополисахаридов [39]. При моделировании посттравматического стрессорного расстройства у крыс ксенон ослаблял реконсолидацию памяти о негативном опыте контакта со стрессогенной средой [40].
В лаборатории общей физиологии и регуляторных пептидов кафедры физиологии человека и животных МГУ имени М. В. Ломоносова проводятся исследования неврологических эффектов инертных газов в экспериментах на белых крысах в различных моделях. В частности, нашей научной группой было показано, что при моделировании расстройств аутистического спектра ксенон оказывал корректирующее влияние на параметры социального и депрессивно-подобного поведения [41].
Для ксенона наряду с его влияниями на центральную нервную систему показано протекторное действие по отношению к другим тканям и органам. Ксенон способен снижать размер зоны инфаркта сердца у крыс после ишемии-реперфузии [42]. Данный эффект опосредован транслокацией и фосфорилированием протеинкиназы C-эпсилон, а также активацией митоген-активируемой протеинкиназы p38 под действием ксенона. Согласно клиническим данным, ксенон способен уменьшать повреждение миокарда у пациентов, перенесших внебольничную остановку сердца. Ингаляции газовой смесью с концентрацией ксенона 40% снижали содержание в крови тропонина-Т, который является маркером повреждения миокарда [43]. Кроме того, ксенон улучшил систолическую функцию левого желудочка, увеличив фракцию выброса [44].
Также показано ренопротекторное действие ксенона в условиях кислородной депривации культуры эпителиальных клеток проксимального канальца. В данной модели ксенон увеличил выживаемость клеток за счет увеличения экспрессии протеинкиназы B, а также фактора, индуцируемого гипоксией (HIF-1α), что обуславливает протекцию в условиях ишемического повреждения тканей [45]. Известно, что HIF-1α способен увеличивать уровень эритропоэтина в крови, связываясь с энхансером его гена и активируя его транскрипцию [46]. Посредством этого механизма ксенон способен вызывать повышение концентрации эритропоэтина в плазме, а также увеличение общего объема крови испытуемых [47, 48]. Из-за наличия данного эффекта ксенон внесен всемирной антидопинговой организацией в список препаратов, запрещенных для использования в профессиональном спорте [https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list?item-id=5029, дата обращения: 28.05.2024].
Таким образом, ксенон, благодаря своей ярко выраженной нейротропной активности и органопротекторным свойствам, является инертным газом с широким спектром потенциальных терапевтических применений. Особое значение имеет его потенциал как средства терапии множества психоэмоциональных нарушений, таких как тревожные расстройства, посттравматическое стрессорное расстройство и расстройства аутистического спектра. Однако использование ксенона в медицине сопряжено с рядом технических и экономических сложностей, вызванных низкой концентрацией ксенона в атмосфере и, как следствие, его высокой стоимостью. Эти обстоятельства диктуют необходимость развития более совершенных способов использования ксенона при ингаляциях, например, внедрение систем рециклинга, которые позволят повторно использовать выдыхаемый пациентом ксенон. Увеличение доступности ксенона будет способствовать расширению сферы его применения в клинике.
Общий тренд в исследованиях ксенона имеет хорошую перспективу, включающую расширение анализа фармакологической активности в субанестетических концентрациях. История изучения свойств ксенона является показательной с точки зрения полноты исследования. Анализ физиологических эффектов ксенона касался как молекулярно-динамических основ взаимодействия лиганда с его мишенями, так и влияния на системном уровне, включая исследования in vivo и описания применений ксенона в клинике. Опыт описания действия ксенона может помочь во всестороннем изучении других инертных газов.
ЭФФЕКТЫ АРГОНА
При изучении эффектов аргона исследователи уделяли большое внимание его нейропротекторным свойствам. В моделях кислородно-глюкозной депривации на кортикальных нейронах [49–51] и нейронах гиппокампа [52] было продемонстрировано, что аргон приводит к увеличению выживаемости клеток; его защитный эффект имеет дозозависимый и времязависимый характер. Действие аргона выражалось в снижении количества лактатдегидрогеназы, а также в увеличении экспрессии и транслокации в ядро фактора Nrf-2 в коре головного мозга.
Помимо работ на клеточных культурах, существует ряд исследований нейропротекторных свойств аргона в моделях in vivo. Позитивные эффекты были показаны на животных, подвергавшихся временной окклюзии средней мозговой артерии [50, 53–54] и неонатальной односторонней окклюзии каротидной артерии [55]. Ингаляции аргон-кислородной смесью привели к улучшению неврологического состояния и способности к обучению белых крыс. Ингаляции аргоном снизили размер зоны поражения коры головного мозга; показано увеличение экспрессии генов трансформирующего фактора роста бета (TGF-β) и фактора роста нервов (NGF) в зоне пенумбры через 24 ч после реперфузии по сравнению с группой, получавшей плацебо [54]. В модели субарахноидального кровотечения у крыс аргон также показал протекторное действие, положительно сказавшееся на выживании животных [56]. Однако в модели черепно-мозговой травмы ингаляции аргоном не оказали влияния на объем зоны повреждения в головном мозге [57].
Особое внимание уделяется механизму нейропротекции аргона, связанному с изменением активности системы врожденного иммунитета. Известно, что аргон способен снижать плотность Toll-подобных рецепторов 2-го и 4-го типов (TLR-2, TLR-4), увеличивать количество фосфорилированной ERK 1/2 и снижать содержание фосфорилированной киназы 4-го типа, ассоциированной с рецептором к интерлейкину-1 (IRAK4), тем самым подавляя активность каспазы-3 [58]. В дальнейших исследованиях ученые выявили снижение экспрессии транскрипционных факторов NF-κB и STAT3 и содержания их фосфорилированных форм при воздействии аргон-кислородной смеси на культуру клеток нейробластомы человека [59]. Также показано, что аргон снижает экспрессию ряда провоспалительных факторов: IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α и iNOS [60]. Описаны также антиапоптотические свойства аргона: газ приводил к снижению экспрессии белка BAX, падению содержания расщепленной каспазы-3 и увеличению уровня экспрессии ингибитора апоптоза Bcl-2 [61, 62].
Ряд эффектов аргона, очевидно, нуждается в дополнительном изучении. Например, показано, что газ снижает количество фосфорилированной протеинкиназы B (Akt), которая вовлечена в сигнальные пути, связанные с выживанием клеток, что противоречит гипотезе о его цитопротекторном действии [62]. Помимо этого, существуют данные, что аргон приводит к уменьшению экспрессии белка теплового шока HSP-70 и гемоксигеназы-1, которая была повышена при воздействии ротенона – яда, нарушающего работу электронтранспортной цепи митохондрий. Данный эффект аргона относится к защитным, однако не снимается действием ингибитора TLR-2 и TLR-4, что говорит о наличии у аргона механизма нейропротекции, не связанного с действием через рецепторы врожденного иммунитета. Таким образом, механизмы физиологической активности аргона остаются не до конца ясными. В частности, отсутствуют данные о сайтах его связывания на белковых мишенях. Для поиска сайта связывания аргона можно проводить исследования с помощью ЯМР спектроскопии, а также рентгеноструктурного анализа, как, например, было показано для ксенона [63]. Также для визуализации взаимодействия аргона с Toll-подобными рецепторами еще пока не было проведено работ с использованием молекулярного моделирования по аналогии с описанием ксенона у Andrijchenko с соавт. [20].
Toll-подобные рецепторы играют значительную роль в формировании и функционировании нервной системы: в частности, они регулируют нейрогенез в гиппокампе как в период развития нервной системы, так и во взрослом мозге [64]. Показано, что мыши с нокаутом Toll-подобного рецептора 2 демонстрировали ухудшение когнитивных функций [65]. Помимо этого, Toll-подобные рецепторы играют значительную роль в нейровоспалении: например, провоспалительный каскад, опосредованный этими рецепторами, запускается при употреблении алкоголя, что в конечном итоге приводит к гибели клеток [66]. В связи с этим высокий интерес представляет потенциальная возможность аргона влиять на онтогенез центральной нервной системы и корректировать различные расстройства, вызванные цитотоксическим влиянием избыточного нейровоспаления и связанных с ним изменений поведенческого характера. В настоящее время наблюдается дефицит исследований свойств аргона в in vivo моделях поведенческих расстройств, спровоцированных нейроиммунной активацией. В свою очередь, работы на потомстве лабораторных животных, ставящие своей целью проследить динамику развития ЦНС на самых ранних этапах онтогенеза под влиянием аргона, отсутствуют вовсе. В настоящее время на биологическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова наша научная группа активно ведет подобные работы, результаты которых будут опубликованы в ближайшее время.
Помимо нейропротекторных свойств, ингаляции аргонсодержащими смесями способны оказывать органопротекторное действие. Пре- и посткондиционирование аргоном при моделировании полиорганной недостаточности привело к увеличению сердечного выброса у кроликов, а также к снижению креатинина в плазме крови. Таким образом, аргон обладает кардио- и ренопротекторными свойствами [67]. Ингаляция аргон-кислородной смесью при ишемии-реперфузии снизила смертность ганглионарных клеток сетчатки [58], а также волосковых клеток Кортиева органа [68].
В целом можно заключить, что аргон вызывает широкий спектр физиологических изменений, оказывая цитопротекторное действие в различных тканях. Несмотря на то, что исследователи пока не сошлись на единой картине механизмов действия данного газа, уже сейчас можно сказать, что аргон является многообещающим средством терапии и коррекции множества расстройств как нервной системы, так и иных систем органов.
ЭФФЕКТЫ ГЕЛИЯ
Значимая часть исследований эффектов гелия посвящена его органопротекторным свойствам. Показано, что газ способен оказывать пре- и посткондиционирующее действие, защищая ткани и органы от чрезмерной дегенерации. Одним из механизмов гелиевой нейропротекции может являться снижение концентрации внутриклеточного кальция, содержание которого возрастает в клетках при гипоксических ишемических повреждениях. Прекондиционирование гелием уменьшает кальциевую нагрузку за счет снижения содержания фосфорилированной формы рианодиновых рецепторов второго типа (p-RyR-2), а также подавляет экспрессию Са2+/кальмодулин-зависимой киназы 2-го типа и ряда белков, ассоциированных с некроптозом (RIPK-1, RIPK-3, p-MLKL) [69]. Некроптоз является одним из типов программируемой клеточной гибели, ключевую роль в котором занимают рецептор-связанные протеинкиназы 1 и 3 (RIPK-1, RIPK-3), а также псевдокиназа смешанного происхождения (MLKL) [70]. Инициируют процесс некроптоза рецепторы с доменами смерти, передавая сигнал рецептор-связанным протеинкиназам, которые опосредуют активирующее фосфорилирование MLKL. Фосфорилированные MLKL способны образовывать олигомер, образующий поры в цитоплазматической мембране и вызывающий некроптотическую гибель клеток. Известно, что повышенная кальциевая нагрузка приводит к активации Са2+/кальмодулин-зависимых киназ, которые вызывают активацию RIPK-1 [71].
Другим молекулярным механизмом действия гелия является его способность снижать окислительный стресс в нейронах [72]. Гелий увеличивает продукцию NO, что активирует транслокацию фактора транскрипции Nrf-2 в ядро. Nrf-2 является редокс-чувствительным транскрипционным фактором, сигнальный путь которого активирует антиоксидантный ответ клеток [73]. Дополнительно показано, что гелий снижает содержание провоспалительных белков (TNF-α и интерлейкина-1β) и повышает уровни интерлейкина-10, нейротрофического фактора мозга (BDNF), основного фактора роста фибробластов (bFGF) и фактора роста нервов (NGF), обеспечивая защиту нейронов от воспаления и апоптоза [74].
Гелий способен улучшать функциональное состояние эндотелия, что показано как на испытуемых добровольцах [75], так и на культурах эндотелиальных клеток [76]. Отмечено его влияние на содержание белков кавеолинов в разных тканях. Кавеолины являются компонентами, участвующими в формировании кавеол – впячиваний плазматической мембраны. Структурная организация кавеол позволяет клеткам осуществлять адаптацию к стрессу, регуляцию шаперонов и сигнальных белков [77]. Исследования показывают, что гелий приводит к динамическим изменениям содержания кавеолинов в эндотелии, мозге и сердце [78]. Газ способствует секреции кавеолина-1 из эндотелия, что стабилизирует мембраны и уменьшает проницаемость сосудов. При этом гелий способен увеличивать экспрессию кавеолинов-1 и -3 в сердце крыс, что позволяет использовать этот инертный газ как кардиопротективное средство [79]. Также гелий приводит к увеличению полимеризации F-актина у плазматической мембраны клеток венозного эндотелия и снижает его полимеризацию в артериальном эндотелии [76].
Кардиопротекторное действие гелия может быть снято ибериотоксином – блокатором митохондриальных кальций-чувствительных калиевых каналов [80]. Это позволяет сделать вывод о способности гелия активировать данный тип каналов, что подтверждается снижением индекса контроля дыхания (свидетельствует о рассопряжении процессов дыхания и окислительного фосфорилирования в митохондриях). Гелий предотвращает пермеабилизацию митохондриальных мембран в сердечной мышце – открытие так называемых пор переходной проницаемости, ассоциированных с апоптозом, что увеличивает выживаемость кардиомиоцитов [81]. Изучается также влияние гелия на фибробласты сердца. Несмотря на отсутствие изменений в экспрессии факторов активации фибробластов и уровне секреции внеклеточных везикул и растворимых факторов, гелий ускорил миграцию фибробластов в модели глюкозной депривации in vitro [82]. Однако в случае пациентов, перенесших аортокоронарное шунтирование, гелий не продемонстрировал кардиопротекторного эффекта: пре- и посткондиционирование не повлияло на содержание тропонина в крови и на активность протеинкиназы C-эпсилон, p38, ERK 1/2 и HSP27 [83].
Помимо позитивного влияния на выживаемость кардиомиоцитов при ишемии-реперфузии, гелий-кислородные смеси способны улучшать функциональное состояние дыхательной системы. Использование подобных ингаляций способствовало улучшению у пациентов с астмой таких спирометрических показателей, как объем форсированного выдоха за первую секунду и максимальная объемная скорость выдоха [84]. Также гелий снизил степень тяжести заболевания по шкале Вуда и частоту дыхательных движений при бронхоспазме [85]. При этом на состояние пациентов с хронической обструктивной болезнью легких ингаляции гелием не повлияли [86].
Проводились исследования влияния гелия на выживаемость нейронов зоны CA-1 гиппокампа при моделировании сердечного приступа у крыс. Однако результаты данных работ противоречивы: показано как наличие эффектов гелия на выраженность апоптоза [78], так и их отсутствие [87]. Предположительно, это может быть связано с различными способами моделирования сердечного приступа с последующей реанимацией, а также с различиями в методах оценки последствий моделирования инфаркта.
Физиологические эффекты гелия представляют большой интерес и являются наиболее парадоксальными, поскольку их специфика не соотносится со стандартной направленностью биологического действия инертных газов. Несмотря на широкий спектр цитопротекторных свойств, механизм молекулярного взаимодействия гелия с его мишенями остается до сих пор неясным. Наглядно показаны многие молекулярные посредники воздействия гелия на выживаемость клеток, однако неизвестны прямые причины их вовлеченности. Например, вызывает вопрос сходимость данных о снижении концентрации внутриклеточного кальция [69] и увеличении содержания NO в гомогенате ткани мозга [71]. Известно, что активность конститутивных NO-синтаз увеличивается в ответ на рост концентрации ионов кальция, а значит, при снижении кальциевой нагрузки следует ожидать, напротив, снижение NO [88]. При этом вызванное гелием увеличение NO в ткани мозга может быть обусловлено активацией любой из трех изоформ NO-синтазы (нейрональной, эндотелиальной или индуцибельной) и соответственно может регулироваться не только посредством изменения уровня кальция, но и на уровне экспрессии, что характерно для индуцибельной NO-синтазы. Вместе с тем повышение концентрации NO может быть связано и со снижением продукции активных форм кислорода, которые участвуют в окислительной инактивации NO. Таким образом, для прояснения картины необходимо продемонстрировать, взаимодействует ли гелий с какой-либо из изоформ NO-синтаз или с другими потенциальными регуляторами. Имеющаяся база литературных данных о физиологических эффектах гелия может служить хорошим фундаментом для дальнейших исследований в этой области.
ЭФФЕКТЫ РАДОНА
Радон является единственным радиоактивным представителем группы инертных газов, что накладывает определенные ограничения на изучение его физиологических эффектов. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, радон способен вызывать рак легких в 3–14% всех случаев в зависимости от его концентрации в атмосфере [https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/radon-and-health Дата обращения: 30.05.2024]. В то же время радиоактивность радона способствует его относительно широкому применению в физиотерапии.
Радон распределен в атмосфере неравномерно. Пики его концентрации сопряжены с местами эмиссии из урансодержащих горных пород. Радон легко диффундирует из почвы, накапливаясь как в шахтах, так и в жилых домах. Тот факт, что он аккумулируется в горных зонах и пещерах, привел к распространению лечебных курортов и санаториев, использующих радон в спелео- и бальнеотерапии. На базе таких санаториев фиксируется много данных о лечебных эффектах радона, однако двойные слепые плацебо-контролируемые исследования, конечно, не проводятся: для обеспечения всех требований надлежащей клинической практики (GCP) необходимо было бы создать пещеру без радона, полностью аналогичную имеющимся на территории курорта [89]. Вместе с тем существует ряд биомедицинских исследований последних лет, демонстрирующих широкий спектр влияний радона на организм.
Наиболее известный эффект радона – его анальгетическое действие. Исследования на пациентах показали, что радон является значимым обезболивающим средством при ревматоидном артрите, болезни Бехтерева (анкилозирующем спондилите), остеоартрите [90]. Среди потенциальных молекулярных механизмов, опосредующих данный феномен, показано участие трансформирующего фактора роста бета 1 (TGF-β1), β-эндорфина, адренокортикотропного гормона (АКТГ), а также ряда белков, ассоциированных с воспалением. Продемонстрировано, что радоновая спелеотерапия способствует снижению TGF-β1 у пациентов с болезнью Бехтерева [91]. При остеоартрите применение радоновых ингаляций приводило к острому увеличению концентрации β-эндорфина и отставленному увеличению концентрации β-эндорфина и АКТГ [92]. Несколько исследований посвящены способности радона снижать содержание в крови пациентов провоспалительных цитокинов TNF-α [93, 94] и IL-18 [95]. Влияние на иммунную систему происходит и на клеточном уровне. Газ подавляет воспаление за счет уменьшения числа нейтрофилов и Т-киллеров, а также увеличения активности эозинофилов, дендритных клеток, моноцитов и Т-регуляторных лимфоцитов (данные группы клеток принимают участие в восстановлении тканевого гомеостаза при хроническом воспалении) [96].
Улучшение состояния пациентов с хроническими заболеваниями опорно-двигательной системы связывают также со снижением интенсивности эрозии костей, опосредованном действием радона [97]. У пациентов после радоновой спелеотерапии зафиксировали уменьшение содержания фрагментов коллагена (CTX-I) в сыворотке крови, падение уровня гормона жировой ткани висфатина и увеличение количества Т-регуляторных клеток, что сигнализирует об ослаблении резорбции костной ткани. При этом действие радона на такие показатели целостности костной ткани, как уровень паратгормона в крови и отношение остеопротегерина к активатору рецептора ядерного фактора κB (OPG/RANKL), не отличалось от действия безрадоновых ванн [98].
Существуют сообщения о благоприятном влиянии радоновой спелеотерапии на состояние сердечно-сосудистой системы [99]. Радон снижал вариабельность сердечного ритма и при совместном действии с углекислым газом приводил к снижению артериального давления. Зафиксировано также увеличение содержания предсердного натрийуретического пептида и снижение содержания вазопрессина [91]. Эти эффекты потенциально могут быть связанными с гипотензивными свойствами радона.
К позитивным эффектам радона относят и его косвенную антиоксидантную активность: показано, что газ активирует супероксиддисмутазу и каталазу, которые предотвращают перекисное окисление липидов в клетках при окислительном стрессе [100].
Можно заключить, что знания о физиологической активности радона весьма разнообразны, но фрагментарны. Остается неясным, какие рецепторные механизмы и сигнальные каскады лежат в основе изменений в иммунно-эндокринной регуляции и связаны ли эти изменения между собой. Также непонятно, являются ли наблюдаемые эффекты результатом действия непосредственно атомов радона или же радиоактивного облучения. Очевидно, что необходимо проводить больше фундаментальных исследований в этой области, в частности, на лабораторных животных. На данный момент существует несколько таких работ, подтверждающих антиоксидантную активность радона в модели гепатопатии на грызунах [101], а также в мозге интактных животных [102]. Однако дизайн этих экспериментов никак не соотносится с использованием радона при лечении пациентов, и еще не было проведено исследований на лабораторных моделях ревматоидного артрита in vivo. Именно эти ограничения важно преодолеть в будущих работах.
ЭФФЕКТЫ КРИПТОНА
Количество публикаций исследований терапевтических свойств криптон-кислородных ингаляций в рецензируемых журналах крайне мало, а имеющиеся результаты характеризуются повышенной неоднородностью. Газ криптон при разном давлении для разных видов животных может вызывать обездвиживание (20–30 атм. для тигровой планарии Girardia tigrina, 18–20 атм. для плодовых мушек Drosophila melanogaster) или анестезию (14–16 атм. для иглистых тритонов Pleurodeles walti, 5–5.5 атм. для японских перепелов Coturnix coturnix japonica и 3–3.5 атм. для человека) [103, 104]. Инкубация крыс в криптон-воздушной среде при высоком давлении приводит к повышению содержания кортизола и прогестерона в крови, снижению общего тироксина, тестостерона, глюкозы и мочевины. Также отмечены спектральные изменения в ЭЭГ человека: при дыхании в нормобарических условиях падение мощности α-, Δ- и θ-волн и увеличение β-волн; при дыхании криптон-кислородной смесью в условиях 2.9 атм. снижение в α- и β-диапазонах и рост Δ- и θ-составляющих, что свидетельствует о переходе испытуемых в наркоз.
В модели фотоиндуцированного инсульта криптон оказал отставленный нейропротективный эффект, улучшив неврологический статус крыс [105]. Ингаляции криптон-кислородной смесью в данном исследовании привели к уменьшению зоны пенумбры и апоптоза нейронов, снизили количество активных клеток микроглии в зоне некроза и активировали неоангиогенез. Выявлено, что механизм нейропротективного действия криптона связан с увеличением содержания фосфорилированной протеинкиназы B и киназы гликогенсинтазы-3β, а также с повышением экспрессии Nrf-2 и снижением экспрессии ядерного фактора NF-κB, ответственного, в частности, за апоптоз. Ингибиторное фосфорилирование киназы гликогенсинтазы-3β предотвращает повышение проницаемости митохондрий, приводящее к их дисфункции и клеточной гибели вследствие окислительного стресса.
Вопрос о наличии у криптона физиологических эффектов является наиболее спорным. Наблюдается крайне высокая нехватка публикаций в рецензируемых научных изданиях. Результаты, полученные в работе Antonova с соавт., являются многообещающими, но нуждаются в воспроизведении другими коллективами. При этом большинство отчетов и тезисов, найденных в процессе анализа литературы о криптоне, не относятся к рецензируемым источникам. Они заявляют о наличии у криптона целебных свойств, однако характеризуются крайне высоким разнообразием протоколов проведения экспериментов и интерпретации данных, в связи с чем, к сожалению, не вызывают доверия. В результате представляется сложным сделать какую-либо объективную оценку сходимости и достоверности данных разных авторов. В связи с этим в дальнейших исследованиях требуется осуществлять более глубокий и комплексный подход к выявлению и анализу свойств криптона. В перспективе следует провести полноценный скрининг криптона на предмет наличия всех типов фармакологической активности с использованием тест-систем как на клеточных культурах, так и in vivo. Таким образом, криптон представляет собой неизученную, но крайне перспективную область для физиологических и фармакологических исследований.
ЭФФЕКТЫ НЕОНА
Среди прочих инертных газов неон демонстрирует минимум или же полное отсутствие собственных физиологических эффектов в нормобарических условиях. Согласно гипотезе Мейера – Овертона, для создания анестетического эффекта с помощью неона необходимо крайне высокое давление (80–90 атм.). Однако подобная гипербарическая аппликация имеет проконвульсантный эффект, вызывая неврологический синдром высокого давления, включающий тремор, миоклонии, дисметрии и прочие двигательные нарушения [3]. Изучение взаимодействия атомов неона с биологическими мембранами показало, что в присутствии газа при высоком давлении (до 100 бар) наблюдается нарушение равномерности расположения молекул фосфолипидов в бислое. Также неон, благодаря своим размерам и массе, обладает повышенной диффузионной способностью. Это свойство позволяет ему свободно мигрировать в мембране и повышать мобильность фосфолипидов, что делает структуру мембраны менее плотной и упорядоченной. Предполагается, что причиной проявления неврологических нарушений является возникновение так называемых «шумов» в целостности мембранных структур, нарушение взаимосвязи между мембраной и встроенными в нее белковыми комплексами [5].
Что касается связывания атомов инертных газов с белковыми молекулами, то и в этом случае размер и масса атома играют решающую роль. Существует гипотеза, что более легкие представители группы инертных газов (гелий и неон) обладают слишком низкой энергией связывания с белками и, следовательно, неспособны оказывать анестетический эффект [106]. В базе данных RCSB (Research Collaboratory for Structural Biology) на настоящий момент отсутствует упоминание каких-либо белковых структур, с которыми взаимодействует неон (https://www.rcsb.org/; дата обращения 29.05.2024). Впрочем, как было сказано выше, гелий, несмотря на его малые размеры, способен модулировать активность множества рецепторов, транскрипционных факторов и провоспалительных белков. Следовательно, известные гипотезы неточно прогнозируют физиологический потенциал инертных газов. Хотя на данный момент нет засвидетельствованных эффектов неона, нельзя с уверенностью заявлять об абсолютном отсутствии у него биологической активности. Впрочем, возможно, что неон окажется единственным истинно инертным газом в своей группе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время поиск новых нейро- и органопротекторных факторов является крайне актуальной задачей фундаментальной физиологии и практической медицины. В связи с этим представление о наличии у инертных газов терапевтических свойств, безусловно, вызывает живой интерес в научном и медицинском сообществе. Открытие явной физиологической активности ксенона закономерно привело к изучению других веществ данной группы. Не последнюю роль играют экономические и технические сложности в повсеместном использовании ксенона, заинтересованность в поиске его более дешевых аналогов. Благодаря этому на текущий момент известно, что почти все остальные инертные газы в той или иной мере проявляют биологическую активность (рис. 1). Так, гелий проявляет цитопротекторные свойства, снижая активность некроптоза и окислительного стресса в сердце и мозге, аргон известен своим противовоспалительным и антиапоптотическим действием в различных тканях, а радон – анальгетическим.
Рис. 1. Эффекты инертных газов, выявленные в экспериментальных работах.
Однако несмотря на растущее количество исследований, посвященных данной проблеме, до сих пор наблюдается существенный разрыв между знаниями о физиологических эффектах инертных газов и механизмах их действия. Так, имеется множество данных о влиянии радона, ксенона, аргона и гелия на метаболические каскады, обуславливающие выживание клеток в различных тканях, но при этом только для ксенона описаны молекулярные мишени, инициирующие запуск физиологических изменений. Помимо этого, наблюдается явный дефицит исследований интегративных (поведенческих, нейроиммуноэндокринных) эффектов инертных газов. Неон и криптон, в свою очередь, представляют собой практически абсолютно неизведанную область в физиологии и фармакологии.
В целом можно заключить, что наличие у инертных газов значительного цитопротекторного потенциала делает их многообещающим объектом для дальнейших доклинических и клинических испытаний, направленных на расширение медицинских показаний к их применению. Вместе с тем работы, нацеленные на изучение инертных газов, являются плодотворной почвой для роста фундаментальных знаний о принципах их действия на человеческий организм, его органы, ткани, клетки.
ВКЛАДЫ АВТОРОВ
Идея работы, обсуждение и редактирование манускрипта (Н. Ю. С. и В. А. Д.), сбор и анализ данных литературы, написание манускрипта (И. А. К. и С. Д. С.).
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Данная работа финансировалась за счет средств бюджета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
В данной работе отсутствуют исследования человека или животных.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
About the authors
I. А. Kabiolskiy
Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: ilyakab1999@gmail.com
Russian Federation, Moscow
S. D. Simonenko
Lomonosov Moscow State University
Email: ilyakab1999@gmail.com
Russian Federation, Moscow
N. U. Sarycheva
Lomonosov Moscow State University
Email: ilyakab1999@gmail.com
Russian Federation, Moscow
V. А. Dubynin
Lomonosov Moscow State University
Email: ilyakab1999@gmail.com
Russian Federation, Moscow
References
- Lazarev NV, Lyublina YI, Madorskaya RY (1948) Narcotic action of xenon. Fiziol Zh SSSR 34: 131–134.
- Lawrence JH, Loomis WF, Tobias CA, Turpin FH (1946) Preliminary observations on the narcotic effect of xenon with a review of values for solubilities of gases in water and oils. J Physiol 105(3): 197. https://doi.org/10.1113/jphysiol.1946.sp004164
- Koblin DD, Fang Z, Eger EI, Laster MJ, Gong D, Ionescu P, Halsey MJ, Trudell JR (1998) Minimum alveolar concentrations of noble gases, nitrogen, and sulfur hexafluoride in rats: helium and neon as nonimmobilizers (nonanesthetics). Anesthesia & Analgesia 87(2): 419–424. https://doi.org/10.1097/00000539-199808000-00035
- Rostain JC, Balon N (2006) Recent neurochemical basis of inert gas narcosis and pressure effects. Undersea Hyperbar Med 33(3): 197.
- Moskovitz Y, Yang H (2015) Modelling of noble anaesthetic gases and high hydrostatic pressure effects in lipid bilayers. Soft Matter 11(11): 2125–2138. https://doi.org/10.1039/c4sm02667e
- Prangé T, Schiltz M, Pernot L, Colloc'h N, Longhi S, Bourguet W, Fourme R (1998) Exploring hydrophobic sites in proteins with xenon or krypton. Proteins: Struct Funct Bioinform 30(1): 61–73.
- Winkler DA, Katz I, Farjot G, Warden AC, Thornton AW (2018) Decoding the Rich Biological Properties of Noble Gases: How Well Can We Predict Noble Gas Binding to Diverse Proteins? ChemMedChem 13(18): 1931–1938. https://doi.org/10.1002/cmdc.201800434
- Wiebelhaus N, Singh N, Zhang P, Craig SL, Beratan DN, Fitzgerald MC (2022) Discovery of the xenon–protein interactome using large-scale measurements of protein folding and stability. J Am Chem Soc 144(9): 3925–3938. https://doi.org/10.1021/jacs.1c11900
- Winkler DA, Thornton A, Farjot G, Katz I (2016) The diverse biological properties of the chemically inert noble gases. Pharmacol Therap 160: 44–64. https://doi.org/10.1016/j.pharmthera
- Лазарев НВ (1941) Биологическое действие газов под давлением. Л.; Медицина. [Lazarev NV (1941) Biological effect of gases under pressure. L. Medicina. (In Russ)].
- Nakata Y, Goto T, Ishiguro Y, Terui K, Kawakami H, Santo M, Niimi Y, Morita S (2001) Minimum alveolar concentration (MAC) of xenon with sevoflurane in humans. J Am Soc Anesthesiol 94(4): 611–614. https://doi.org/10.1097/00000542-200104000-00014
- Pelentritou A, Kuhlmann L, Cormack J, Woods W, Sleigh J, Liley D (2018) Recording brain electromagnetic activity during the administration of the gaseous anesthetic agents xenon and nitrous oxide in healthy volunteers. J Visual Exp 131: e56881. https://doi.org/10.3791/56881
- Sarasso S, Boly M, Napolitani M, Gosseries O, Charland-Verville V, Casarotto S, Rosanova M, Casali AG, Brichant JF, Boveroux P, Rex S, Tononi G, Laureys S, Massimini M (2015). Consciousness and complexity during unresponsiveness induced by propofol, xenon, and ketamine. Current Biol 25(23): 3099–3105. https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.10.014
- McGuigan S, Evered L, Scott DA, Silbert B, Zetterberg H, Blennow K (2022) Comparing the effect of xenon and sevoflurane anesthesia on postoperative neural injury biomarkers: a randomized controlled trial. Med Gas Res 12(1): 10–17. https://doi.org/10.4103/2045-9912.324591
- Yang S, Gu C, Mandeville ET, Dong Y, Esposito E, Zhang Y, Yang G, Shen Y, Fu X, Lo EH, Xie Z (2017) Anesthesia and Surgery Impair Blood-Brain Barrier and Cognitive Function in Mice. Front Immunol 8: 902. https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.00902
- Nair AS, Christopher A, Pulipaka SK, Suvvari P, Kodisharapu PK, Rayani BK (2021) Efficacy of xenon anesthesia in preventing postoperative cognitive dysfunction after cardiac and major non-cardiac surgeries in elderly patients: a topical review. Med Gas Res 11(3): 110–113. https://doi.org/10.4103/2045-9912.314330
- Suzuki T, Koyama H, Sugimoto M, Uchida I, Mashimo T (2002) The diverse actions of volatile and gaseous anesthetics on human-cloned 5-hydroxytryptamine3 receptors expressed in Xenopus oocytes. Anesthesiology 96(3): 699–704. https://doi.org/10.1097/00000542-200203000-00028
- Franks NP, Dickinson R, de Sousa SL, Hall AC, Lieb WR (1998) How does xenon produce anaesthesia? Nature 396(6709): 324. https://doi.org/10.1038/24525
- Dickinson R, Peterson BK, Banks P, Simillis C, Martin JC, Valenzuela CA, Maze M, Franks NP (2007) Competitive inhibition at the glycine site of the N-methyl-D-aspartate receptor by the anesthetics xenon and isoflurane: evidence from molecular modeling and electrophysiology. Anesthesiology 107(5): 756–767. https://doi.org/10.1097/01.anes.0000287061.77674.71
- Andrijchenko NN, Ermilov AY, Khriachtchev L, Räsänen M, Nemukhin AV (2015) Toward molecular mechanism of xenon anesthesia: a link to studies of xenon complexes with small aromatic molecules. J Phys Chem 119(11): 2517–2521. https://doi.org/10.1021/jp508800k
- Sanejouand YH (2022) At least three xenon binding sites in the glycine binding domain of the N-methyl D-aspartate receptor. Archiv Biochem Biophys 724: 109265. https://doi.org/10.1016/j.abb.2022.109265
- Armstrong SP, Banks PJ, McKitrick TJ, Geldart CH, Edge CJ, Babla R, Simillis C, Franks NP, Dickinson R (2012) Identification of two mutations (F758W and F758Y) in the N-methyl-D-aspartate receptor glycine-binding site that selectively prevent competitive inhibition by xenon without affecting glycine binding. Anesthesiology 117(1): 38–47. https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e31825ada2e
- Haseneder R, Kratzer S, Kochs E, Eckle VS, Zieglgänsberger W, Rammes G (2008) Xenon reduces N-methyl-D-aspartate and alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor-mediated synaptic transmission in the amygdala. Anesthesiology 109(6): 998–1006. https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e31818d6aee
- Nonaka K, Kotani N, Akaike H, Shin MC, Yamaga T, Nagam H, Akaike N (2019) Xenon modulates synaptic transmission to rat hippocampal CA3 neurons at both pre- and postsynaptic sites. J Physiol 597(24): 5915–5933. https://doi.org/10.1113/JP278762
- Yamakura T, Harris RA (2000) Effects of gaseous anesthetics nitrous oxide and xenon on ligand-gated ion channels. Comparison with isoflurane and ethanol. Anesthesiology 93(4): 1095–1101. https://doi.org/10.1097/00000542-200010000-00034
- Franks JJ, Horn JL, Janicki PK, Singh G (1995) Halothane, isoflurane, xenon, and nitrous oxide inhibit calcium ATPase pump activity in rat brain synaptic plasma membranes. Anesthesiology 82(1): 108–117. https://doi.org/10.1097/00000542-199501000-00015
- Franks JJ, Wamil AW, Janicki PK, Horn JL, Franks WT, Janson VE, Vanaman TC, Brandt PC (1998) Anesthetic-induced alteration of Ca2+ homeostasis in neural cells: a temperature-sensitive process that is enhanced by blockade of plasma membrane Ca2+ATPase isoforms. Anesthesiology 89(1): 149–164. https://doi.org/10.1097/00000542-199807000-00022
- Kratzer S, Mattusch C, Kochs E, Eder M, Haseneder R, Rammes G (2012) Xenon attenuates hippocampal long-term potentiation by diminishing synaptic and extrasynaptic N-methyl-D-aspartate receptor currents. Anesthesiology 116(3): 673–682. https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3182475d66
- Alam A, Suen KC, Hana Z, Sanders RD, Maze M, Ma D (2017) Neuroprotection and neurotoxicity in the developing brain: an update on the effects of dexmedetomidine and xenon. Neurotoxicol Teratol 60: 102–116. https://doi.org/10.1016/j.ntt.2017.01.001
- Harris K, Armstrong SP, Campos-Pires R, Kiru L, Franks NP, Dickinson R (2013) Neuroprotection against traumatic brain injury by xenon, but not argon, is mediated by inhibition at the N-methyl-D-aspartate receptor glycine site. Anesthesiology 119(5): 1137–1148. https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3182a2a265
- Koziakova M, Harris K, Edge CJ, Franks NP, White IL, Dickinson R (2019) Noble gas neuroprotection: xenon and argon protect against hypoxic-ischaemic injury in rat hippocampus in vitro via distinct mechanisms. Br J Anaesthesia 123(5): 601–609. https://doi.org/10.1016/j.bja.2019.07.010
- Campos-Pires R, Hirnet T, Valeo F, Ong BE, Radyushkin K, Aldhoun J, Saville J, Edge CJ, Franks NP, Thal SC, Dickinson R (2019) Xenon improves long-term cognitive function, reduces neuronal loss and chronic neuroinflammation, and improves survival after traumatic brain injury in mice. Br J Anaesthesia 123(1): 60–73. https://doi.org/10.1016/j.bja.2019.02.032
- Lavaur J, Lemaire M, Pype J, Le Nogue D, Hirsch EC, Michel PP (2016) Xenon-mediated neuroprotection in response to sustained, low-level excitotoxic stress. Cell Death Discov 2: 16018. https://doi.org/10.1038/cddiscovery.2016.18
- Cheng Y, Zhai Y, Yuan Y, Li H, Zhao W, Fan Z, Zhou L, Gao X, Zhan Y, Sun H (2023) Xenon inhalation attenuates neuronal injury and prevents epilepsy in febrile seizure Sprague-Dawley pups. Front Cell Neurosci 17: 1155303. https://doi.org/10.3389/fncel.2023.1155303
- Azzopardi D, Robertson NJ, Kapetanakis A, Griffiths J, Rennie JM, Mathieson SR, Edwards AD (2013) Anticonvulsant effect of xenon on neonatal asphyxial seizures. Archives of disease in childhood. Fetal Neonatal Edit 98(5): F437–F439. https://doi.org/10.1136/archdischild-2013-303786
- Kaufman MJ, Meloni EG, Qrareya AN, Paronis CA, Bogin V (2024) Effects of inhaled low-concentration xenon gas on naltrexone-precipitated withdrawal symptoms in morphine-dependent mice. Drug Alcohol Depend 255: 110967. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2023.110967
- Vengeliene V, Bessiere B, Pype J, Spanagel R (2014) The effects of xenon and nitrous oxide gases on alcohol relapse. Alcoholism, Clin Exp Res 38(2): 557–563. https://doi.org/10.1111/acer.12264
- Dobrovolsky A, Ichim TE, Ma D, Kesari S, Bogin V (2017) Xenon in the treatment of panic disorder: an open label study. J Translat Med 15(1): 137. https://doi.org/10.1186/s12967-017-1237-1
- Shao J, Meng L, Yang Z, Yu P, Song L, Gao Y, Gong M, Meng C, Shi H (2020) Xenon produces rapid antidepressant- and anxiolytic-like effects in lipopolysaccharide-induced depression mice model. Neuroreport 31(5): 387–393. https://doi.org/10.1097/WNR.0000000000001415
- Meloni EG, Gillis TE, Manoukian J, Kaufman MJ (2014) Xenon impairs reconsolidation of fear memories in a rat model of post-traumatic stress disorder (PTSD). PLoS One 9(8): e106189. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0106189
- Dobrovolsky AP, Gedzun VR, Bogin VI, Ma D, Ichim TE, Sukhanova IA, Malyshev AV, Dubynin VA (2019) Beneficial effects of xenon inhalation on behavioral changes in a valproic acid-induced model of autism in rats. J Translat Med 17(1): 400. https://doi.org/10.1186/s12967-019-02161-6
- Weber NC, Toma O, Wolter JI, Obal D, Müllenheim J, Preckel B, Schlack W (2005) The noble gas xenon induces pharmacological preconditioning in the rat heart in vivo via induction of PKC-epsilon and p38 MAPK. Br J Pharmacol 144(1): 123–132. https://doi.org/10.1038/sj.bjp.0706063
- Arola O, Saraste A, Laitio R, Airaksinen J, Hynninen M, Bäcklund M, Ylikoski E, Wennervirta J, Pietilä M, Roine RO, Harjola VP, Niiranen J, Korpi K, Varpula M, Scheinin H, Maze M, Vahlberg T, Laitio T, Xe-HYPOTHECA Study Group (2017) Inhaled Xenon Attenuates Myocardial Damage in Comatose Survivors of Out-of-Hospital Cardiac Arrest: The Xe-Hypotheca Trial. J Am Colleg Cardiol 70(21): 2652–2660. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.09.1088
- Saraste A, Ballo H, Arola O, Laitio R, Airaksinen J, Hynninen M, Bäcklund M, Ylikoski E, Wennervirta J, Pietilä M, Roine RO, Harjola VP, Niiranen J, Korpi K, Varpula M, Scheinin H, Maze M, Vahlberg T, Laitio T (2021) Effect of Inhaled Xenon on Cardiac Function in Comatose Survivors of Out-of-Hospital Cardiac Arrest-A Substudy of the Xenon in Combination With Hypothermia After Cardiac Arrest Trial. Crit Care Explor 3(8): e0502. https://doi.org/10.1097/CCE.0000000000000502
- Rizvi M, Jawad N, Li Y, Vizcaychipi MP, Maze M, Ma D (2010) Effect of noble gases on oxygen and glucose deprived injury in human tubular kidney cells. Exp Biol Med (Maywood, NJ) 235(7): 886–891. https://doi.org/10.1258/ebm.2010.009366
- Semenza GL (2012) Hypoxia-inducible factors in physiology and medicine. Cell 148(3): 399–408. https://doi.org/10.1016/j.cell.2012.01.021
- Stoppe C, Coburn M, Fahlenkamp A, Ney J, Kraemer S, Rossaint R, Goetzenich A (2015) Elevated serum concentrations of erythropoietin after xenon anaesthesia in cardiac surgery: secondary analysis of a randomized controlled trial. Br J Anaesth 114(4): 701–703. https://doi.org/10.1093/bja/aev060
- Dias KA, Lawley JS, Gatterer H, Howden EJ, Sarma S, Cornwell WK 3rd, Hearon CM Jr, Samels M, Everding B, Liang AS, Hendrix M, Piper T, Thevis M, Bruick RK, Levine BD (2019) Effect of acute and chronic xenon inhalation on erythropoietin, hematological parameters, and athletic performance. J Appl Physiol (Bethesda, Md. 1985) 127(6): 1503–1510. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00289.2019
- Jawad N, Rizvi M, Gu J, Adeyi O, Tao G, Maze M, Ma D (2009) Neuroprotection (and lack of neuroprotection) afforded by a series of noble gases in an in vitro model of neuronal injury. Neurosci Lett 460(3): 232–236. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2009.05.069
- David HN, Haelewyn B, Degoulet M, Colomb DG Jr, Risso JJ, Abraini JH (2012) Ex vivo and in vivo neuroprotection induced by argon when given after an excitotoxic or ischemic insult. PloS One 7(2): e30934. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0030934
- Zhao H, Mitchel S, Ciechanowicz S, Savage S, Wang T, Ji X, Ma D (2016) Argon protects against hypoxic-ischemic brain injury in neonatal rats through activation of nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2. Oncotarget 7(18): 25640–25651. https://doi.org/10.18632/oncotarget.8241
- Loetscher PD, Rossaint J, Rossaint R, Weis J, Fries M, Fahlenkamp A, Ryang YM, Grottke O, Coburn M (2009) Argon: neuroprotection in in vitro models of cerebral ischemia and traumatic brain injury. Crit Care (London, England) 13(6): R206. https://doi.org/10.1186/cc8214
- Ryang YM, Fahlenkamp AV, Rossaint R, Wesp D, Loetscher PD, Beyer C, Coburn M (2011) Neuroprotective effects of argon in an in vivo model of transient middle cerebral artery occlusion in rats. Crit Care Med 39(6): 1448–1453. https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e31821209be
- Fahlenkamp AV, Coburn M, de Prada A, Gereitzig N, Beyer C, Haase H, Rossaint R, Gempt J, Ryang YM (2014) Expression analysis following argon treatment in an in vivo model of transient middle cerebral artery occlusion in rats. Med Gas Res 4: 11. https://doi.org/10.1186/2045-9912-4-11
- Zhuang L, Yang T, Zhao H, Fidalgo AR, Vizcaychipi MP, Sanders RD, Yu B, Takata M, Johnson MR, Ma D (2012) The protective profile of argon, helium, and xenon in a model of neonatal asphyxia in rats. Crit Care Med 40(6): 1724–1730. https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e3182452164
- Höllig A, Weinandy A, Liu J, Clusmann H, Rossaint R, Coburn M (2016) Beneficial Properties of Argon After Experimental Subarachnoid Hemorrhage: Early Treatment Reduces Mortality and Influences Hippocampal Protein Expression. Crit Care Med 44(7): e520–e529. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000001561
- Antonova VV, Silachev DN, Ryzhkov IA, Lapin KN, Kalabushev SN, Ostrova IV, Varnakova LA, Grebenchikov OA (2022) Three-Hour Argon Inhalation Has No Neuroprotective Effect after Open Traumatic Brain Injury in Rats. Brain Sci 12(7): 920. https://doi.org/10.3390/brainsci12070920
- Ulbrich F, Kaufmann K, Roesslein M, Wellner F, Auwärter V, Kempf J, Loop T, Buerkle H, Goebel U (2015) Argon Mediates Anti-Apoptotic Signaling and Neuroprotection via Inhibition of Toll-Like Receptor 2 and 4. PloS One 10(12): e0143887. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0143887
- Ulbrich F, Lerach T, Biermann J, Kaufmann KB, Lagreze WA, Buerkle H, Loop T, Goebel U (2016) Argon mediates protection by interleukin-8 suppression via a TLR2/TLR4/STAT3/NF-κB pathway in a model of apoptosis in neuroblastoma cells in vitro and following ischemia-reperfusion injury in rat retina in vivo. J Neurochem 138(6): 859–873. https://doi.org/10.1111/jnc.13662
- Goebel U, Scheid S, Spassov S, Schallner N, Wollborn J, Buerkle H, Ulbrich F (2021) Argon reduces microglial activation and inflammatory cytokine expression in retinal ischemia/reperfusion injury. Neural Regener Res 16(1): 192–198. https://doi.org/10.4103/1673-5374.290098
- Ulbrich F, Schallner N, Coburn M, Loop T, Lagrèze WA, Biermann J, Goebel U (2014) Argon inhalation attenuates retinal apoptosis after ischemia/reperfusion injury in a time- and dose-dependent manner in rats. PloS One 9(12): e115984. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115984
- Scheid S, Lejarre A, Wollborn J, Buerkle H, Goebel U, Ulbrich F (2023) Argon preconditioning protects neuronal cells with a Toll-like receptor-mediated effect. Neural Regener Res 18(6): 1371–1377. https://doi.org/10.4103/1673-5374.355978
- Rubin SM, Lee SY, Ruiz EJ, Pines A, Wemmer DE (2002) Detection and characterization of xenon-binding sites in proteins by 129Xe NMR spectroscopy. J Mol Biol 322(2): 425–440. https://doi.org/10.1016/s0022-2836(02)00739-8
- Squillace S, Salvemini D (2022) Toll-like receptor-mediated neuroinflammation: relevance for cognitive dysfunctions. Trends Pharmacol Sci 43(9): 726–739. https://doi.org/10.1016/j.tips.2022.05.004
- Hu Y, Sun X, Wang S, Zhou C, Lin L, Ding X, Han J, Zhou Y, Jin G, Wang Y, Zhang W, Shi H, Zhang Z, Yang X, Hua F (2021) Toll-like receptor-2 gene knockout results in neurobehavioral dysfunctions and multiple brain structural and functional abnormalities in mice. Brain Behav Immun 91: 257–266. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.10.004
- Airapetov MI, Eresko SO, Lebedev AA, Bychkov ER, Shabanov PD (2020) Involvement of TOLL-like receptors in the neuroimmunology of alcoholism. Biomed Khim 66(3): 208–215. https://doi.org/10.18097/PBMC20206603208
- De Deken J, Rex S, Lerut E, Martinet W, Monbaliu D, Pirenne J, Jochmans I (2018) Postconditioning effects of argon or xenon on early graft function in a porcine model of kidney autotransplantation. Br J Surgery 105(8): 1051–1060. https://doi.org/10.1002/bjs.10796
- Yarin YM, Amarjargal N, Fuchs J, Haupt H, Mazurek B, Morozova SV, Gross J (2005) Argon protects hypoxia-, cisplatin- and gentamycin-exposed hair cells in the newborn rat's organ of Corti. Hearing Res 201(1-2): 1–9. https://doi.org/10.1016/j.heares.2004.09.015
- Zhong W, Cheng J, Yang X, Liu W, Li Y (2023) Heliox Preconditioning Exerts Neuroprotective Effects on Neonatal Ischemia/Hypoxia Injury by Inhibiting Necroptosis Induced by Ca2+ Elevation. Translat Stroke Res 14(3): 409–424. https://doi.org/10.1007/s12975-022-01021-8
- Yan J, Wan P, Choksi S, Liu ZG (2022) Necroptosis and tumor progression. Trends Cancer 8(1): 21–27. https://doi.org/10.1016/j.trecan.2021.09.003
- Nomura M, Ueno A, Saga K, Fukuzawa M, Kaneda Y (2014) Accumulation of cytosolic calcium induces necroptotic cell death in human neuroblastoma. Cancer Res 74(4): 1056–1066. https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-13-1283
- Li Y, Liu K, Kang ZM, Sun XJ, Liu WW, Mao YF (2016) Helium preconditioning protects against neonatal hypoxia-ischemia via nitric oxide mediated up-regulation of antioxidases in a rat model. Behav Brain Res 300: 31–37. https://doi.org/10.1016/j.bbr.2015.12.001
- Saha S, Buttari B, Panieri E, Profumo E, Saso L (2020) An Overview of Nrf2 Signaling Pathway and Its Role in Inflammation. Molecules (Basel, Switzerland) 25(22): 5474. https://doi.org/10.3390/molecules25225474
- Li Y, Zhang P, Liu Y, Liu W, Yin N (2016) Helium preconditioning protects the brain against hypoxia/ischemia injury via improving the neurovascular niche in a neonatal rat model. Behav Brain Res 314: 165–172. https://doi.org/10.1016/j.bbr.2016.08.015
- Smit KF, Oei GTML, Brevoord D, Stroes ES, Nieuwland R, Schlack WS, Hollmann MW, Weber NC, Preckel B (2013) Helium induces preconditioning in human endothelium in vivo. Anesthesiology 118(1): 95–104. https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3182751300
- Smit KF, Konkel M, Kerindongo R, Landau MA, Zuurbier CJ, Hollmann MW, Preckel B, Nieuwland R, Albrecht M, Weber NC (2018) Helium alters the cytoskeleton and decreases permeability in endothelial cells cultured in vitro through a pathway involving Caveolin-1. Scient Rep 8(1): 4768. https://doi.org/10.1038/s41598-018-23030-0
- Weber NC, Preckel B (2019) Gaseous mediators: an updated review on the effects of helium beyond blowing up balloons. Intens Care Med Exp 7(1): 73. https://doi.org/10.1186/s40635-019-0288-4
- Aehling C, Weber NC, Zuurbier CJ, Preckel B, Galmbacher R, Stefan K, Hollmann MW, Popp E, Knapp J (2018) Effects of combined helium pre/post-conditioning on the brain and heart in a rat resuscitation model. Acta Anaesthesiol Scandinav 62(1): 63–74. https://doi.org/10.1111/aas.13041
- Flick M, Albrecht M, Oei GTML, Steenstra R, Kerindongo RP, Zuurbier CJ, Patel HH, Hollmann MW, Preckel B, Weber NC (2016) Helium postconditioning regulates expression of caveolin-1 and -3 and induces RISK pathway activation after ischaemia/reperfusion in cardiac tissue of rats. Eur J Pharmacol 791: 718–725. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2016.10.012
- Heinen A, Huhn R, Smeele KM, Zuurbier CJ, Schlack W, Preckel B, Weber NC, Hollmann MW (2008) Helium-induced preconditioning in young and old rat heart: impact of mitochondrial Ca(2+)-sensitive potassium channel activation. Anesthesiology 109(5): 830–836. https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3181895aa0
- Pagel PS, Krolikowski JG, Shim YH, Venkatapuram S, Kersten JR, Weihrauch D, Warltier DC, Pratt PF Jr (2007) Noble gases without anesthetic properties protect myocardium against infarction by activating prosurvival signaling kinases and inhibiting mitochondrial permeability transition in vivo. Anesthesia and Analgesia 105(3): 562–569. https://doi.org/10.1213/01.ane.0000278083.31991.36
- Jelemenský M, Kovácsházi C, Ferenczyová K, Hofbauerová M, Kiss B, Pállinger É, Kittel Á, Sayour VN, Görbe A, Pelyhe C, Hambalkó S, Kindernay L, Barančík M, Ferdinandy P, Barteková M, Giricz Z (2021) Helium Conditioning Increases Cardiac Fibroblast Migration Which Effect Is Not Propagated via Soluble Factors or Extracellular Vesicles. Int J Mol Sci 22(19): 10504. https://doi.org/10.3390/ijms221910504
- Smit KF, Brevoord D, De Hert S, de Mol BA, Kerindongo RP, van Dieren S, Schlack WS, Hollmann MW, Weber NC, Preckel B (2016) Effect of helium pre- or postconditioning on signal transduction kinases in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. J Transl Med 14(1): 294. https://doi.org/10.1186/s12967-016-1045-z
- Motamed H, Forouzan A, Masoumi K, Sajadi R (2022) The effect of albuterol with heliox versus albuterol nebulization in acute asthma exacerbation: a randomized controlled clinical trial. Advanc Respirat Med 90(1): 86–93. https://doi.org/10.5603/ARM.a2022.0009
- Nascimento MS, Santos É, Prado CD (2018) Helium-oxygen mixture: clinical applicability in an intensive care unit. Einstein (Sao Paulo, Brazil) 16(4): eAO4199. https://doi.org/10.31744/einstein_journal/2018AO4199
- Collins EG, Jelinek C, O'Connell S, Butler J, McBurney C, Gozali C, Reda D, Laghi F (2014) Contrasting breathing retraining and helium-oxygen during pulmonary rehabilitation in COPD: a randomized clinical trial. Respirat Med 108(2): 297–306. https://doi.org/10.1016/j.rmed.2013.10.023
- Zuercher P, Springe D, Grandgirard D, Leib SL, Grossholz M, Jakob S, Takala J, Haenggi M (2016) A randomized trial of the effects of the noble gases helium and argon on neuroprotection in a rodent cardiac arrest model. BMC Neurol 16: 43. https://doi.org/10.1186/s12883-016-0565-8
- Förstermann U, Sessa WC (2012) Nitric oxide synthases: regulation and function. Eur Heart J 33(7): 829–837d. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehr304
- Maier A, Wiedemann J, Rapp F, Papenfuß F, Rödel F, Hehlgans S, Gaipl US, Kraft G, Fournier C, Frey B (2020) Radon Exposure-Therapeutic Effect and Cancer Risk. Int J Mol Sci 22(1): 316. https://doi.org/10.3390/ijms22010316
- Annegret F, Thomas F (2013) Long-term benefits of radon spa therapy in rheumatic diseases: results of the randomised, multi-centre IMuRa trial. Rheumatol Int 33(11): 2839–2850. https://doi.org/10.1007/s00296-013-2819-8
- Shehata M, Schwarzmeier JD, Hilgarth M, Demirtas D, Richter D, Hubmann R, Boeck P, Leiner G, Falkenbach A (2006) Effect of combined spa-exercise therapy on circulating TGF-beta1 levels in patients with ankylosing spondylitis. Wiener Klin Wochenschrift 118(9-10): 266–272. https://doi.org/10.1007/s00508-006-0560-y
- Yamaoka K, Mitsunobu F, Hanamoto K, Mori S, Tanizaki Y, Sugita K (2004) Study on biologic effects of radon and thermal therapy on osteoarthritis. J Pain 5(1): 20–25. https://doi.org/10.1016/j.jpain.2003.09.005
- Dischereit G, Neumann N, Müller-Ladner U, Kürten B, Lange U (2014) The impact of serial low-dose radon hyperthermia exposure on pain, disease activity and pivotal cytokines of bone metabolism in ankylosing spondylitis – a prospective study. Aktuelle Rheumatol 39(05): 304–309. https://doi.org/10.1055/s-0034-1384554
- Lange U, Dischereit G, Tarner I, Frommer K, Neumann E, Müller-Ladner U, Kürten B (2016) The impact of serial radon and hyperthermia exposure in a therapeutic adit on pivotal cytokines of bone metabolism in rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Clin Rheumatol 35(11): 2783–2788. https://doi.org/10.1007/s10067-016-3236-7
- Kullmann M, Rühle PF, Harrer A, Donaubauer A, Becker I, Sieber R, Klein G, Fournier C, Fietkau R, Gaipl US, Frey B (2019) Temporarily increased TGFβ following radon spa correlates with reduced pain while serum IL-18 is a general predictive marker for pain sensitivity. Radiat Environment Biophys 58(1): 129–135. https://doi.org/10.1007/s00411-018-0768-z
- Rühle PF, Wunderlich R, Deloch L, Fournier C, Maier A, Klein G, Fietkau R, Gaipl US, Frey B (2017) Modulation of the peripheral immune system after low-dose radon spa therapy: Detailed longitudinal immune monitoring of patients within the RAD-ON01 study. Autoimmunity 50(2): 133–140. https://doi.org/10.1080/08916934.2017.1284819
- Cucu A, Shreder K, Kraft D, Rühle PF, Klein G, Thiel G, Frey B, Gaipl US, Fournier C (2017) Decrease of Markers Related to Bone Erosion in Serum of Patients with Musculoskeletal Disorders after Serial Low-Dose Radon Spa Therapy. Front Immunol 8: 882. https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.00882
- Winklmayr M, Kluge C, Winklmayr W, Küchenhoff H, Steiner M, Ritter M, Hartl A (2015) Radon balneotherapy and physical activity for osteoporosis prevention: a randomized, placebo-controlled intervention study. Radiat Environment Biophys 54(1): 123–136. https://doi.org/10.1007/s00411-014-0568-z
- Rühle PF, Klein G, Rung T, Tiep Phan H, Fournier C, Fietkau R, Gaipl US, Frey B (2019) Impact of radon and combinatory radon/carbon dioxide spa on pain and hypertension: Results from the explorative RAD-ON01 study. Modern Rheumatol 29(1): 165–172. https://doi.org/10.1080/14397595.2018.1442640
- Yamaoka K, Mitsunobu F, Hanamoto K, Shibuya K, Mori S, Tanizaki Y, Sugita K (2004) Biochemical comparison between radon effects and thermal effects on humans in radon hot spring therapy. J Radiat Res 45(1): 83–88. https://doi.org/10.1269/jrr.45.83
- Kataoka T, Nishiyama Y, Yamato K, Teraoka J, Morii Y, Sakoda A, Ishimori Y, Taguchi T, Yamaoka K (2012) Comparative study on the inhibitory effects of antioxidant vitamins and radon on carbon tetrachloride-induced hepatopathy. J Radiat Res 53(6): 830–839. https://doi.org/10.1093/jrr/rrs057
- Kataoka T, Etani R, Kanzaki N, Kobashi Y, Yunoki Y, Ishida T, Sakoda A, Ishimori Y, Yamaoka K (2017) Radon inhalation induces manganese-superoxide dismutase in mouse brain via nuclear factor-κB activation. J Radiat Res 58(6): 887–893. https://doi.org/10.1093/jrr/rrx048
- Куссмауль АР, Богачева МА, Шкурат ТП, Павлов БН (2007) Влияние дыхательных сред, содержащих ксенон и криптон, на клинико-биохимические показатели крови животных. Авиакосм экол мед 41(2): 60–63. [Kussmaul AR, Bogacheva MA, Shkurat TP, Pavlov BN (2007) Effects of xenon and krypton-containing breathing mixtures on clinical and biochemical blood indices in animals. Aviakosm Ekol Med 41(2): 60–64. (In Russ)].
- Куссмауль АР, Гурьева ТС, Дадашева ОА, Павлов НБ, Павлов БН (2008) Влияние газовой среды, содержащей криптон, на эмбриональное развитие японского перепела. Авиакосм экол мед 42(1): 41–43. [Kussmaul AR, Gur'eva TS, Dadasheva OA, Pavlov NB, Pavlov BN (2008) Effect of krypton-containing gas mixture on Japanese quail embryo development. Aviakosm Ekol Med 42(1): 41–44. (In Russ)].
- Antonova VV, Silachev DN, Plotnikov EY, Pevzner IB, Yakupova EI, Pisarev MV, Boeva EA, Tsokolaeva ZI, Lyubomudrov MA, Shumov IV, Grechko AV, Grebenchikov OA (2024) Neuroprotective Effects of Krypton Inhalation on Photothrombotic Ischemic Stroke. Biomedicines 12(3): 635. https://doi.org/10.3390/biomedicines12030635
- Trudell JR, Koblin DD, Eger EI 2nd (1998) A molecular description of how noble gases and nitrogen bind to a model site of anesthetic action. Anesthesia and analgesia 87(2): 411–418. https://doi.org/10.1097/00000539-199808000-00034
Supplementary files