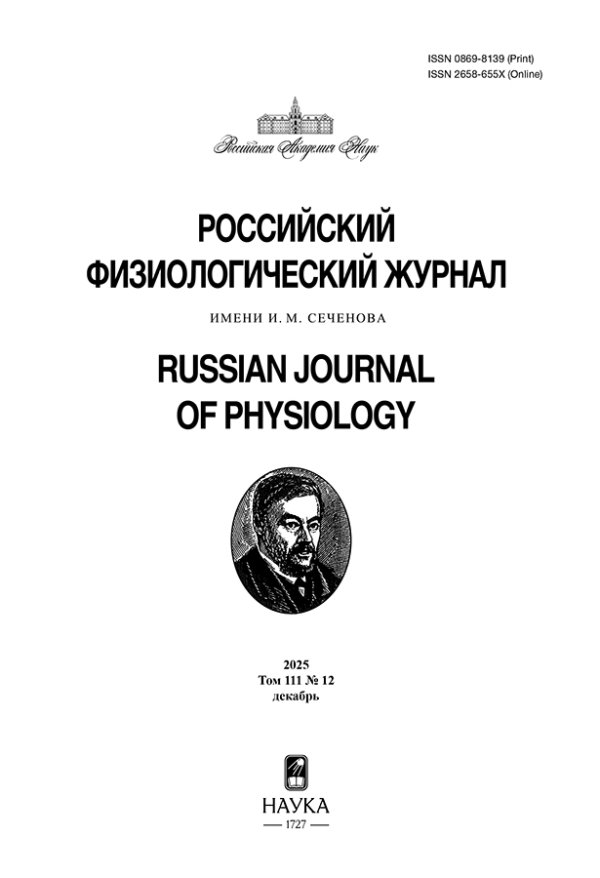Связанная с движением десинхронизация сенсомоторных ритмов ЭЭГ у пациентов с гемипарезом в результате инсульта
- Авторы: Медведева А.С.1, Сыров Н.В.1,2, Яковлев Л.В.1,2, Алиева Я.А.3,4, Петрова Д.А.1, Иванова Г.Е.3,4, Лебедев М.А.2,5, Каплан А.Я.1,2
-
Учреждения:
- Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Сколковского института науки и технологий
- Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
- Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России
- Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова Минздрава России
- Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН
- Выпуск: Том 110, № 10 (2024)
- Страницы: 1683-1700
- Раздел: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-8139/article/view/274783
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869813924100084
- EDN: https://elibrary.ru/VRFIIM
- ID: 274783
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Нарушение двигательной функции является одним из наиболее распространенных последствий инсульта и требует разработки эффективных методов диагностики и реабилитации. Оценка активности сенсомоторных отделов коры головного мозга во время подготовки и выполнения движений предоставляет важную информацию о состоянии двигательных областей после инсульта и потенциале восстановления. Целью настоящего исследования была оценка пространственно-временных характеристик связанной с событием десинхронизации (event-related desynchronization, ERD) сенсомоторных ритмов ЭЭГ у пациентов с гемипарезом после инсульта при движениях паретичной и здоровой руками. В исследовании приняли участие 19 пациентов с гемипарезом после инсульта. Регистрация ЭЭГ проводилась во время выполнения зрительно-моторной задачи. Анализировались реакции ERD в альфа- (6–15 Гц) и бета- (15–30 Гц) диапазонах. Была обнаружена асимметрия ERD с преобладанием реакции в интактном полушарии, независимо от того, какой рукой выполнялось движение. Величина альфа-/бета-ERD в пораженном полушарии коррелировала с оценкой по шкале Fugl-Meyer. Также была показана значимая корреляция между величиной бета-ERD в пораженном полушарии при движениях здоровой конечностью и степенью восстановления двигательной функции пораженной руки. Результаты демонстрируют информативность оценки паттернов ERD для диагностики состояния сенсомоторных сетей после инсульта и расширяют возможности использования ЭЭГ для оценки состояния пациентов даже с полным отсутствием движений в паретичной конечности.
Ключевые слова
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Нарушение двигательной функции представляет собой одно из наиболее распространенных последствий инсульта. В основе восстановления нарушений после инсульта лежит свойство нейрональной пластичности, обеспечивающее появление новых нейронных связей и их реорганизацию во время реабилитационной терапии [1]. После инсульта зона поражения и характер ее связей с остальными областями мозга динамически меняется, что особенно выражается в изменении баланса тормозных и возбуждающих влияний между полушариями, а также включении регионов, соседствующих с зоной поражения, в процесс восстановления утраченных двигательных функций [2]. Таким образом, различные неповрежденные области мозга могут взять на себя функции поврежденных [3]. Эффективная и своевременная терапия способна реализовать потенциал пластичности нейронных сетей мозга и способствовать успешному восстановлению утраченных двигательных навыков. Однако при наличии огромного спектра реабилитационных техник и методов воздействия как на центральное, так и периферическое звено моторного контроля в индивидуальных случаях не все подходы могут оказаться эффективными. Решение о выборе конкретной стратегии реабилитации принимается на основе МРТ картины поражения и результатов тестов и шкал оценки состояния пациента. Однако эта информация не может предоставить полную картину о характере нарушения мозговых контуров двигательного контроля, так как не включает в себя результаты функциональной оценки состояния сенсомоторных нейронных сетей. В то же время эту информацию необходимо принимать во внимание при планировании программы реабилитации (например, при выборе протокола ритмической транскраниальной магнитной стимуляции и определении зоны воздействия нужно иметь представление о наличии остаточных нисходящих кортикоспинальных проекций из пораженного полушария). В связи с этим на передний план постинсультной диагностики выходит необходимость понимания характера изменений активности сенсомоторных отделов коры головного мозга во время подготовки и выполнения движения. Актуальным оказывается поиск функциональных маркеров нарушения и компенсаторной реорганизации двигательных областей после инсульта, которые имели бы практическую применимость в диагностике и динамической оценке эффекта реабилитационных процедур.
Удобным и достаточно эффективным методом для оценки состояния сенсомоторных систем мозга у пациентов после инсульта является метод электроэнцефалографии (ЭЭГ). Он прост в имплементации и может быть использован для отслеживания динамики изменений в сетях коры мозга в ходе двигательного восстановления. Однако для его применения необходимо определить чувствительные и специфичные ЭЭГ-маркеры, описывающие состояние сенсомоторных кортикальных сетей. В ряде работ были описаны закономерности изменения ритмов ЭЭГ у пациентов после инсульта. Так, Brito c соавт. [4] и Finnigan с соавт. [5] наблюдали увеличение мощности медленной ритмической активности мозга в частотных диапазонах дельта- (1–4 Гц) и тета- (4–8 Гц) ритмов в отведениях над пораженным полушарием у пациентов с кортикальным инсультом. При этом изменения сопровождались снижением мощности осцилляций в альфа- (8–14 Гц) и бета- (15–30 Гц) диапазонах. В период реабилитации при этом в ЭЭГ наблюдался сдвиг в сторону нормального спектрального распределения [5].
Особое внимание в исследованиях нарушения двигательных навыков после инсульта уделяется феномену связанной с движением депрессии ритмической активности ЭЭГ в альфа- и бета-диапазонах (в контексте сенсомоторных областей альфа-ритм принято называть также мю-ритмом). Эта реакция, называемая также связанной с событием десинхронизацией (event-related desynchronization, ERD), и в норме она развивается в ЭЭГ-отведениях противоположного к активной конечности полушария [6, 7]. Однако у пациентов с гемипарезом в результате инсульта кортикальной и подкорковой локализации во время выполнения/попыток выполнения движений пораженной конечностью десинхронизация развивается в интактном полушарии аналогично движению здоровой конечностью [8–10]. В то же время считается, что наилучшее восстановление двигательной функции достигается не за счет компенсаторного включения интактного полушария в контроль движений паретичной конечности, но за счет реактивации сенсомоторных зон пораженного полушария. И здесь информативным показателем может быть восстановление контралатерального паттерна ERD при выполнении/попытках движений пораженной конечности [8]. Таким образом, изменения десинхронизации ритмической ЭЭГ-активности у пациентов после инсульта может быть информативным маркером функционального состояния сенсомоторных отделов коры. Эта метрика уже широко используется в нейрореабилитации для контроля нейротренажеров на базе технологии интерфейсов мозг-компьютер [10–12], однако до сих пор не вошла в практику диагностики и оценки двигательного восстановления у пациентов после инсульта [13].
В настоящем исследовании была поставлена задача оценить пространственно-временные характеристики связанной с событием десинхронизации сенсомоторной ритмической активности мозга в альфа- и бета-диапазонах у пациентов, перенесших инсульт, во время движений паретичной и здоровой руками. Была поставлена цель установить взаимосвязь величины ERD в разных полушариях с оценкой сохранности у пациентов сенсомоторных навыков. В отличие от большинства ЭЭГ-исследований с подобным дизайном, которые в основном уделяют внимание анализу ERD при движениях пораженной конечности, в настоящей работе проводилась подробная оценка характеристик альфа/бета-десинхронизации также при движениях здоровой рукой и ее взаимосвязь со степенью сохранности сенсомоторных навыков пораженной конечности.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Участники исследования
В исследовании приняли участие 19 пациентов (34–80 лет, средний возраст 62.0 года; 5 женщин, 14 мужчин, все правши) на ранней и поздней стадии восстановления после ишемического (18) и геморрагического (1) инсульта односторонней кортикальной локализации, подтвержденного КТ или МРТ головного мозга. Поражение привело к парезу правой (11 в результате нарушения кровотока в области левой мозговой артерии) и левой руки (7 в результате нарушения кровотока в области правой мозговой артерии; 1 в результате геморрагического инсульта в правом полушарии). При анализе данных пациенты были разделены на две группы: с право- и левополушарными нарушениями.
В качестве контрольной группы были отобраны 18 здоровых добровольцев (32–63 лет, средний возраст 55.8 лет; 10 женщин, 8 мужчин, все правши). Все добровольцы контрольной группы сообщили об отсутствии у них истории неврологических и психических расстройств на момент исследования.
Перед началом исследования участники из группы пациентов проходили оценку двигательной функции верхних конечностей при помощи стандартных клинических шкал Fugl-Meyer [14] и по шкале ARAT [15] для оценки двигательной недостаточности. На момент начала исследования баллы по шкале Fugl-Meyer у участников находились в диапазоне 48–116 со средним значением 81.1. По шкале ARAT: 0–50, среднее значение – 12.1. По шкале Рэнкина (Rankin scale) [16] всем пациентам была установлена оценка в 3 балла, то есть все они имели умеренное нарушение жизнедеятельности.
Процедура исследования
Экспериментальная задача представляла собой моторный тест на скорость реакции. Участники сидели за столом, при этом их руки помещались в специальный бокс ладонями вниз. Над руками участника находились две кнопки, им соответствовали две лампочки на внешней стороне бокса над каждой из кнопок. Одна экспериментальная сессия состояла из нескольких блоков, в которых участники выполняли зрительно-моторное задание на скорость реакции: в ответ на визуальный сигнал (вспышка одной лампочки) участникам нужно было нажать соответствующую кнопку тыльной стороной пальцев кисти, выполнив разгибание запястья. При этом до начала каждого блока участнику сообщалось, какая из лампочек является целевой, то есть, на вспышки какой лампочки нужно реагировать движением. Например, если целевой была лампочка, расположенная над правой рукой, то участник должен был совершать нажатие правой рукой, а вспышки левой лампочки (нецелевой) должны были игнорироваться, соответственно, левая рука в рамках этого блока должна была оставаться в покое. Таким образом, в разных блоках участники выполняли движения либо здоровой, либо паретичной конечностью. Если у участника группы пациентов парез конечности был настолько сильным, что участник не мог выполнить полное нажатие кнопки, ему предлагалось сделать максимально возможное движение, например, напрячь мышцы-разгибатели пальцев, разогнуть большой палец или же совершить попытку к движению.
Каждый блок включал в себя предъявление 30 вспышек, по 15 на каждую лампочку. Лампочки подсвечивались в псевдо-случайной последовательности, длительность подсветки составляла 200 мс, интервал между подсветками варьировал от 1 до 2.5 с. Межстимульный интервал регулировался для подбора комфортного для каждого участника темпа. Одна экспериментальная сессия включала в себя выполнение 8 блоков, по 4 на каждую руку.
В рамках всего исследования пациенты проходили курс реабилитации со стационарным размещением в ФБГУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий». Каждый из них участвовал минимум в двух экспериментальных сессиях, проводимых в разные дни. Испытуемые контрольной группы участвовали каждый в одной экспериментальной сессии, в рамках которой выполняли те же задания, что и пациенты.
Рис. 1. Схема экспериментальной сессии. Прямоугольниками показаны отдельные блоки. “R” – блоки с движениями правой рукой, “L” – блоки с движениями левой рукой. Каждый блок включал в себя предъявление 30 зрительных стимулов, по 15 на каждую кнопку. Испытуемый совершал нажатия только целевой кнопки в ответ на вспышку соответствующей ей лампочки. Показан внешний вид бокса с кнопками и лампочками.
Регистрация и обработка сигнала
Регистрация ЭЭГ сигнала осуществлялась с использованием электроэнцефалографа NVX-36 (МКС, Зеленоград, Россия) и 17 точечных пассивных Ag+/AgCl электродов (MCSCAP-E) в позициях на скальпе, соответствующих международной системе “10/20”: 'F3', 'Fz', 'F4', 'F8', 'T3', 'C3', 'Cz', 'C4', 'T4', 'T5', 'P3', 'Pz', 'P4', 'T6', отведения 'T9' и 'T10' использовались в качестве референтных электродов. Стандартная система размещения электродов “10/20” была максимально упрощена для удобства проведения эксперимента в клинических условиях, поэтому из нее были исключены отведения 'O1' и 'O2', удаленные от зоны интереса.
Контактное сопротивление для всех электродов не превышало 20 кОм. Частота дискретизации составляла 500 Гц. Кроме того, проводилась регистрация активности мышц разгибателей пальцев кисти (т. extensor digitorum communis) для обеих рук. Регистрация электромиографического (ЭМГ) сигнала осуществлялась в биполярном отведении при помощи двух поверхностных электродов, установленных на брюшко мышцы и сухожилие в области запястья. Запись ЭМГ производилась при помощи того же усилителя.
Предварительная обработка ЭЭГ сигналов включала применение к сигналу режекторного (notch) фильтра 50 Гц для подавления помехи электросети, полосного фильтра в диапазоне 1–30 Гц. Далее к сигналу применялся метод разложения на независимые компоненты (использовался алгоритм fastICA). Компоненты, связанные с окулографической активностью и активностью мышц лица и скальпа удалялись из сигнала. Независимые компоненты, подлежащие удалению, определялись на основании оценки их топографического распределения и спектральных характеристик. Так, для компонента, содержащего глазодвигательные артефакты, была свойственна строго фронтальная локализация и низкая частота колебаний, в то время как ЭМГ артефакт выделялся в компонент с височной локализацией и повышенной спектральной мощностью в диапазоне более 20 Гц при сниженной мощности при более низких частотах.
После предварительной обработки ЭЭГ сигнал был сегментирован на эпохи 0.2–2 с относительно момента предъявления зрительного стимула. Для коррекции базовой линии использовался интервал 0.2–1 c относительно момента предъявления стимула. Таким образом, анализ десинхронизации проводился в эпохах, синхронизированных с моментом предъявления стимула, а не началом движения. Это было связано с тем, что у части пациентов миографические ответы не регистрировались стабильно, а у некоторых они отсутствовали вовсе, что затруднило бы единообразное сравнение групп пациентов между собой и с контрольной группой. Более того, для тех, у кого мышечная сила была достаточной для нажатия кнопки и четко детектировались ЭМГ-ответы (6 пациентов с правосторонним и 4 с левосторонним поражением), была рассчитана скорость реакции для пораженной конечности, которая сравнивалась со скоростью реакции здоровой конечности. Также эти показатели сравнивались с данными участников контрольной группы. Распределения скорости реакций значимо не различались ни между здоровой и пораженной конечностью, ни между пациентами и контрольной группой. Диаграммы распределения скорости реакций представлены в Приложении 1.
Расчет (де-)синхронизации
К эпохам сигнала применялось вейвлет-преобразование. Использовался сет комплексных вейвлетов Морле с вариабельным числом циклов для разных частот в диапазоне 1–30 Гц с шагом 1 Гц. В результате для каждой эпохи в каждом ЭЭГ отведении была получена timefrequency матрица вэйвлет-коэффициентов.
Для расчета связанной с движением десинхронизации timefrequency матрицы целевых эпох (где было совершено движение) нормализовались через операцию деления на вектор коэффициентов для каждой частоты, рассчитанный по timefrequency матрицам для нецелевых эпох путем взятия медианы по всем эпохам и отрезку времени 0.2–1 c. После нормализации проводилась конверсия значений в децибелы. Положительные значения интерпретировались как связанная с событием синхронизация (event-related synchronization, ERS), а отрицательные – как десинхронизация (ERD) относительно состояния покоя в нецелевых попытках.
Далее нормализованные timefrequency матрицы целевых эпох использовались для оценки динамики ERD/S и топографического распределения очагов, связанных с движением реакций. Реакции ERD/S оценивались в двух диапазонах частот – альфа (6–15 Гц) и бета (15–30 Гц). Для анализа временной эволюции значения нормализованной матрицы усреднялись внутри каждого поддиапазона частот с получением кривой динамики ERD/S. Для оценки топографического распределения проводилось дополнительное усреднение значений ERD/S в отрезке 0.3–0.6 c. Эти же значения в отведениях С3 и С4 использовались для статистического анализа. Эти отведения соответствуют правому (С4) и левому (С3) полушариям и располагаются над центральным/постцентральным регионами, что позволяет трактовать сигнал в этих отведениях как отражающий активность сенсомоторных отделов коры [18]. Анализ ЭЭГ активности проводился при помощи авторских скриптов, написанных на языке Python, с использованием методов из библиотеки mne MNE-Python v1.3.1 [17].
Статистический анализ
В рамках статистического анализа связанной с движением реакций ERD/С использовался трехфакторный дисперсионный анализ ANOVA c двухуровневыми внутри-индивидуальными факторами: ДВИЖЕНИЕ (движение правой/левой рукой), ПОЛУШАРИЕ (данные отведения С3/С4) и межиндивидуальными: СТОРОНА ИНСУЛЬТА (правополушарный/левополушарный). Парный двусторонний тест Стьюдента был использован для проведения post-hoc анализа, полученные значения p были скорректированы поправкой Холма – Бонферрони. Для оценки связей между величиной альфа и бета-ERD в пораженном и интактном полушариях со значениями шкалы Fugl-Meyer как метрики оценки сохранности и успешности восстановления сенсомоторных функций пациентов использовались смешанные линейные модели (Linear mixed models, LMMs). Этот анализ был выполнен отдельно для каждого частотного диапазона в каждом условии (движения здоровой и паретичной рукой). Значения ERD в интактном и пораженном полушарии в отведениях С3 и С4 были взяты как фиксированный эффект, значения шкалы Fugl-Meyer – как зависимый, а группа инсульта (правополушарный/левополушарный) – как случайный эффект. Коэффициенты LMM были подобраны с использованием метода ограниченного максимального правдоподобия (restricted maximum likelihood, REML). Использование LMM позволило оценить корреляцию баллов Fugl-Meyer с ERD одновременно в двух группах пациентов, учитывая вариативность в каждой из них. Для реализации анализа были использованы методы из библиотеки python statsmodels (v.0.15) [19].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты группы здоровых добровольцев
Контрольная группа продемонстрировала реакцию десинхронизации в альфа- и бета-диапазонах, вызванную движением, с типичным контралатеральным распределением по отношению к активной конечности. Данный результат полностью соответствует широко известному представлению о закономерностях реактивности сенсомоторных ритмов ЭЭГ при движении, описанному в литературе [20, 21]. Графики частотно-временного распределения ERD/S при движении правой и левой рукой, а также пространственное распределение максимума альфа-/бета-десинхронизации представлены в Приложении 2.
Результаты группы пациентов
Для группы пациентов после инсульта было обнаружено, что после зрительной вспышки в период выполнения или попытки выполнить движение в ЭЭГ развивалось стойкое снижение амплитуды ЭЭГ-осцилляторной активности в альфа- и бета- диапазонах. На рис. 2 представлены графики усредненной по группам пациентов временной динамики ERD. Рис. 2а иллюстрирует частотно-временные диаграммы ERD для пациентов в условиях движения правой и левой руками. Видно, что в обеих группах пациентов реакция десинхронизации развивается в альфа- и бета-диапазонах. На рис. 2b показана динамика ERD отдельно в данных диапазонах. Примечательно, что в ЭЭГ-отведениях над областью поражения ERD была слабее, чем в отведениях над интактным полушарием, и этот результат наиболее выражен в условиях с движениями паретичной конечностью (на рисунке эти графики выделены рамкой). Также было отмечено, что ERD над пораженным полушарием была сильнее при движении здоровой конечностью.
Рис. 2. Динамика ERD/S у двух групп пациентов (LH stroke – группа пациентов с левополушарным инсультом; RH stroke – правополушарным). (a) – динамика ERD/S в отведениях С3 и С4 при движении правой и левой рукой. Динамика представлена в координатах частоты – времени. Диаграммы для условий движения пораженной конечностью выделены темной рамкой. (b) – усредненные значения ERD/S в альфа- и бета- диапазонах приведены отдельно для блоков с движениями здоровой и пораженной конечностью. Рамкой выделены графики для ERD в отведениях над пораженным полушарием (С3 для группы LH и С4 для RH).
Для пациентов с инсультом в правом полушарии было обнаружено, что после реакции десинхронизации в бета-диапазоне развивается так называемый “отскок” – повышение мощности или синхронизация. Этот феномен был наиболее выражен в временном отрезке 1–1.5 с, и этот интервал использовался для оценки топографического распределения реакции бета-ERS и статистического анализа.
Наблюдаемые на графиках временной динамики ERD особенности пространственного распределения изучаемой реакции были обнаружены при анализе топографических карт скальпового распределения пиковой десинхронизации. На рис. 3 видно, что вне зависимости от латерализации движения наибольшая десинхронизация как в альфа-, так и в бета-диапазонах регистрируется в отведениях над здоровым полушарием. Причем при движении пораженной конечностью ERD имеет более латерализованный топографический паттерн, это согласуется с наблюдением, что альфа/бета-ERD в отведениях пораженного полушария сильнее при движении здоровой рукой.
Рис. 3. Карты топографического распределения реакций альфа- и бета-ERD и бета-ERS для двух групп пациентов (LH stroke – группа пациентов с левополушарным инсультом, RH stroke – правополушарным). Показаны карты для блоков с движениями здоровой и паретичной конечности. Более темные значения на карте отражают более высокие значения исследуемой реакции (более отрицательные для ERD, более положительные для ERS).
Анализ топографического распределения реакции синхронизации в бета-диапазоне показал, что эта реакция выражена в большей степени при движении здоровой конечностью и локализована контралатерально. Статистический анализ выявил значимый эффект взаимодействия факторов ПОЛУШАРИЕ и СТОРОНА ИНСУЛЬТА на амплитуду ERD в альфа- и бета-диапазонах частот (табл. 1). Это указывает на то, что эффект фактора ПОЛУШАРИЕ на величину десинхронизации (то есть, различается ли распределение ERD в отведениях над правым и левым полушарием при движении) зависит от того, в каком полушарии локализован очаг поражения. При этом эффекты этих факторов на величину ERD оказались незначимы, как и эффект фактора ДВИЖЕНИЕ.
Таблица 1. Результаты проведенных серий дисперсионного анализа
альфа-ERD | |||
Фактор | F | p-unc | np2 |
ПОЛУШАРИЕ | 1.44 | 0.21 | 0.02 |
ДВИЖЕНИЕ | 0.01 | 0.25 | 0.00 |
СТОРОНА ИНСУЛЬТА | 1.91 | 0.27 | 0.02 |
ПОЛУШАРИЕ x СТОРОНА ИНСУЛЬТА | 4.05 | 0.035 | 0.05 |
бета-ERD | |||
Фактор | F | p-unc | np2 |
ПОЛУШАРИЕ | 0.04 | 0.83 | 0.00 |
ДВИЖЕНИЕ | 2.17 | 0.14 | 0.03 |
СТОРОНА ИНСУЛЬТА | 2.88 | 0,09 | 0.04 |
ПОЛУШАРИЕ x СТОРОНА ИНСУЛЬТА | 7.62 | 0.007 | 0.10 |
бета-ERS | |||
Фактор | F | p-unc | np2 |
ПОЛУШАРИЕ | 0.01 | 0.90 | 0.00 |
ДВИЖЕНИЕ | 2.97 | 0.08 | 0.04 |
СТОРОНА ИНСУЛЬТА | 10.93 | 0.001 | 0.13 |
Для реакции бета-синхронизации было обнаружено значимое влияние фактора СТОРОНА ИНСУЛЬТА. Это указывает на то, что величина бета-ERS различалась у пациентов с право- и левосторонним инсультом (это также заметно на рис. 2, из которого видно, что реакция синхронизации в бета-диапазоне наиболее выражена при движениях здоровой конечностью у пациентов с поражением правого полушария).
Попарные сравнения показали, что при левостороннем инсульте величина десинхронизации была значительно снижена в пораженном полушарии (в отведении С3) по сравнению с ERD в здоровом полушарии (в отведении С4). Этот эффект наблюдался как для альфа-ERD (T = 2.54, p = 0.020), так и для бета-ERD (Т = 3.76, р = 0.001). Этот эффект можно проследить на рис. 4, где представлены групповые тенденции величин ERD/S у пациентов в разных условиях. Для бета-синхронизации t-тест подтвердил статистически более высокие значения бета-ERS после движения у пациентов с инсультом левого полушария (T = –3.44, p = 0.001).
Рис. 4. Групповая динамика реакций ERD/S при движениях здоровой и паретичной конечностью у двух групп пациентов – с поражением в левом (а) и правом полушарии (b). В рамку обведены значения для отведений над пораженным полушарием (С3 для группы с поражением, локализованным в левом полушарии, и С4 для группы с поражением в правом).
Также был проведен анализ мощности альфа- и бета-колебаний ЭЭГ у участников в каналах С3 и С4 в нецелевых попытках, когда движения не совершались. Целью такого анализа была оценка референтной мощности, на величину которой проводилась нормализация при расчете ERD/S. Асимметрия выраженности осцилляторной активности в изучаемых диапазонах между интактным и пораженным полушарием могла привести к наблюдаемым в исследовании эффектам асимметричного распределения реакций десинхронизации. На рис. 5а видно, что у обеих групп участников отсутствует межполушарная асимметрия, групповое распределение мощности как альфа-, так и бета-ритмической активности в отведениях С3 и С4 в значительной степени перекрываются между собой.
Рис. 5. (a) – оценка мощности ритмической активности в альфа- и бета-диапазонах в двух группах пациентов в отведениях над пораженным и интактным полушарием. “LHS” – данные для пациентов из группы с левосторонним инсультом, “RHS” – для пациентов из группы с правосторонним инсультом. (b) – графики зависимости величины альфа/бета – ERD в отведении над пораженным полушарием и оценки сенсомоторных навыков по шкале Fugl-Meyer. Для первых двух диаграмм значения ERD взяты для блоков с движением паретичной конечностью, для крайней правой диаграммы “бета-ERD-ipsi” значения взяты из блока с движением здоровой рукой.
На рис. 5b показаны диаграммы взаимосвязи альфа- и бета-ERD в пораженном полушарии при движении паретичной рукой у обеих групп пациентов. Также приведена диаграмма для бета-ERD в пораженном полушарии при движении здоровой рукой (то есть ипсилатеральная ERD). Для всех трех исследованных зависимостей была обнаружена значимость связи между переменными. Для альфа-ERD в отведениях над пораженным полушарием при движении паретичной конечности LMM анализ показал значимость связи со значением Log-Likelihood = –81.7; p = 0.002. Для бета-ERD в отведениях над пораженным полушарием при движении паретичной конечности Log-Likelihood = –80.1, p < 0.001; для бета-ERD в отведениях над пораженным полушарием при движении здоровой конечностью Log-Likelihood = –82.0; p < 0.001. Также для всех тестов была показана значимость случайного эффекта, то есть проявление наблюдаемой реакции зависело от группы пациентов с разной латерализацией инсульта.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Асимметрия реакции десинхронизации сенсомоторных ритмов
В настоящем исследовании, проведенном в группе пациентов с гемипарезом правой или левой руки после инсульта, удалось обнаружить развитие связанной с движением или попыткой к движению десинхронизации (ERD) в альфа- и бета-частотных диапазонах. При этом величина альфа- и бета-ERD была выше в отведениях над здоровым полушарием вне зависимости от того, какой рукой выполнялось движение. Проведенный дисперсионный анализ выявил значимое взаимодействие факторов ПОЛУШАРИЕ и СТОРОНА ИНСУЛЬТА, но не ПОЛУШАРИЕ и ДВИЖЕНИЕ, предполагая, что то, какой рукой совершалось движение, не влияло на латерализацию реакции десинхронизации, как это описано у здоровых участников [6]. В то же время сторона инсульта значимо определяла ассиметрию десинхронизации при движении. Снижение ERD над пораженным полушарием по сравнению со здоровым не было связано с изменениями мощности осцилляторной активности и, следовательно, отражало специфическую связанную с движением активацию нейронов сенсомоторных отделов коры. Аналогичные результаты были описаны ранее в исследованиях [8, 22]. Авторы наблюдали асимметрию реакций альфа-ERD у пациентов с кортикальным инсультом, вызванную значительным снижением десинхронизации над пораженным полушарием и развитием ипсилатеральной альфа-ERD при движении пораженной конечностью. Мы наблюдали также асимметрию ERD и в бета-диапазоне.
Как отмечалось ранее, амплитуда ЭЭГ-осцилляций пропорциональна количеству синхронно активных нейронов коры мозга [23]. При повышении нагрузки на нейронную популяцию развивается десинхронизация, а нарушение связей внутри нее, например, вследствие инсульта может влиять на реактивность нейронных сетей, что, в свою очередь, приводит к ослаблению реакции ERD над пораженным полушарием, как и показано в настоящем и в ряде других исследований [9, 23, 24].
В то же время движения пораженной руки были ассоциированы с выраженной десинхронизацией в отведениях интактного полушария, что указывает на вовлечение механизмов ипсилатеральной компенсации в процессе восстановления двигательной функции после инсульта [25, 26]. Вовлечение здорового полушария в контроль движений парализованной ипсилатеральной конечности, однако, некоторыми исследователями считается не самой эффективной стратегией восстановления двигательных функций, так, авторы [4, 5] утверждают, что ипсилатеральная активация может играть важную роль в восстановлении движений на ранних этапах реабилитации и для наилучшего исхода реабилитации, но со временем активация должна вернуться в контралатеральное (пораженное) полушарие [27]. Также авторы [28] с помощью транскраниальной магнитной стимуляции показали, что роль первичной моторной коры здорового полушария в контроле движений паретичной конечности значительно ниже у пациентов с хорошо восстановленными двигательными функциями в сравнении с пациентами с медленной динамикой восстановления.
Однако следует отметить, что при парных сравнениях в настоящей работе значимые различия в величине ERD между интактным и пораженным полушариями были обнаружены только для группы с правополушарным инсультом, что, вероятно, может быть связано с большим размером группы и наличием в данной группе пациентов с более тяжелыми нарушениями. Так, в работе [29] на выборке из более 100 пациентов авторы показали, что повреждение правого полушария в результате инсульта связано с более серьезными нарушениями двигательной функции по сравнению с повреждением левого полушария, так как в среднем затрагивает большее число корковых и подкорковых областей, включая волокна белого вещества. Поэтому контраст между активацией здорового и пораженного полушария может быть более выражен в группе с правополушарным инсультом. Также авторами [30] было описано, что ипсилатеральная ERD в альфа- и бета-диапазонах сильнее всего выражена в группах пациентов с нарушениями первичной моторной коры, тогда как группы, где моторная кора оставалась сохранной, а двигательная функция была утеряна из-за поражения других отделов – пространственное распределение ERD было более похожим на группу здоровых участников. Учитывая небольшую группу участников, в настоящей работе не проводилось деление пациентов на более специфичные подгруппы (например, по тяжести двигательного дефицита или на группы с кортикальными и подкорковыми нарушениями). Таким образом, интерпретация настоящих результатов должна проводиться с осторожностью с учетом высокой вариативности клинической картины участников.
Обсуждая обнаруженный феномен бета-синхронизации, стоит обратить внимание, что развитие бета-ERS сразу после движения вслед за реакцией десинхронизации, в совокупности с описанным для бета-ERS центральным топорафическим распределением свидетельствуют в пользу того, что это повышение мощности бета-ритма является так называемым феноменом “бета-отскока”, но не следствием артефактной ЭМГ активности, загрязняющий эффект которой часто может мешать адекватной оценке высокочастотных ЭЭГ осцилляций [31]. Феномен бета-отскока связывают с процессами торможения моторной коры при завершении движений, а также процессами обработки сенсомоторной информации. Этот феномен в контексте пост-инсультных нарушений кортикальной функции может стать предметом будущих исследований.
Связь десинхронизации сенсомоторных ритмов и сохранности двигательной функции
Предыдущие ЭЭГ исследования показали, что альфа-ERD пораженного полушария положительно коррелирует с остаточной моторной функцией верхней конечности у пациентов после инсульта [32]. Также авторы [33] предположили, что наличие выраженной альфа-ERD в пораженном полушарии может свидетельствовать об эффективности протекания реабилитации. Дальнейшие исследования подтвердили это, показав, что прогрессирующий сдвиг очага десинхронизации в сторону пораженного полушария значимо коррелирует с улучшением двигательной функции после инсульта [34].
Полученные в настоящей работе результаты согласуются с этими данными. Было обнаружено, что величина как альфа-, так и бета-ERD в пораженном полушарии коррелировала положительно с оценкой шкалы Fugl-Meyer. То есть для пациентов с более выраженной контралатеральной ERD при движении больной конечностью были характерны большие значения по шкале Fugl-Meyer, что свидетельствовало о лучшем восстановлении сенсомоторных функций. Этот результат логичен, так как более точные и амплитудные движения сопровождаются усиленной афферентацией и, следовательно, большей десинхронизацией. Однако мы обнаружили, что степень восстановления значимо коррелировала с величиной бета-ERD в пораженном полушарии и при движениях здоровой конечностью. Этот интересный результат подчеркивает тесную взаимосвязь обоих полушарий в контроле двигательных функций каждой конечностью и указывает на важность оценки кортикальной активации при движении здоровой конечностью для анализа степени двигательного восстановления после инсульта.
В продолжение этой идеи стоит обратить внимание на то, что при движениях здоровой рукой величина альфа- и бета-ERD в пораженном (ипсилатеральном) полушарии выше, чем при движениях пораженной конечности (как видно на топографических картах и из анализа временной динамики рис. 2–4). Хотя мы не обнаружили значимости данной тенденции, наблюдаемый феномен был описан в других исследованиях [8]. Ипсилатеральная ERD считается нормотипическим феноменом и ранее была описана у здоровых добровольцев как маркер “подключения” ипсилатеральных зон при выполнении сложных двигательных задач [35, 36], а также как результат формирования межполушарных коактиваций в ходе бимануального двигательного опыта [37]. Ее присутствие при движениях здоровой рукой, таким образом, может отражать сохранность первичных сенсомоторных отделов пораженного полушария и участие их в контроле выполнения здорового движения и анализе афферентного потока, очевидно, более интенсивного при здоровом полноценном движении.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе описаны характеристики реакций десинхронизации сенсомоторной ритмической ЭЭГ-активности у пациентов после инсульта при движениях здоровой и пораженной конечностями. Было показано, что при движении паретичной рукой наблюдается ипсилатеральный паттерн ERD, что указывает на роль интактного полушария в контроле и восстановлении нарушенных двигательных функций. Также было обнаружено, что интенсивность ERD в пораженном полушарии коррелирует с успешностью восстановления сенсомоторных навыков. Причем, если в предыдущих исследованиях эту связь обнаруживали только для движений пораженной руки, то в настоящей работе была исследована также корреляция активации в пораженном полушарии при движениях здоровой конечностью. Этот результат является важным, во-первых, потому, что свидетельствует о сохранении роли сенсомоторных отделов пораженного полушария в контроле не затронутой парезом стороны тела, а во-вторых, имеет ценность для клинической применимости оценки паттернов десинхронизации сенсомоторных ритмов ЭЭГ. Он указывает на возможность проведения оценки состояния пациентов даже с полным отсутствием мышечной силы в пораженной конечности через пробы с движениями интактной руки. Несмотря на активное использование ЭЭГ в рамках нейрореабилитации с использованием технологий интерфейсов мозг – компьютер [38], этот метод регистрации мозговой активности, согласно авторам [13], не является широко распространенным инструментом пост-инсультной диагностики сенсомоторных сетей. Однако настоящая работа, наряду с упомянутыми выше исследованиями, подчеркивает информативность данного метода для оценки состояния пациента, планирования программы реабилитации и прогнозирования ее эффектов.
ВКЛАДЫ АВТОРОВ
А. C. М. – проведение исследования, обработка данных, поиск и обработка литературы, написание текста статьи; Н. В. С. – разработка дизайна исследования, проведение исследования, обработка данных, написание текста статьи; Л. В. Я. – проведение исследования, написание текста статьи; Я. А. А. – отбор и обследование больных для исследования, клиническое исследование, проведение исследования; Д. А. П., Г. Е. И., М. А. Л., А. Я. К. – общее руководство, планирование и ресурсное обеспечение исследования, дизайн исследования.
ФИНАНСИРОВАНИE РАБОТЫ
Данная работа финансировалась за счет средств бюджета гранта Российского научного фонда (проект № 21-75-30024). Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Все исследования проводились в соответствии с принципами биомедицинской этики, изложенными в Хельсинкской декларации 1964 г. и последующих поправках к ней. Они также были одобрены Комитетом по этике Сколковского института науки и технологий (протокол № 10 от 18.05.2023 г.), Москва, Россия.
Каждый участник исследования дал добровольное письменное информированное согласие после получения разъяснений о потенциальных рисках и преимуществах, а также о характере предстоящего исследования.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1. Распределение скорости реакции для групп пациентов и участников контрольной группы при движении правой и левой руками.
Приложение 2. Результаты анализа реакции десинхронизации у контрольной группы здоровых добровольцев. (а) – частотно-временные диаграммы реакции десинхронизации, связанной с движением правой и левой руками для участников контрольной группы. (b) – пространственное распределение паттернов альфа- и бета-десинхронизации при движениях правой и левой руками для участников контрольной группы.
Об авторах
А. С. Медведева
Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Сколковского института науки и технологий
Email: kolascoco@gmail.com
Россия, Москва
Н. В. Сыров
Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Сколковского института науки и технологий; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Автор, ответственный за переписку.
Email: kolascoco@gmail.com
Россия, Москва; Москва
Л. В. Яковлев
Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Сколковского института науки и технологий; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Email: kolascoco@gmail.com
Россия, Москва; Москва
Я. А. Алиева
Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России; Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова Минздрава России
Email: kolascoco@gmail.com
Россия, Москва; Москва
Д. А. Петрова
Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Сколковского института науки и технологий
Email: kolascoco@gmail.com
Россия, Москва
Г. Е. Иванова
Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России; Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова Минздрава России
Email: kolascoco@gmail.com
Россия, Москва; Москва
М. А. Лебедев
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова; Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН
Email: kolascoco@gmail.com
Россия, Москва; Санкт Петербург
А. Я. Каплан
Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Сколковского института науки и технологий; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Email: kolascoco@gmail.com
Россия, Москва; Москва
Список литературы
- Chen R, Cohen LG, Hallett M (2002) Nervous system reorganization following injury. Neuroscience 111(4): 761–773. https://doi.org/10.1016/s0306-4522(02)00025-8
- Zhang H, Guo J, Liu J, Wang C, Ding H, Han T, Chen J, Yu C, Qin W (2024) Reorganization of Cortical Individualized Differential Structural Covariance Network is Associated with Regional Morphometric Changes and Functional Recovery in Chronic Subcortical Stroke. NeuroImage: Clinical. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4868458
- Cauraugh J, Summers J (2005) Neural plasticity and bilateral movements: A rehabilitation approach for chronic stroke. Progress Neurobiol 75(5): 309–320. https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2005.04.001
- Brito R, Baltar A, Berenguer-Rocha M, Shirahige L, Rocha S, Fonseca A, Piscitelli D, Monte-Silva K (2021) Intrahemispheric EEG: A New Perspective for Quantitative EEG Assessment in Poststroke Individuals. Neural Plasticity 5664647. https://doi.org/10.1155/2021/5664647
- Finnigan SP, Walsh M, Rose SE, Chalk JB (2007) Quantitative EEG indices of sub-acute ischaemic stroke correlate with clinical outcomes. Clin Neurophysiol 118(11): 2525–2532. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2007.07.021
- Pfurtscheller G (2000) Spatiotemporal ERD/ERS patterns during voluntary movement and motor imagery. Suppl Clin Neurophysiol 53: 196–198. https://doi.org/10.1016/s1567-424x(09)70157-6
- Syrov N, Vasilyev A, Solovieva А, Kaplan A (2022) Effects of the mirror box illusion on EEG sensorimotor rhythms in voluntary and involuntary finger movements. Neurosci Behav Physiol 52(6): 936–946. https://doi.org/10.1007/s11055-022-01318-z
- Stępień M, Conradi J, Waterstraat G, Hohlefeld FU, Curio G, Nikulin VV (2011) Event-related desynchronization of sensorimotor EEG rhythms in hemiparetic patients with acute stroke. Neurosci Lett 488(1): 17–21. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2010.10.072
- Ezquerro S, Barios J, Bertomeu-Motos A, Diez J, Sanchez-Aparicio J, Donis-Barber L, Fernandez E, Garcia N (2019) Bihemispheric Beta Desynchronization During an Upper-Limb Motor Task in Chronic Stroke Survivors. Metrology: 371–379. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19651-6_36
- Biryukova E, Frolov A, Kozlovskaya I, Bobrov P (2017) Robotic devices in postsroke rehabilitation. Zh Vyssh Nerv Deiat 67: 394–413. https://doi.org/10.7868/S004446771704-0017
- Khan MA, Das R, Iversen HK, Puthusserypady S (2020) Review on motor imagery based BCI systems for upper limb post-stroke neurorehabilitation: From designing to application. Comput Biol Med 123: 103843. https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2020.103843
- Silvoni S, Ramos-Murguialday A, Cavinato M, Volpato C, Cisotto G, Turolla A, Piccione F, Birbaumer N (2011) Brain-computer interface in stroke: a review of progress. Clin EEG Neurosci 42(4): 245–252. https://doi.org/10.1177/155005941104200410
- Milani G, Antonioni A, Baroni A, Malerba P, Straudi S (2022) Relation Between EEG Measures and Upper Limb Motor Recovery in Stroke Patients: A Scoping Review. Brain Topogr 35(5–6): 651–666. https://doi.org/10.1007/s10548-022-00915-y
- Gebruers N, Truijen S, Engelborghs S, De Deyn PP (2014) Prediction of upper limb recovery, general disability, and rehabilitation status by activity measurements assessed by accelerometers or the Fugl-Meyer score in acute stroke. Am J Phys Med Rehabil 93(3): 245–252. https://doi.org/10.1097/phm.0000000000000045
- Lyle RC (1981) A performance test for assessment of upper limb function in physical rehabilitation treatment and research. Int J Rehabil Res 4(4): 483–492. https://doi.org/10.1097/00004356-198112000-00001
- Rankin J (1957) Cerebral vascular accidents in patients over the age of 60. II. Prognosis. Scott Med J 2(5): 200–215. https://doi.org/10.1177/003693305700200504
- Gramfort A, Luessi M, Larson E, Engemann DA, Strohmeier D, Brodbeck C, Goj R, Jas M, Brooks T, Parkkonen L, Hämäläinen M (2013) MEG and EEG data analysis with MNE-Python. Front Neurosci 7: 267. https://doi.org/10.3389/fnins.2013.00267
- Neuper C, Wörtz M, Pfurtscheller G (2006) ERD/ERS patterns reflecting sensorimotor activation and deactivation. Prog Brain Res 159: 211–222. https://doi.org/10.1016/S0079-6123(06)59014-4
- Seabold S, Perktold J (2010) Statsmodels: Econometric and Statistical Modeling with Python. Proc Python Sci Conf. https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-011
- Chatrian GE, Petersen MC, Lazarte JA (1959) The blocking of the rolandic wicket rhythm and some central changes related to movement. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 11(3): 497–510. https://doi.org/10.1016/0013-4694(59)90048-3
- Pfurtscheller G, Da Silva FL (1999) Event-related EEG/MEG synchronization and desynchronization: basic principles. Clin Neurophysiol 110(11): 1842–1857. https://doi.org/10.1016/s1388-2457(99)00141-8
- Pfurtscheller G, Aranibar A, Wege W (1980) Changes in central EEG activity in relation to voluntary movement. II. Hemiplegic patients. Prog Brain Res 54: 491–495. https://doi.org/10.1016/S0079-6123(08)61665-9
- Nunez PL, Srinivasan R (2006) Electric fields of the brain: the neurophysics of EEG. Oxford University Press. USA.
- Gerloff C, Bushara K, Sailer A, Wassermann EM, Chen R, Matsuoka T, Waldvogel D, Wittenberg GF, Ishii K, Cohen LG, Hallett M (2006) Multimodal imaging of brain reorganization in motor areas of the contralesional hemisphere of well recovered patients after capsular stroke. Brain 129(3): 791–808. https://doi.org/10.1093/brain/awh713
- Li H, Huang G, Lin Q, Zhao J, Fu Q, Li L, Mao Y, Wei X, Yang W, Wang B, Zhang Z, Huang D (2020) EEG Changes in Time and Time-Frequency Domain During Movement Preparation and Execution in Stroke Patients. Front Neurosci 14: 827. https://doi.org/10.3389/fnins.2020.00827
- Starkey ML, Bleul C, Zörner B, Lindau NT, Mueggler T, Rudin M, Schwab ME (2012) Back seat driving: hindlimb corticospinal neurons assume forelimb control following ischaemic stroke. Brain 135(11): 3265–3281. https://doi.org/10.1093/brain/aws270
- Carey JR, Kimberley TJ, Lewis SM, Auerbach EJ, Dorsey L, Rundquist P, Ugurbil K (2002) Analysis of fMRI and finger tracking training in subjects with chronic stroke. Brain 125(4): 773–788. https://doi.org/10.1093/brain/awf091
- Werhahn KJ, Conforto AB, Kadom N, Hallett M, Cohen LG (2003) Contribution of the ipsilateral motor cortex to recovery after chronic stroke. Ann Neurol 54(4): 464–472. https://doi.org/10.1002/ana.10686
- Frenkel-Toledo S, Fridberg G, Ofir S, Bartur G, Lowenthal-Raz J, Granot O, Handelzalts S, Soroker N (2019) Lesion location impact on functional recovery of the hemiparetic upper limb. PloS one 14(7): e0219738. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219738
- Park W, Kwon GH, Kim Y (2016) EEG response varies with lesion location in patients with chronic stroke. J Neuroeng Rehabil 13: 21. https://doi.org/10.1186/s12984-016-0120-2
- Goncharova II, McFarland DJ, Vaughan TM, Wolpaw JR (2003) EMG contamination of EEG: spectral and topographical characteristics. Clin Neurophysiol 114(9): 1580–1593. https://doi.org/10.1016/s1388-2457(03)00093-2
- Bartur G, Pratt H, Soroker N (2019) Changes in mu and beta amplitude of the EEG during upper limb movement correlate with motor impairment and structural damage in subacute stroke. Clin Neurophysiol 130(9): 1644–1651. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2019.06.008
- Remsik AB, Williams L, Jr Gjini K, Dodd K, Thoma J, Jacobson T, Walczak M, McMillan M, Rajan S, Young BM, Nigogosyan Z, Advani H, Mohanty R, Tellapragada N, Allen J, Mazrooyisebdani M, Walton LM, van Kan PLE, Kang TJ, Sattin JA, Prabhakaran V (2019) Ipsilesional Mu Rhythm Desynchronization and Changes in Motor Behavior Following Post Stroke BCI Intervention for Motor Rehabilitation. Front Neurosci 13: 53. https://doi.org/10.3389/fnins.2019.00053
- Ray AM, Figueiredo TDC, López-Larraz E, Birbaumer N, Ramos-Murguialday A (2020) Brain oscillatory activity as a biomarker of motor recovery in chronic stroke. Hum Brain Mapp 41(5): 1296–1308. https://doi.org/10.1002/hbm.24876
- Gueugneau N, Bove M, Avanzino L, Jacquin A, Pozzo T, Papaxanthis C (2013) Interhemispheric inhibition during mental actions of different complexity. PloS One 8(2): e56973. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0056973
- Armatas CA, Summers JJ, Bradshaw JL (1994) Mirror movements in normal adult subjects. J Clin Exp Neuropsychol 16(3): 405–413. https://doi.org/10.1080/01688639408402651
- Vasiliev A, Liburkina S, Kaplan A (2016) Lateralization of EEG patterns in humans when imagining hand movements in a brain-computer interface. Zh Vyssh Nerv Deiat 66(33): 302–302. https://doi.org/10.7868/S0044467716030126 38
- Mokienko O, Chernikova L, Frolov A, Bobrov P (2013) Movement imagination and its practical application. Zh Vyssh Nerv Deiat 63(2): 195–195. https://doi.org/10.7868/S0044467713020056
Дополнительные файлы