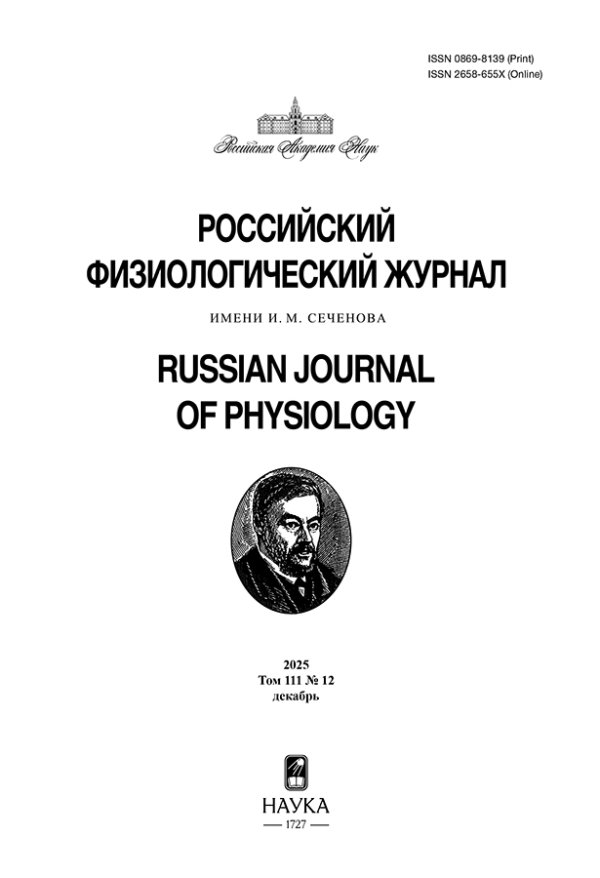Комплексное исследование эффектов беговой тренировки в колесе на нервную регуляцию частоты сердечных сокращений у крыс
- Авторы: Борзых А.А.1, Селиванова Е.К.2, Боровик А.С.1, Кузьмин И.В.2, Виноградова О.Л.1, Тарасова О.С.1,2
-
Учреждения:
- Институт медико-биологических проблем РАН
- Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
- Выпуск: Том 110, № 10 (2024)
- Страницы: 1701-1717
- Раздел: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-8139/article/view/274787
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869813924100095
- EDN: https://elibrary.ru/VREZAI
- ID: 274787
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Физическая тренировка в аэробном режиме нагрузки используется для предотвращения и коррекции многих нарушений в сердечно-сосудистой системе. Для исследования эффектов такой физической нагрузки используются различные способы тренировки грызунов, среди которых особый интерес представляет методика произвольной беговой нагрузки в колесе, которая по паттерну двигательной активности близка к естественной локомоции крыс и при этом лишена стрессирующего влияния. Целью данной работы было комплексное исследование эффектов беговой тренировки в колесе на нервную регуляцию частоты сердечных сокращений (ЧСС) у крыс. В возрасте 6 недель животных делили на две группы: тренировка (TR, свободный доступ к колесам, n = 11) и сидячий контроль (CON, n = 12). После 6-недельной тренировки проводили регистрацию ЭКГ у свободноподвижных крыс при помощи накожных электродов в спокойном состоянии, после блокады нервных влияний на сердце и при air-jet стрессе (4 мин). Анализ влияний автономной нервной системы проводили путем введения животным β1-адреноблокатора и М-холиноблокатора периферического действия, а также анализа вариабельности сердечного ритма с использованием методов спектрального и вейвлет-анализа. В спокойном состоянии у крыс группы TR по сравнению с группой CON наблюдалось снижение уровня ЧСС. Снижение ЧСС при введении атенолола (2 мг/кг) не различалось между группами, однако метилатропин (1 мг/кг) вызывал более значительное повышение ЧСС в группе TR, чем в группе CON. При совместном действии атенолола и метилатропина уровни ЧСС не различались между группами. У крыс группы TR наблюдалось увеличение вклада высокочастотных (0.75–3 Гц) колебаний в общую мощность спектра RR-интервала. Во время эмоционального (air-jet) стресса у крыс группы TR происходило более выраженное повышение ЧСС по сравнению с группой CON. Кроме того, в группе TR во время стресса наблюдалось снижение амплитуды высокочастотных колебаний сердечного ритма, у крыс группы CON такое снижение отсутствовало. Таким образом, произвольный бег крыс в колесе сопровождается увеличением парасимпатических влияний на сердце в спокойном состоянии, что проявляется как в изменении вариабельности сердечного ритма, так и в увеличении тахикардии при введении M-холинолитика. Умеренная брадикардия в покое обеспечивает возможность более выраженного повышения ЧСС при стрессе в результате подавления парасимпатических влияний на сердце.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Физические тренировки в аэробном режиме нагрузки (тренировки выносливости) эффективно применяются для профилактики и коррекции сердечно-сосудистых расстройств [1, 2]. Изучение механизмов влияния регулярной физической активности на функционирование сердца и сосудов часто проводят в экспериментах с использованием различных моделей тренировки лабораторных животных, среди которых особое место занимает произвольная беговая тренировка крыс в колесе [3]. Эта модель обладает рядом очевидных преимуществ по сравнению с традиционно используемой беговой тренировкой крыс на тредбане: она имитирует естественный паттерн двигательной активности животных (как и в природе, в колесе крысы перемещаются короткими перебежками [4, 5]). Кроме того, тренировка в колесе не сопряжена со стрессированием животных – в отличие от принуждения к бегу она не приводит к повышению содержания кортикостерона в крови [6, 7]. Произвольная тренировка в колесе обладает кардиопротективным действием [8, 9], в том числе за счет влияния на регуляцию коронарного русла [10].
Один из наиболее ярких и сравнительно быстро развивающихся эффектов аэробной физической тренировки – это снижение уровня ЧСС в спокойном состоянии [11, 12]. Такую «брадикардию покоя» обычно связывают с повышением парасимпатических и/или снижением симпатических кардиотропных влияний [11, 13–15]. Для оценки вагосимпатического баланса в регуляции сердца можно использовать два комплементарных подхода: анализ спонтанной вариабельности сердечного ритма и регистрацию изменений ЧСС при фармакологической блокаде нервных влияний на сердце. Первый их них позволяет оценить вариации сердечного ритма, возникающие в результате нерегулярности разрядной активности в экстракардиальных нервных путях, а второй – итог взаимодействия тонических влияний двух отделов автономной нервной системы. В результате физической тренировки у лабораторных крыс описаны менее выраженное снижение ЧСС при блокаде симпатических влияний [16, 17], более выраженное повышение ЧСС под действием М-холинолитиков [17–19], а также увеличение мощности высокочастотных (связанных с дыхательными экскурсиями) колебаний сердечного ритма [17, 20], которые имеют парасимпатическую природу [21].
Согласно альтернативной точке зрения, основным механизмом снижения ЧСС в результате аэробной физической тренировки служит изменение экспрессии ионных каналов, проводящих пейсмейкерные токи в клетках синоатриального узла сердца [22, 23]. В этом случае снижение ЧСС наблюдается и в условиях полной блокады нервных влияний (снижение т. н. «собственной» ЧСС). Однако, по данным многих работ, брадикардия покоя далеко не всегда связана со снижением собственной ЧСС [18–20].
Есть основания полагать, что механизмы, за счет которых происходит изменение деятельности сердца при аэробной тренировке, могут зависеть от режима тренировочной нагрузки: при умеренной нагрузке адаптация сердца к физической активности происходит по регуляторному типу, а при высокой – за счет ремоделирования синоатриального узла. Как правило, снижение собственной ЧСС наблюдается при использовании интенсивных тренировочных нагрузок, в этих условиях влияние вагуса на сердечный ритм может не изменяться [22] или даже быть сниженным [24]. Следует отметить, что изменения «фазического» и тонического компонентов нервной регуляции сердца в результате физической тренировки не всегда одинаковы: например, тренировка на тредбане может сопровождаться снижением реакции ЧСС на введение β-адреноблокатора в отсутствие характерных для снижения симпатической активности изменений вариабельности сердечного ритма [16]. В целом вопрос о механизмах снижения ЧСС в результате аэробной физической тренировки до сих пор не закрыт, как следует из его обсуждения в сравнительно недавно опубликованном обзоре [11] и экспериментальной статье [13].
Таким образом, характеристика изменений нервной регуляции ритма сердца в той или иной экспериментальной модели аэробной физической тренировки должна учитывать различные аспекты такой регуляции. Следует отметить, что в предыдущих работах с использованием такой привлекательной модели как произвольная беговая тренировка, как правило, исследовался только один из аспектов регуляции сердца. Наиболее полными по набору методических подходов к исследованию изменений нервной регуляции сердечного ритма при произвольной тренировке в колесе являются две работы [9, 25]. Однако в них обеих часть исследований была выполнена в условиях анестезии, к тому же работа [25] выполнена на мышах, которые отличаются от крыс по уровню ЧСС и регуляции этого показателя, особенно в потенциально стрессогенных условиях [26]. В связи с этим целью нашей работы являлось комплексное изучение эффектов произвольной беговой тренировки в колесе на нервную регуляцию сердца крыс: по уровню ЧСС и показателям вариабельности сердечного ритма в спокойном состоянии, а также по изменениям ЧСС при блокаде кардиотропных нервных влияний и в условиях эмоционального стресса.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Животные и их содержание
В опытах использовали самцов крыс линии Вистар, полученных из вивария Института медико-биологических проблем РАН. Животных содержали в помещении вивария с контролируемой температурой (21–23 ºC) и световым циклом 12 ч «день» (освещенность ~50 лк, газоразрядная лампа 2700 К) – 12 ч «ночь» (менее 1 лк, свет красной лампы), включение освещения в 9-00, выключение в 21-00. Воду и стандартный корм для грызунов (ООО «Лабораторкорм», Москва) крысы получали ad libitum.
Методика тренировки
В начале эксперимента возраст животных составлял 5 недель (по нашим наблюдениям, в этом возрасте крысы имеют более высокую мотивацию к бегу в колесе). Крысы были распределены на две группы («тренировка» – TR, n = 11; «контроль» – CON, n = 12) и рассажены по две (или три) в клетки стандарта Т3 (46 х 30 х 16 см), снабженные беговыми колесами (TR) или без колес (CON) – для адаптации к условиям эксперимента. В возрасте 6 недель животных рассаживали индивидуально, при этом крысы группы TR имели неограниченный доступ к беговым колесам (диаметр 29.6 см, длина окружности 93 см, ширина беговой поверхности 10 см).
Для регистрации и обработки данных во время тренировки крыс использовался разработанный нами аппаратно-программный комплекс [4, 5]. На колесе, диаметрально по отношению друг к другу, были установлены два магнита, что позволяло регистрировать каждый полуоборот колеса в момент прохождения магнита перед детектором. Для сбора и анализа данных использовали оригинальное программное обеспечение, которое обеспечивало непрерывный дистанционный контроль хода эксперимента через сеть интернет. Путем подсчета полуоборотов колеса в интервалах длительностью 5 с определяли пробег и время бега в течение суток. Также вычисляли мгновенные значения скорости бега (учитывали только 5-с интервалы, в которых крысы проявляли беговую активность). Анализ скорости бега проводили только для темного времени суток, когда крысы были активными: в данном эксперименте, как и в предыдущих [4, 5], дневной пробег составил менее 2% от ночного. Длительность тренировочного цикла составила 6 недель. По данным литературы, такая длительность тренировки достаточна для снижения уровня ЧСС в спокойном состоянии [9, 20].
Регистрация ЭКГ у свободноподвижных крыс
Регистрацию ЭКГ проводили во второй половине суток (между 1200 и 1800) при ограничении звуковых раздражителей, уровень освещенности комнаты соответствовал привычному для крыс в дневное время. Крыс помещали индивидуально в клетки с размерами 30 x 30 x 30 см, где они могли свободно перемещаться. В большинстве случаев ЭКГ регистрировали одновременно у двух крыс группы CON и двух крыс группы TR, чтобы учесть возможные изменения регуляции сердечного ритма в течение суток.
Для регистрации использовали накожные электроды Skintact F-301, которые наклеивали на предварительно (за сутки до регистрации) выбритые участки поверхности грудной клетки в положении, соответствующем II стандартному отведению [27]. Затем на крысу надевали шлейку с клеммами для электродов и разъемом для соединения с усилителем. Усиленный в полосе частот от 3 до 300 Гц сигнал регистрировали на компьютере с использованием аналого-цифрового преобразователя USB-6211 (National Instruments, США) и оригинального программного обеспечения, разработанного в среде программирования LabView 2011 (National Instruments, США) докт. биол. наук Е. В. Лукошковой. Частота опроса сигнала составляла 1000 Гц.
После подключения к установке крыс адаптировали к экспериментальной обстановке не менее 30 мин. Далее эксперимент включал три этапа:
запись ЧСС в спокойном состоянии (30–60 мин) – для анализа спонтанной вариабельности ритма сердца;
исследование изменений ЧСС при эмоциональном стрессе, который моделировали подачей струи воздуха на холку крысы (air-jet стресс). Такое воздействие вызывает у крыс ориентировочно-оборонительную реакцию и изменение активности автономной нервной системы, что проявляется в повышении ЧСС и перераспределении минутного объема сердца в пользу скелетной мускулатуры [28]. Воздух поступал в течение 4 мин от компрессора через трубку с внутренним диаметром 3 мм. Скорость потока воздуха подбирали так, чтобы он производил легкое шипение, а струя из трубки приподнимала шерсть на холке крысы;
исследование изменений ЧСС после введения блокатора М-холинорецепторов (метилатропин, 1 мг/кг), а затем блокатора β1-адренорецепторов (атенолол, 2 мг/кг). Этот этап начинали через 30 мин после air-jet стресса (после восстановления уровня ЧСС). Растворы блокаторов вводили подкожно в области холки в объеме 500 мкл/кг, затем регистрировали ЭКГ в течение 15 мин. Следует отметить, что в отличие от атропина метилатропин не проникает через гематоэнцефалический барьер, то есть его влияние направлено только на периферические М-холинорецепторы [29, 30].
После регистрации ЭКГ крыс возвращали в домашние клетки.
Анализ записей ЭКГ
Анализ результатов проводили с использованием оригинального программного обеспечения Data Processing in Physiology and Pharmacology, разработанного в среде программирования LabView 2011 (National Instruments, США) докт. биол. наук Е. В. Лукошковой. На записи ЭКГ идентифицировали R-зубцы, соответствующие индивидуальным сердечным циклам, ошибки программной идентификации устраняли в режиме ручного редактирования.
При спектральном анализе колебаний RR-интервала записи ЭКГ длительностью 30–60 мин разбивали на полуперекрывающиеся сегменты длительностью 50 с. Каждый из сегментов приводили к нулевому среднему, проводили линейную интерполяцию поударных значений RR-интервала и вторичный опрос данных с частотой 20.48 Гц (1024 значений в каждом 50-секундном сегменте). Затем для каждого сегмента вычисляли спектр мощности с использованием быстрого преобразования Фурье, полученные спектры усредняли. Колебания RR-интервала анализировали в трех диапазонах: очень низкочастотном (VLF, 0.05–0.25 Гц), низкочастотном (LF, 0.25–0.6 Гц) и высокочастотном (HF, 0.75–3 Гц) [31, 32]. Мощность колебаний в этих частотных диапазонах вычисляли в процентах от общей мощности спектра (в диапазоне 0.005–3 Гц), такое нормирование минимизирует влияние среднего уровня RR-интервала на вариабельность этого показателя [33].
При анализе изменений ЧСС во время air-jet стресса вычисляли поминутные значения ЧСС, а также разность значений ЧСС для двух интервалов длительностью 4 мин: во время воздействия и непосредственно перед ним. Динамику высокочастотных (связанных с дыханием) колебаний ЧСС во время стресса оценивали с помощью вейвлет-анализа, который проводили с использованием оригинальной программы в среде MATLAB (MathWorks, США). После линейной интерполяции поударных значений ЧСС проводили вторичный опрос данных с частотой 10 Гц, а затем – дискретное вейвлет-преобразование данных с использованием вейвлета Symlet восьмого порядка [34].
Эффекты метилатропина и атенолола оценивали по разности значений ЧСС для двух интервалов длительностью 5 мин: с 10-й по 14-ю мин после введения блокатора (к этому времени исчезала «острая» реакция крыс на процедуру инъекции и ЧСС стабилизировалась) и перед введением блокатора.
Заключительный этап эксперимента
В конце эксперимента всех крыс анестезировали СО2 и декапитировали гильотиной. Брали образцы крови, выделяли и взвешивали отделы сердца, скелетные мышцы передних и задних конечностей, а также надпочечники.
Образцы крови выдерживали 20 мин при комнатной температуре и 40 мин в холодильнике (4 °С), затем центрифугировали (4300 g, 15 мин), отбирали сыворотку и хранили ее при –20 °С. Содержание общего холестерина и триглицеридов в сыворотке измеряли в автоматическом анализаторе (A-25 Biosystems, Испания).
С целью оценки влияния беговой тренировки на активность митохондриальных ферментов в локомоторных мышцах определяли активность цитратсинтазы в трехглавой мышце плеча, которая активно рекрутируется при беге в колесе [35]. Активность фермента измеряли по методу Srere [36], полученные значения нормировали на концентрацию белка, измеренную с использованием бицинхоновой кислоты (метод BCA). Такие измерения проводили у 6 крыс из каждой группы, выборки формировали случайным образом.
Статистический анализ данных
Распределение крыс на группы проводили с использованием программы GraphPad (https://www.graphpad.com/quickcalcs/randomize2/). Объем выборок при планировании эксперимента (11–12 крыс в группе) выбирали с использованием программы G*Power 3.1.9.7. [37] при уровне значимости 0.05 и вероятности ошибки второго рода 0.8, величину эффекта вычисляли по изменению ЧСС и вариабельности этого показателя у крыс в раннее опубликованных работах [9, 20].
Статистическую обработку результатов проводили в программе GraphPad Prism 8.0 (GraphPad Software, США). Соответствие распределения данных нормальному было подтверждено с использованием критерия Шапиро – Уилка. Данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения (в случае нормального распределения), кроме показателей беговой активности крыс и данных по активности цитратсинтазы, распределение которых отличалось от нормального (представлены в виде медианы и межквартильного размаха), n – количество крыс в выборке. В зависимости от характера распределения данных использовали непараметрические критерии (Фридмана и Манна – Уитни) или параметрические (непарный t-критерий Стьюдента или двухфакторный дисперсионный анализ для повторных измерений с апостериорным тестом Сидака). Использованные статистические критерии указаны при представлении результатов в тесте, в примечании к таблице и в подписях на рисунках. Различия считали статистически значимыми при p < 0.05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Характеристика беговой активности крыс
Данные по динамике показателей беговой активности крыс представлены на рис. 1. Пробег за сутки составлял около 2–3 км, явных изменений этого показателя в течение тренировочного цикла не наблюдалось (рис. 1a). Скорость бега крыс в ходе тренировки несколько повышалась (рис. 1b). Следует также отметить, скорость бега в выборке крыс варьировала меньше, чем суточный пробег (рис. 1a, b).
Рис. 1. Динамика показателей беговой активности (a – суточный пробег, b – скорость бега) и массы тела (c) крыс в течение эксперимента, а также активность цитратсинтазы в трехглавой мышце плеча (d). CON – контрольная группа, TR – тренированная группа. Данные представлены в виде медианы и межквартильного размаха, в скобках указано количество животных в выборке. #p < 0.05 по сравнению со значением на первой неделе тренировочного цикла (критерий Фридмана); *p < 0.05 (критерий Манна – Уитни).
Влияние тренировки на массу тела, массу органов и показатели крови
Масса тела двух групп крыс в ходе эксперимента не различалась (рис. 1с), хотя тренировка проводилась в период интенсивного роста и полового созревания животных. В конце эксперимента между группами CON и TR не выявлено различий по массе скелетных мышц, желудочков сердца и надпочечников (табл. 1). Биохимические показатели сыворотки крови (содержание общего холестерина и триглицеридов) также не различались между двумя группами крыс (табл. 1). Вместе с тем активность цитратсинтазы в трехглавой мышце плеча в результате тренировки в группе TR была значимо повышенной по сравнению с группой CON (рис. 1d).
Таблица 1. Масса органов и биохимические показатели крови у двух групп крыс в конце эксперимента
Показатели | Контроль (n = 12) | Тренировка (n = 11) |
Медиальная головка икроножной мышцы, мг/100 г | 231.9 ± 27.3 | 236.3 ± 17.2 |
Медиальная головка трехглавой мышцы плеча, мг/100 г | 39.8 ± 10.0 | 40.2 ± 12.2 |
Правый желудочек, мг/100 г | 51.5 ± 4.2 | 52.9 ± 5.0 |
Левый желудочек (с перегородкой), мг/100 г | 226.5 ± 10.4 | 232.5 ± 18.9 |
Надпочечники (левый + правый), мг/100 г | 15.3 ± 4.5 | 16.4 ± 3.0 |
Общий холестерин, ммоль/л | 2.44 ± 0.24 | 2.51 ± 0.13 |
Триглицериды, ммоль/л | 2.20 ± 0.55 | 2.04 ± 0.93 |
Примечание. Масса органов приведена к 100 г массы тела. Данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения.
Влияние тренировки на нервную регуляцию ритма сердца в покое
Уровень ЧСС в покое в группе TR был ниже, чем в группе CON (в среднем на 27 уд/мин) (рис. 2a). Наряду со снижением ЧСС для группы TR было характерно повышение мощности колебаний RR-интервала на частоте около 1.5 Гц (соответствует частоте дыхания) (рис. 2b). Общая мощность спектра RR-интервала не различалась между двумя группами крыс (CON 33.5 ± 15.6 мс2, TR 35.7 ± 18.0 мс2, p > 0.05, непарный критерий Стьюдента). Также между двумя группами не наблюдалось различий по относительной мощности спектра RR-интервала в очень низкочастотном и низкочастотном диапазонах (рис. 2c). Вместе с тем относительная мощность колебаний RR-интервала в высокочастотном диапазоне была повышенной после тренировки (рис. 2c). Соответственно соотношение мощности высокочастотных и низкочастотных колебаний RR-интервала, характеризующее вагосимпатический баланс в регуляции сердца, было значительно выше в группе TR (рис. 2d).
Рис. 2. Значения ЧСС и показателей спонтанной вариабельности сердечного ритма в спокойном состоянии у контрольной группы крыс (CON, n = 12) и тренированной группы крыс (TR, n = 11). На рисунках приведены результаты анализа записей ЭКГ длительностью 30–60 мин: значения ЧСС (a), спектры мощности RR-интервала (каждая линия – результат усреднения спектров мощности для всех крыс в группе) (b), значения мощности спектра в трех частотных диапазонах (c) и отношение значений мощности высокочастотных и низкочастотных колебаний (d). Частотные диапазоны: VLF – очень низкочастотный (0.05–0.25 Гц), LF – низкочастотный (0.25–0.6 Гц), HF – высокочастотный (0.75–3 Гц). Данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения. *p < 0.05 (непарный критерий Стьюдента).
Влияние тренировки на регуляцию сердечного ритма при стрессе
Стрессирование животных путем подачи струи воздуха (air-jet stress) приводило к выраженному повышению ЧСС (рис. 3a). Во время 4-минутного интервала времени, предшествовавшего стрессу, ЧСС в группе TR была ниже, чем в группе CON (370 ± 27 уд/мин по сравнению с 398 ± 28 уд/мин, p < 0.05 по непарному критерию Стьюдента), тогда как во время 4-минутного стресса различий между группами не наблюдалось (459 ± 77 уд/мин и 466 ± 54 уд/мин, p > 0.05 по непарному критерию Стьюдента). Таким образом, повышение ЧСС в ответ на стрессирующее воздействие у тренированных крыс было более выраженным, чем в контроле (рис. 3b).
Изменения вариабельности сердечного ритма при стрессе также различались у двух групп крыс. Использование метода вейвлет-анализа позволило нам охарактеризовать динамику изменения высокочастотных колебаний RR-интервала во времени. Было показано, что при стрессе амплитуда высокочастотных (связанных с дыханием) колебаний ЧСС снижается в группе TR, но не изменяется в группе CON (рис. 3c, d).
Рис. 3. Влияние air-jet стресса на ЧСС и амплитуду высокочастотных колебаний ЧСС у контрольных (CON, n = 10) и тренированных (TR, n = 10) крыс. На рисунках приведены динамика ЧСС (a), изменение ЧСС при стрессе (разность значений для двух 4-минутных интервалов – во время подачи воздуха и непосредственно перед воздействием) (b), динамика амплитуды высокочастотных колебаний ЧСС (каждая линия – результат усреднения данных для всех крыс в экспериментальной группе) (c) и значения амплитуды высокочастотных колебаний ЧСС, усредненные для двух 4-минутных интервалов – до воздействия (Bl) и во время стресса (Air) (d). Период air-jet стресса (4 мин) отмечен на рисунках (a) и (c) горизонтальной линией. На рисунках a, b и d данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения. *p < 0.05 (непарный критерий Стьюдента); #p < 0.05 (двухфакторный дисперсионный анализ для повторных измерений с апостериорным тестом Сидака).
Влияние тренировки на изменения ЧСС при блокаде нервных влияний на сердце
Повышение ЧСС при введении метилатропина, который блокирует только периферические M-холинорецепторы [29, 30], у крыс группы TR было более значительным, чем в группе CON (рис. 4a). Реакции на блокаду β1-адренорецепторов атенололом после тренировки не изменялись (рис. 4b). Следует отметить, что при блокаде влияния обоих отделов автономной нервной системы (введение атенолола на фоне действия атропина) уровни ЧСС у двух групп крыс не различались: CON – 415 ± 26 уд/мин, TR – 397 ± 22 уд/мин (p > 0.05, непарный критерий Стьюдента).
Рис. 4. Влияние блокады парасимпатических и симпатических нервных влияний на ЧСС у контрольных (CON, n = 12) и тренированных (TR, n = 11) крыс. На рисунках приведены изменения ЧСС после введения метилатропина (a) и атенолола на фоне действия метилатропина (b). Данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения. *p < 0.05 (непарный критерий Стьюдента).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Произвольный бег в колесе является моделью аэробной физической нагрузки умеренной интенсивности
Мы исследовали изменения регуляции сердечного ритма у крыс, которые в течение довольно длительного времени (6 недель) бегали в колесе без принуждения. Величина пробега в нашей работе находилась в среднем диапазоне значений: по данным литературы, суточный пробег крыс в колесе может варьировать от 1 [6, 38] до 6–7 км и более [6, 38]. Пробег значительно варьировал в группе крыс, тогда как скорость бега различалась меньше. Следует отметить, что скорость произвольного бега отражает функциональное состояние организма: например, у крыс с сердечной недостаточностью скорость бега в колесе в полтора раза ниже, чем у здоровых животных [39].
Нами не было выявлено различий по динамике массы тела, массе органов и показателям липидного обмена в крови между тренированной и контрольной группами крыс, что говорит об умеренном уровне беговой нагрузки в нашей работе. Вместе с тем после тренировки в локомоторной мышце наблюдалось повышение активности цитратсинтазы, что говорит о повышении окислительных возможностей мышц, характерном для тренировки выносливости [40]. Аэробный характер нагрузки при произвольной тренировке может поддерживаться на основе отрицательной обратной связи: закисление мышечного интерстиция в результате повышенной продукции лактата может вызывать у животных неприятные ощущения в мышцах и прекращение бега.
Произвольная беговая тренировка в колесе не сопровождается снижением ЧСС в условиях блокады нервных влияний на сердце
В соответствии с представлениями о влиянии регулярной аэробной нагрузки на деятельность сердца [11–15] в нашей работе уровень ЧСС в спокойном состоянии у тренированных крыс был сниженным. При тренировке в колесе снижение ЧСС в спокойном состоянии было описано ранее [9, 25], хотя и не во всех работах [38, 41]. Возможно, влияние произвольной тренировки на уровень ЧСС в покое определяется уровнем беговой нагрузки, который зависит от мотивации животных к бегу.
Различие в уровне ЧСС между тренированной и контрольной группами крыс исчезало после совместной блокады симпатических и парасимпатических кардиотропных влияний, то есть «собственная» ЧСС после тренировки не изменялась. Сходные данные были получены в работах с тренировкой крыс на тредбане [18, 20] или при аэробной нагрузке плаванием [19]. При произвольной тренировке грызунов «собственная» ЧСС также не изменяется [25], но может и снижаться [9].
Таким образом, в нашей работе умеренная беговая нагрузка умеренной интенсивности не оказывала влияния на собственную биоэлектрическую активность синоатриального узла, но, как будет рассмотрено далее, сопровождалась изменениями нервной регуляции сердца.
Произвольная беговая тренировка в колесе сопровождается усилением вагусных влияний на сердце
Опираясь на многочисленные данные литературы [11–15], мы предположили, что снижение уровня ЧСС у тренированных крыс в наших экспериментах также связано с повышением вагусных влияний на сердце. Действительно, у тренированных крыс наблюдалось увеличение высокочастотных (связанных с дыханием) колебаний RR-интервала. Мощность колебаний сердечного ритма мы оценивали относительно общей мощности спектра, что позволило учесть различие в длительности RR-интервала между двумя группами крыс: как известно, чем больше среднее значение RR-интервала, тем выше его вариабельность [33, 42, 43]. Высокочастотные колебания сердечного ритма синхронны с дыхательными движениями и являются отражением респираторной синусовой аритмии, мощность таких колебаний значительно снижается после блокады парасимпатических влияний [34, 44]. Напротив, повышение мощности высокочастотных колебаний сердечного ритма связывают с усилением кардиотропных вагусных влияний [14, 15]. В экспериментах на животных повышение респираторной синусовой аритмии было показано после принудительной физической тренировки плаванием [17] или на тредбане [20]. После длительной беговой нагрузки в колесе мощность высокочастотных колебаний сердечного ритма также повышается [9, 25], но не изменяется, если пробег крыс очень низкий – менее 1 км за сутки [38].
В низкочастотном диапазоне колебания сердечного ритма у крыс, как и у человека [45], имеют смешанную симпато-парасимпатическую природу: они уменьшаются при блокаде как симпатических, так и парасимпатических влияний [34]. Соответственно отношение значений мощности высокочастотных (парасимпатической природы [34]) и низкочастотных («смешанной» природы) колебаний сердечного ритма может служить мерой вагосимпатического баланса в регуляции сердца. У тренированных крыс это отношение было значительно повышенным, что говорит об усилении вагусной регуляции сердца после бега в колесе.
Повышение ЧСС под действием М-холинолитика также увеличивалось под влиянием произвольной беговой тренировки. Такие изменения уже были описаны для крыс при тренировке плаванием [17, 19] и на тредбане [18, 46]. Однако, насколько нам известно, после беговой тренировки в колесе увеличение тахикардии, вызванной атропином, ранее было показано только у мышей, причем в состоянии наркоза [25].
По данным недавно опубликованной работы, тренировка в колесе в течение 6 недель сопровождается повышением активности преганглионарных парасимпатических нейронов в фоне, а также при активации механорецепторов в мышцах при их сокращениях, вызванных электрическим раздражением седалищного нерва (эксперименты приводились на наркотизированных крысах) [13]. Таким образом, произвольная тренировка может изменять функционирование центрального звена парасимпатической регуляции сердца. Состояние периферического звена при аэробной тренировке также может изменяться: после бега на тредбане реакции ЧСС на раздражение эфферентных волокон вагуса уменьшаются при использовании высокой тренировочной нагрузки [24], но становятся более выраженными при умеренной нагрузке [18]. Можно предположить, что «умеренная» тренировка в колесе также приводит к повышению эффективности парасимпатической нейропередачи в сердце, но напрямую этот вопрос пока не исследован.
Таким образом, произвольная тренировка крыс в колесе сопровождается усилением вагусной регуляции сердечного ритма. Очевидных изменений симпатической регуляции сердца в нашей работе не наблюдалось, как и в других работах [18, 46], хотя при более интенсивной тренировочной нагрузке симпатический тонус может снижаться [17, 25].
Произвольная тренировка в колесе способствует расширению диапазона регуляции ЧСС при функциональной нагрузке
Известно, что у людей снижение базального уровня ЧСС в результате тренировки выносливости создает резерв для более выраженной тахикардии при функциональной нагрузке, так как максимальная ЧСС остается неизменной [14]. В нашей работе повышение ЧСС при оборонительной реакции, вызванной эмоциональным (air-jet) стрессом, у тренированных крыс также было более выраженным, чем в контроле. В ранее опубликованной работе сходные изменения регуляции сердца (снижение ЧСС в покое и увеличение реакции ЧСС на стресс) у тренированных к бегу в колесе крыс наблюдались при иммобилизации в рестрейнере [9]. Следует отметить, что если уровень ЧСС в спокойном состоянии при тренировке в колесе не снижается, реакции ЧСС на стресс у тренированных крыс могут быть такими же или даже меньше, чем в контроле [41]. Причиной увеличения реакции ЧСС на стресс у тренированных крыс в нашей работе могло служить более выраженное снижение вагусной активности, уровень которой в спокойном состоянии после тренировки был выше. С такой точкой зрения согласуются результаты проведенного нами вейвлет-анализа, который позволяет оценивать временную динамику амплитуды колебаний определенной частоты [34]. Во время стресса у тренированных крыс, в отличие от контрольных, происходило снижение респираторной синусовой аритмии, что указывает на подавление влияний вагуса на сердце. Такое снижение могло происходить в результате формирования ориентировочно-оборонительной реакции, которая часто сопряжена с напряжением локомоторных мышц и активацией мышечного механорефлекса, влияние которого угнетает вагусную активность [13].
Подводя итог полученным результатам, можно сказать, что беговая тренировка крыс в колесе не вызывает ремоделирования самого сердца (его гипертрофии или изменения собственной биоэлектрической активности клеток синоатриального узла), но сопровождается изменениями нервной регуляции сердечного ритма, характерными для аэробной тренировки умеренной интенсивности. Такая тренировка приводит к усилению кардиотропных парасимпатических влияний в покое и, следовательно, способствует расширению диапазона изменений ритма сердца при функциональной нагрузке. С учетом данных о связи вагусного тонуса с аэробной работоспособностью организма [47] и о его кардиопротекторном влиянии [48], можно полагать, что такой «регуляторный» тип адаптации благоприятен для функционирования сердца. Следует отметить, что при сердечно-сосудистых патологиях изменения нервной регуляции сердца развиваются при использовании менее интенсивной тренировочной нагрузки, чем в здоровом организме [16, 49, 50], порог для развития нежелательного состояния перетренированности в этом случае также ниже [51]. Проведение тренировок в режиме произвольного выбора нагрузки самим индивидуумом (в зависимости от его текущего функционального состояния) должно снижать риск развития состояния перетренированности. Соответственно использование экспериментальной модели такой тренировки (бег крыс в колесе) может служить информативным подходом к изучению механизмов влияния произвольной физической тренировки на функционирование сердечно-сосудистой и других систем организма человека.
ВКЛАДЫ АВТОРОВ
Идея работы и планирование эксперимента (А. А. Б., Е. К. С., О. Л. В., О. С. Т.), сбор данных (А. А. Б., Е. К. С., И. В. К., О. С. Т.), обработка данных (А. А. Б., Е. К. С., И. В. К., А. С. Б., О. С. Т.), написание и редактирование статьи (А. А. Б., Е. К. С., И. В. К., А. С. Б., О. Л. В., О. С. Т.).
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Данная работа финансировалась за счет средств бюджета Российского научного фонда фундаментальных исследований (проект № 23-15-00331). Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Эксперименты с животными проводились в соответствии с международными рекомендациями по проведению биомедицинских исследований с лабораторными животными и были одобрены Комитетом по биомедицинской этике Института медико-биологических проблем РАН (протокол № 648 от 28.09.2023).
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
Об авторах
А. А. Борзых
Институт медико-биологических проблем РАН
Email: ost.msu@gmail.com
Россия, Москва
Е. К. Селиванова
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Email: ost.msu@gmail.com
Россия, Москва
А. С. Боровик
Институт медико-биологических проблем РАН
Email: ost.msu@gmail.com
Россия, Москва
И. В. Кузьмин
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Email: ost.msu@gmail.com
Россия, Москва
О. Л. Виноградова
Институт медико-биологических проблем РАН
Email: ost.msu@gmail.com
Россия, Москва
О. С. Тарасова
Институт медико-биологических проблем РАН; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Автор, ответственный за переписку.
Email: ost.msu@gmail.com
Россия, Москва; Москва
Список литературы
- Li G, Li J, Gao F (2020) Exercise and Cardiovascular Protection. Adv Exp Med Biol 1228: 205–216. https://doi.org/10.1007/978-981-15-1792-1_14
- Ruegsegger GN, Booth FW (2018) Health Benefits of Exercise. Cold Spring Harb Perspect Med 8. https://doi.org/10.1101/CSHPERSPECT.A029694
- Poole D, Copp S, Colburn T, Craig J, Allen D, Sturek D, O’Leary D, Zucker I, Musch T (2020) Guidelines for animal exercise and training protocols for cardiovascular studies. Am J Physiol Heart Circ Physiol 318: H1100–H1138. https://doi.org/10.1152/AJPHEART.00697.2019
- Borzykh AA, Kuzmin IV, Nesterenko AM, Selivanova EK, Martyanov AA, Nikolaev GM, Mamonov PA, Sharova AP, Tarasova OS (2017) Dynamics of rats’ voluntary run characteristics following 8 weeks of training. Aviakosmich Ekol Med 51: 66–73. https://doi.org/10.21687/0233-528X-2017-51-3-66-73
- Borzykh AA, Gaynullina DK, Shvetsova AA, Kiryukhina OO, Kuzmin IV, Selivanova EK, Nesterenko AM, Vinogradova OL, Tarasova OS (2022) Voluntary wheel exercise training affects locomotor muscle, but not the diaphragm in the rat. Front Physiol 13: 1003073. https://doi.org/10.3389/fphys.2022.1003073
- Sato C, Tanji K, Shimoyama S, Chiba M, Mikami M, Koeda S, Sumigawa K, Akahira K, Yamada J (2020) Effects of voluntary and forced exercises on motor function recovery in intracerebral hemorrhage rats. Neuroreport 31: 189–196. https://doi.org/10.1097/WNR.0000000000001396
- Ke Z, Yip SP, Li L, Zheng X-X, Tong K-Y (2011) The effects of voluntary, involuntary, and forced exercises on brain-derived neurotrophic factor and motor function recovery: a rat brain ischemia model. PLoS One 6: e16643. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0016643
- Pósa A, Szabó R, Kupai K, Baráth Z, Szalai Z, Csonka A, Veszelka M, Gyöngyösi M, Radák Z, Ménesi R, Pávó I, Berkó AM, Varga C (2015) Cardioprotective effects of voluntary exercise in a rat model: role of matrix metalloproteinase-2. Oxid Med Cell Longev 2015: 876805. https://doi.org/10.1155/2015/876805
- Beig MI, Callister R, Saint DA, Bondarenko E, Walker FR, Day TA, Nalivaiko E (2011) Voluntary exercise does not affect stress-induced tachycardia, but improves resistance to cardiac arrhythmias in rats. Clin Exp Pharmacol Physiol 38: 19–26. https://doi.org/10.1111/j.1440-1681.2010.05456.x
- Gaynullina DK, Borzykh AA, Sofronova SI, Selivanova EK, Shvetsova AA, Martyanov AA, Kuzmin IV, Tarasova OS (2018) Voluntary exercise training restores anticontractile effect of NO in coronary arteries of adult rats with antenatal/early postnatal hypothyroidism. Nitric Oxide 74: 10–18. https://doi.org/10.1016/j.niox.2018.01.001
- Gourine AV, Ackland GL (2019) Cardiac vagus and exercise. Physiology 34: 71–80. https://doi.org/10.1152/physiol.00041.2018
- Carnevali L, Sgoifo A (2014) Vagal modulation of resting heart rate in rats: the role of stress, psychosocial factors, and physical exercise. Front Physiol 5: 118. https://doi.org/10.3389/fphys.2014.00118
- Korsak A, Kellett DO, Aziz Q, Anderson C, D’Souza A, Tinker A, Ackland GL, Gourine AV (2023) Immediate and sustained increases in the activity of vagal preganglionic neurons during exercise and after exercise training. Cardiovasc Res 119: 2329–2341. https://doi.org/10.1093/cvr/cvad115
- Coote JH (2010) Recovery of heart rate following intense dynamic exercise. Exp Physiol 95: 431–440. https://doi.org/10.1113/expphysiol.2009.047548
- Coote JH, White MJ (2015) CrossTalk proposal: Bradycardia in the trained athlete is attributable to high vagal tone. J Physiol 593: 1745–1747. https://doi.org/10.1113/jphysiol.2014.284364
- Neto OB, de Sordi CC, da Mota GR, Marocolo M, Chriguer RS, da Silva VJD (2017) Exercise training improves hypertension-induced autonomic dysfunction without influencing properties of peripheral cardiac vagus nerve. Auton Neurosci Basic Clin 208: 66–72. https://doi.org/10.1016/j.autneu.2017.09.012
- Tezini GCSV, Dias DPM, Souza HCD (2013) Aerobic physical training has little effect on cardiovascular autonomic control in aging rats subjected to early menopause. Exp Gerontol 48: 147–153. https://doi.org/10.1016/j.exger.2012.11.009
- Mizuno M, Kawada T, Kamiya A, Miyamoto T, Shimizu S, Shishido T, Smith SA, Sugimachi M (2011) Exercise training augments the dynamic heart rate response to vagal but not sympathetic stimulation in rats. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 300: 969–977. https://doi.org/10.1152/ajpregu.00768.2010
- Medeiros A, Oliveira EM, Gianolla R, Casarini DE, Negrão CE, Brum PC (2004) Swimming training increases cardiac vagal activity and induces cardiac hypertrophy in rats. Brazil J Med Biol Res 37: 1909–1917. https://doi.org/10.1590/S0100-879X2004001200018
- Hsu YC, Tsai SF, Yu L, Chuang JI, Wu F Sen, Jen CJ, Kuo YM (2016) Long-term moderate exercise accelerates the recovery of stress-evoked cardiovascular responses. Stress 19: 125–132. https://doi.org/10.3109/10253890.2015.1108305
- Vinogradova OL, Borovik AS, Zhedyaev RYu, Tarasova OS (2024) Respiratory sinus arrhythmia: physiological mechanisms and relationship with systemic blood pressure fluctuations. Human Physiology 50: 276–284. https://doi.org/10.1134/S0362119724700749
- D’Souza A, Bucchi A, Johnsen AB, Logantha SJRJ, Monfredi O, Yanni J, Prehar S, Hart G, Cartwright E, Wisloff U, Dobryznski H, Difrancesco D, Morris GM, Boyett MR (2014) Exercise training reduces resting heart rate via downregulation of the funny channel HCN4. Nat Commun 5:3775. https://doi.org/10.1038/ncomms4775
- D’Souza A, Sharma S, Boyett MR (2015) CrossTalk opposing view: Bradycardia in the trained athlete is attributable to a downregulation of a pacemaker channel in the sinus node. J Physiol 593: 1749–1751. https://doi.org/10.1113/jphysiol.2014.284356
- Negrao CE, Moreira ED, Santos MCLM, Farah VMA, Krieger EM (1992) Vagal function impairment after exercise training. J Appl Physiol 72: 1749–1753. https://doi.org/10.1152/jappl.1992.72.5.1749
- Lakin R, Guzman C, Izaddoustdar F, Polidovitch N, Goodman JM, Backx PH (2018) Changes in Heart Rate and Its Regulation by the Autonomic Nervous System Do Not Differ Between Forced and Voluntary Exercise in Mice. Front Physiol 9: 841. https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00841
- Andreev-Andrievskiy AA, Popova AS, Borovik AS, Dolgov ON, Tsvirkun DV, Custaud M, Vinogradova OL (2014) Stress-associated cardiovascular reaction masks heart rate dependence on physical load in mice. Physiol Behav 132: 1–9. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2014.03.033
- Тарасова ОС, Борзых АА, Кузьмин ИВ, Боровик АС, Лукошкова ЕВ, Шарова АП, Виноградова ОЛ, Григорьев АИ (2012) Динамика изменения частоты сердечных сокращений у крыс при ступенчатом изменении скорости бега по беговой дорожке. Рос физиол журн им ИМ Сеченова 98: 1372–1379. [Tarasova OS, Borzykh AA, Kuz’min IV, Borovik AS, Lukoshkova EV, Sharova AP, Vinogradova OL, Grigor’ev AI (2012) Dynamics of heart rate changes in rats following stepwise change of treadmill running speed. Russ J Physiol 98: 1372–1379. (In Russ)]. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23431767
- Zhang ZQ, Julien C, Barrès C (1996) Baroreceptor modulation of regional haemodynamic responses to acute stress in rat. J Auton Nerv Syst 60: 23–30. https://doi.org/10.1016/0165-1838(96)00023-9
- Witter A, Slangen JL, Terpstra GK (1973) Distribution of 3H-methylatropine in rat brain. Neuropharmacology 12: 835–841. https://doi.org/10.1016/0028-3908(73)90036-1
- Brezenoff H, Xiao Y-F, Vargas H (1988) A comparison of the central and peripheral antimuscarinic effects of atropine and methylatropine injected systemically and into the cerebral ventricles. Life Sci 42: 905–911. https://doi.org/10.1016/0024-3205(88)90389-x
- Cerutti C, Barres C, Paultre C (1994) Baroreflex modulation of blood pressure and heart rate variabilities in rats: assessment by spectral analysis. Am J Physiol Circ Physiol 266: H1993–H2000. https://doi.org/10.1152/ajpheart.1994.266.5.H1993
- Stauss HM (2007) Identification of blood pressure control mechanisms by power spectral analysis. Clin Exp Pharmacol Physiol 34: 362–368. https://doi.org/10.1111/j.1440-1681.2007.04588.x
- Sacha J (2014) Interaction between heart rate and heart rate variability. Ann Noninvasiv Electrocardiol 19: 207–216. https://doi.org/10.1111/anec.12148
- Negulyaev VO, Tarasova OS, Tarasova NV, Lukoshkova EV, Vinogradova OL, Borovik AS (2019) Phase synchronization of baroreflex oscillations of blood pressure and pulse interval in rats: the effects of cardiac autonomic blockade and gradual blood loss. Physiol Meas 40: 054003. https://doi.org/10.1088/1361-6579/ab10d6
- Cohen AH, Gans C (1975) Muscle activity in rat locomotion: movement analysis and electromyography of the flexors and extensors of the elbow. J Morphol 146: 177–196. https://doi.org/10.1002/jmor.1051460202
- Srere PA (1969) Citrate Synthase. In: Methods in Enzymology. Acad Press. New York. 3–11.
- Faul F, Erdfelder E, Lang AG, Buchner A (2007) G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behav Res Methods 39: 175–191. https://doi.org/10.3758/BF03193146
- Kumae T (2012) Assessment of training effects on autonomic modulation of the cardiovascular system in mature rats using power spectral analysis of heart rate variability. Environ Health Prev Med 17: 415–422. https://doi.org/10.1007/s12199-012-0272-z
- Schultz RL, Kullman EL, Waters RP, Huang H, Kirwan JP, Gerdes AM, Swallow JG (2013) Metabolic adaptations of skeletal muscle to voluntary wheel running exercise in hypertensive heart failure rats. Physiol Res 62: 361–369. https://doi.org/10.33549/physiolres.932330
- Hawley JA, Hargreaves M, Joyner MJ, Zierath JR (2014) Integrative biology of exercise. Cell 159: 738–749. https://doi.org/10.1016/j.cell.2014.10.029
- Morimoto K, Tan N, Nishiyasu T, Sone R, Murakami N (2000) Spontaneous wheel running attenuates cardiovascular responses to stress in rats. Pflugers Arch 440: 216–222. https://doi.org/10.1007/s004240000265
- Stauss HM (2014) Heart rate variability: Just a surrogate for mean heart rate? Hypertension 64: 1184–1186. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.114.03949
- Monfredi O, Lyashkov AE, Johnsen AB, Inada S, Schneider H, Wang R, Nirmalan M, Wisloff U, Maltsev VA, Lakatta EG, Zhang H, Boyett MR (2014) Biophysical characterization of the underappreciated and important relationship between heart rate variability and heart rate. Hypertension 64: 1334–1343. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.114.03782
- Obrezchikova MN, Tarasova OS, Borovik AS, Koshelev VB (2000) Adaptation to periodic high-altitude hypoxia inhibits baroreflex vagal bradycardia in rats. Bull Exp Biol Med 129: 327–329. https://doi.org/10.1007/BF02439257
- Camm A, Malik M, Bigger J (1996) Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Eur Heart J 17: 354–381. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8598068/
- Negrao CE, Moreira ED, Brum PC, Denadai ML, Krieger EM (1992) Vagal and sympathetic control of heart rate during exercise by sedentary and exercise-trained rats. Brazil J Med Biol Res 25: 1045–1052. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1342828
- Machhada A, Trapp S, Marina N, Stephens RCM, Whittle J, Lythgoe MF, Kasparov S, Ackland GL, Gourine AV (2017) Vagal determinants of exercise capacity. Nat Commun 2017 81(8): 1–7. https://doi.org/10.1038/ncomms15097
- Machhada A, Hosford PS, Dyson A, Ackland GL, Mastitskaya S, Gourine AV (2020) Optogenetic Stimulation of Vagal Efferent Activity Preserves Left Ventricular Function in Experimental Heart Failure. JACC Basic to Transl Sci 5: 799–810. https://doi.org/10.1016/j.jacbts.2020.06.002
- Ichige MHA, Santos CR, Jordão CP, Ceroni A, Negrão CE, Michelini LC (2016) Exercise training preserves vagal preganglionic neurones and restores parasympathetic tonus in heart failure. J Physiol 594: 6241–6254. https://doi.org/10.1113/JP272730
- Dellacqua LO, Gomes PM, Batista JS, Michelini LC, Antunes VR (2024) Exercise-induced neuroplasticity in autonomic nuclei restores the cardiac vagal tone and baroreflex dysfunction in aged hypertensive rats. J Appl Physiol 136: 189–198. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00433.2023
- Meeusen R, Duclos M, Foster C, Fry A, Gleeson M, Nieman D, Raglin J, Rietjens G, Steinacker J, Urhausen A, European College of Sport Science, American College of Sports Medicine (2013) Prevention, diagnosis, and treatment of the overtraining syndrome: joint consensus statement of the European College of Sport Science and the American College of Sports Medicine. Med Sci Sports Exerc 45: 186–205. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318279a10a
Дополнительные файлы