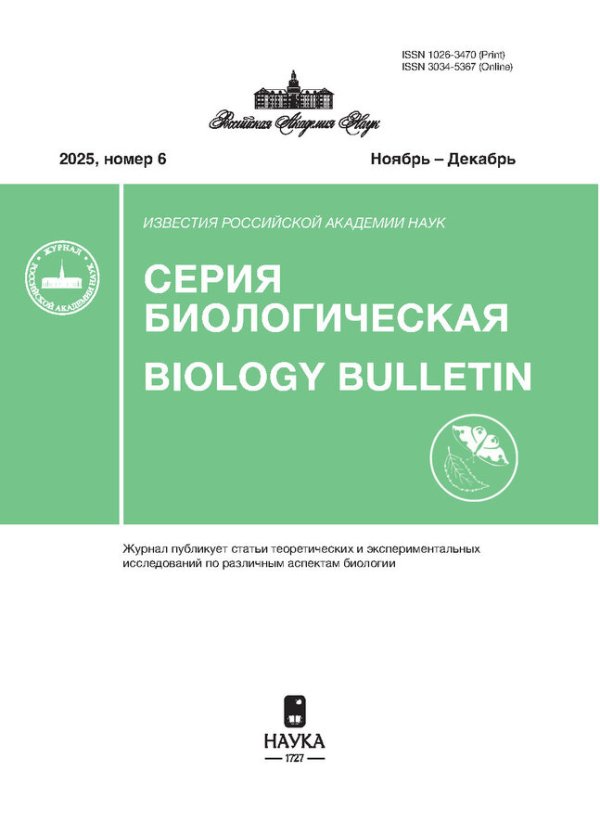Extra-pair paternity in the Wood Warbler (Phylloscopus sibilatrix) in Central Russia
- Authors: Goretskaia M.I.1, Belokon Y.S.2, Belokon M.M.2
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Vavilov Institute of General Genetics Russian Academy of Sciences
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 90-97
- Section: ZOOLOGY
- URL: https://journal-vniispk.ru/1026-3470/article/view/255521
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1026347024010096
- EDN: https://elibrary.ru/LNNAMD
- ID: 255521
Cite item
Full Text
Abstract
Extra-pair paternity is widespread in passerine birds. The number of extra-pair young (EPY) varies among different species and populations of the same species. We tested if it is a case for a small passerine bird with poly-territorial behaviour, the Wood Warbler (Phylloscopus sibilatrix). The results are based on the microsatellite analysis of seven loci and revealed a high level of EPY in Central Russia population of Wood Warbler (EPY in 41% of all nests, 16 of 39 nests; 25% of all young were EPY, 52 of 212 young). We did not find relationship between relatedness among mates in the pair and the presence of EPY. There was no difference in heterozygosity and body mass between EPY and within pair young (WPY). Possible causes of extra-pair paternity are discussed.
Full Text
Внебрачное отцовство широко распространено среди воробьиных птиц (50–60%) (Petrie, Kempenaers, 1998; Griffith et al., 2002). Количество внебрачных потомков (extra pair young, EPY) довольно сильно варьирует у разных видов и популяций одного и того же вида. Например, у мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca доля EPY меняется от 4% в норвежской до 24% в шведской популяции (Gelter, Tegelstrom, 1992). Некоторые виды, например лесная завирушка Prunella moduleis, реализуют различные стратегии спаривания, от социальной моногамии до социальной полиандрии, с разной долей внебрачных потомков в каждом из случаев (Santos et al., 2015).
Самцы, как правило, получают выгоду от внебрачных копуляций (extra pair copulation, EPC), увеличивая количество своего потомства, то есть повышая свой репродуктивный успех. Причины участия в них самок до сих пор до конца не понятны (Griffith et al., 2002; Akçay, Roughgarden, 2007; Griffith, Immler, 2009). Так, самки социально-моногамных видов обычно не получают прямой выгоды от EPC (Griffith et al., 2002), а риски, связанные с ними, могут перевешивать гипотетический генетический успех. Участие в EPC может привести к снижению родительской заботы социального отца (Albrecht et al., 2006) или повышенному риску передачи заболеваний (Forstmeier et al., 2014). Предполагают, что самки могут получать косвенные выгоды от внебрачного отцовства (extra pair paternity, EPP), так, были предложены несколько объяснений, как правило, дополняющих друг друга. Гипотеза “хороших генов” (Good genes) основывается на том, что самка может выбирать самца на основе показателей, отражающих его хорошее физиологическое состояние, таких как иммунный статус, уровень инвазии паразитов и т. д. (Hasselquist et al., 1996; Kempenaers et al., 1997; Foerster et al., 2003; Møller et al., 2003). Предполагается, что здоровый партнер может передать “хорошие” гены, что приведет к высокой степени выживаемости птенцов. Другая теория предполагает, что самка ищет совместимые гены, чтобы получить неаддитивные генетические преимущества в сочетании материнских и отцовских аллелей (Jennions, Petrie, 2000; Tregenza, Wedell, 2000; Neff, Pitcher, 2005). Частным случаем этой гипотезы является избегание размножения с близкими родственниками. Следовательно, самка в паре с родственным самцом может с большей вероятностью вступать в EPC с другим самцом, обладающим генотипом, наиболее отличающимся от ее собственного, чтобы увеличить генетическое разнообразие и выживаемость своих потомков. Таким образом будет увеличена индивидуальная гетерозиготность ее птенцов. Высокая гетерозиготность снижает риск экспрессии рецессивных вредных аллелей и предотвращает другие негативные эффекты инбридинга, которые могут привести к снижению приспособленности (Keller, Waller, 2002). С другой стороны, существуют “неадаптивные” модели, объясняющие участие самок во внебрачных копуляциях, в них предполагается, что EPC может быть побочным продуктом отбора, влияющего на поведение самцов (Forstmeier et al., 2014; Hsu et al., 2015; Nakagawa et al., 2015; Brouwer et al., 2017).
В настоящей работе мы исследовали EPY у мелких воробьиных птиц на примере пеночки-трещотки Phylloscopus sibilatrix в Центральной России. В этом исследовании мы проверяли частный случай гипотезы о совместимости генов, а именно: влияет ли степень родства партнеров в паре на уровень гетерозиготности внебрачных и брачных потомков. Если самки пеночки-трещотки участвуют в EPC для увеличения генетического разнообразия (гетерозиготности) потомства, то ее EPY должны быть более гетерозиготными, чем WPY (within pair young). В свою очередь самки, более родственные социальному партнеру, должны участвовать в EPC чаще, чем неродственные. Также мы тестировали гипотезу “хороших генов”, предполагающую, что качество потомства увеличивается за счет EPC. Согласно данной гипотезе EPY должны иметь большую массу тела, чем WPY. Поскольку пол может влиять на выживаемость потомства (Pipoly et al., 2015), мы оценивали пропорцию самцов и самок в каждой из групп.
Материалы и методы
Полевые наблюдения и сбор образцов. Исследования проводились в лесном массиве на пробной площадке площадью 90 га на Звенигородской биологической станции им С. Н. Скадовского МГУ, Московская область, Россия (55°41′57″N/55.699101, 36°43′23″E/36.722945) в течение 7 лет, с 2009 по 2015 г.
По нашим наблюдениям, пеночка-трещотка приступает к размножению в середине мая. Гнезда располагает на земле. Средний размер кладки составляет 5.5 яиц (от 3 до 7), самцы участия в насиживании не принимают. Инкубационный период длится 12 дней, птенцы обычно покидают гнездо через 12–13 дней после вылупления.
Изучено 66 взрослых особей (35 самцов и 31 самка) и 212 птенцов из 39 гнезд (28 полных семей, в восьми случаях у нас были образцы крови только социального отца, а в трех случаях – только образцы крови матери). Для анализа старались отлавливать всех поющих самцов на исследуемом участке. Взрослых самцов отлавливали с помощью паутинных сетей на рекламируемых территориях, применяя метод звуковых ловушек (воспроизведения песен конспецифика). Самцов и самок также отлавливали на гнездах. Взрослые птицы были окольцованы, а также индивидуально помечены актерским гримом. За помеченными самцами по возможности наблюдали на протяжении всего периода размножения от рекламирования территорий до выкармливания птенцов. Социальным партнером считали самца, поющего регулярно рядом с гнездом и участвующего хотя бы частично в выкармливании птенцов. Птенцов из гнезд окольцовывали и взвешивали на 6–11-й день после вылупления. Взвешивание проводили с точностью до 0.1 г, используя карманные электронные весы AG532/500. У всех птиц отбирали образцы крови (20–50 мкл) из плечевой вены. Мышцы от погибших птенцов собирали и фиксировали в 70° этаноле.
Генотипирование. Из образцов крови и тканей, зафиксированных в этаноле, выделяли ДНК с помощью наборов Diatom™ DNA Prep 100 (ООО “Лаборатория Изоген”, Россия) согласно прилагаемой инструкции. Пол птенцов определяли, используя праймеры P2 и P8 к участку гена CHD (Griffiths et al., 1998). ПЦР-амплификацию проводили с использованием наборов GenePak® PCR Core (0.2 мл) (ООО “Лаборатория Изоген”, Россия). Условия амплификации включали начальную денатурацию при 94 °C в течение 3 мин, затем 35 циклов: 94 °C в течение 30 с, 50 °C в течение 30 с и 72 °C в течение 45 с, с финальной элонгацией при 72 °C в течение 3 мин. Продукты ПЦР разделяли в 2% агарозном геле, окрашивали бромистым этидием и визуализировали в УФ-свете.
Для анализа отцовства мы использовали семь ядерных микросателлитных локусов: Ase5, Ase18 (Richardson et al., 2001); Fhu2 (Primmer et al., 1996); Fhy221 (Leder et al., 2008); Pca3 (Dawson et al., 2000); РОСС5, РОСС8 (Bensch et al., 1997). Все микросателлиты содержали динуклеотидные повторы, за исключением тетрануклеотидного Fhy221. ПЦР-амплификацию проводили с использованием наборов GenePak® PCR Core при условиях, описанных в соответствующих публикациях. Амплифицированные фрагменты разделяли с помощью электрофореза в 6%-м полиакриламидном геле. Длину фрагментов определяли путем сравнения с маркером длин (плазмида E. сoli pBR322, обработанная эндонуклеазой рестрикции HpaII) в программе Photo-Capt (Vilber Lourmat). На основании полученных данных составляли таблицы многолокусных генотипов для всех особей.
Анализ генотипических данных. Параметры генетического разнообразия популяции для выборки взрослых птиц (число аллелей, средняя наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготности, соответствие распределения генотипов равновесию Харди – Вайнберга) оценивали при помощи программы GenAlEx 6.5 (Peakall, Smouse, 2006, 2012). Для локусов с отклонением от равновесия Харди – Вайнберга в сторону дефицита гетерозигот частоты нуль-аллелей рассчитывали с помощью программного обеспечения Micro-Checker с использованием методов Брукфилда и Чакраборти (Van Oosterhout et al., 2004).
Мы рассчитали индивидуальную гетерозиготность (HetZ) (соотношение гетерозиготных локусов к числу исследованных локусов) по шести локусам для всех потомков. Локус POCC5 был исключен из расчета, поскольку он сцеплен с полом. Самки несут только одну Z-хромосому, и поэтому генотипы по данному локусу не могут быть использованы в подсчете индивидуальной гетерозиготности. Однако мы использовали данный локус при анализе соответствия генотипов родителей и птенцов.
Многолокусные генотипы каждой пары родителей и их потомков анализировали на соответствие, исходя из предположения, что самка, пойманная на гнезде, приходится матерью птенцам в выводке. Отцовство исключали, если генотипы показывали множественные (более чем по одному локусу) несовпадения между потенциальным отцом и потомством. Чтобы определить генотипы потенциальных отцов или матерей в случае неполных семей при наличии генотипа социального партнера, мы использовали программу GERUD2.0 (Jones, 2005). Степень генетического сходства между социальными партнерами (QGM) для 39 пар оценивали, используя алгоритм измерения родства (Queller, Goodnight, 1989), с помощью компьютерной программы GenAlEx 6.5 (Peakall, Smouse, 2006, 2012).
Статистический анализ. Мы анализировали данные с помощью линейных смешанных моделей (LMM) с функцией lme() в пакете nlme (Pinheiro et al., 2018) в R4.1.2 (R Core Team, 2021), анализ начинали с полной модели.
Поскольку исследуемые выводки были разного возраста, для сравнения всех гнезд мы нормализировали значение массы тела в каждом выводке, используя процедуру нормализации в Excel.
Для выявления связи между индивидуальной гетерозиготностью и отцовством мы использовали два типа анализа. В первом варианте предиктором (фиксированным фактором) было отцовство – свои дети WPY против чужих EPY. Во втором варианте анализа мы разделили птенцов на три группы: 1 – WPY из гнезд без EPY, 2 – WPY из гнезд с EPY, 3 – EPY, в данном случае предиктором была принадлежность к группе. Зависимыми переменными были нормализованная масса тела, индивидуальная гетерозиготность и пол птенца. Все модели включали год наблюдения, гнездо и номер птицы как случайную переменную. Переменные были исключены из дизайна модели в соответствии с протоколом обратного упрощения модели (Zuur et al., 2009), на каждом этапе проверялась нормальность распределения остатков. Для определения связи генетического сходства между партнерами с появлением в выводках EPY, мы применяли коэффициент родства (QGM) в паре как зависимую переменную, отцовство как фиксированный фактор и год наблюдения как случайную переменную в моделях LMM.
Результаты исследования
Генетическая изменчивость. На основании индивидуальных генотипов 66 взрослых птиц были рассчитаны частоты аллелей микросателлитных локусов и получены параметры генетической изменчивости исследуемой популяции (табл. 1).
Таблица 1. Параметры генетической изменчивости популяции пеночки-трещотки
Локус | Na | HO | HE | F |
Ase5 | 12 | 0.742 | 0.825 | 0.100 |
Ase18 | 21 | 0.879 | 0.922 | 0.047 |
Fhu2 | 11 | 0.667 | 0.762 | 0.125 |
Fhy221 | 7 | 0.712 | 0.718 | 0.008 |
Pca3 | 9 | 0.833 | 0.818 | –0.018 |
POCC8 | 13 | 0.773 | 0.859 | 0.100 |
В среднем | 12.167 | 0.768 | 0.817 | 0.060 |
(+SE) | (±1.973) | (±0.032) | (±0.029) | (±0.023) |
Примечание. Na – число аллелей в локусе; HO – средняя наблюдаемая гетерозиготность; HE – средняя ожидаемая гетерозиготность; F – индекс фиксации.
Среднее число аллелей на локус составило 12.2 (от 7 до 21). Средняя наблюдаемая гетерозиготность выбранных локусов составила 0.768 (от 0.667 до 0.879). Полученные данные свидетельствуют о достаточно высоком генетическом разнообразии выбранных нами локусов и их пригодности для семейного анализа. В локусах Ase5, Fhu2 и POCC8 обнаружен незначительный дефицит гетерозигот. Проверка этих локусов на наличие в них неамплифицируемых аллелей показала, что в локусе Ase5 вероятная частота нуль-аллеля от 0.045 до 0.057, в локусе Fhu2 – от 0.054 до 0.067, а в локусе POCC8 – от 0.046 до 0.053. Тем не менее при совместном анализе взрослых птиц и выводков мы выявили наличие нуль-аллелей в локусе Ase5 в трех семьях, в локусе Fhu2 в двух семьях и не обнаружили нуль-аллелей в локусе POCC8.
Встречаемость EPY. Согласно данным семейного анализа все птенцы принадлежали выкармливающим их матерям. EPY были обнаружены в 41% гнезд, 16 из 39. Встречаемость EPY составила 25%, т. е. 52 из 212 птенцов не принадлежали их социальным отцам. Распределение EPY различалось между выводками.
В четырех выводках были только EPY, также было обнаружено 12 смешанных выводков и в 23 выводках птенцы принадлежали социальным родителям. Среди всего пула самцов возможный отец EPY был определен только в одном случае. Это был самец, поющий на территории, прилегающей к территории социального отца. В остальных случаях потенциальных внебрачных отцов выявить не удалось.
При анализе результатов с применением линейных смешанных моделей (LMM) нами не было обнаружено значимой связи между коэффициентом родства (QGM) партнеров в паре и наличием EPY (t = –1.51, p = 0.14, N = 39), хотя коэффициент родства в парах с EPY оказался несколько ниже, чем в парах без EPY.
Различия между EPY и WPY. Нами не выявлено различий в значениях индивидуальной гетерозиготности у WPY и EPY (t = –0.6, p = 0.44, N = 212). Принадлежность к гнездовой группе также не влияла на гетерозиготность птенцов (t = 0.14, p = 0.88).
Мы не выявили различий в массе тела у WPY и EPY (t = 0.56, p = 0.6, N = 212). Принадлежность к гнездовой группе также не влияла на массу тела птенцов (t = 0.28, p = 0.8).
Соотношение полов во всем потомстве не отклонялось от распределения 1: 1 (119 самок и 93 самца). Пол не влиял на гетерозиготность и массу тела WPY и EPY. Соотношение полов среди EPY было равным, среди WPY 58% составляли самки.
Обсуждение результатов
Нами было впервые описано наличие внебрачного отцовства у пеночки-трещотки, обитающей в средней полосе России. Процент EPY был достаточно велик и составил 25%, причем внебрачные потомки были найдены в 41% гнезд. Эти результаты отличаются от исследования, проведенного на шведской популяции пеночки-трещотки, где EPY не были обнаружены (Gyllensten et al., 1990). Поскольку самцы данного вида ведут себя сходным образом в разных популяциях (Temrin, 1984; Temrin et al., 1997; Горецкая, Гаврилов, 2017), различия в результатах можно объяснить применением разных классов генетических маркеров. Так, шведскими авторами был использован метод фингерпринтинга минисателлитной ДНК, который является менее эффективным, чем анализ микросателлитов. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что в исследовании тех же авторов на пеночке-весничке (Ph. trochilus) также не были обнаружены внебрачные потомки, хотя в другой популяции этого вида была выявлена большая доля (23.5%) EPY (Gil et al., 2007). Другое возможное объяснение расхождения данных – это размер выборки. Мы проанализировали 39 семей, 212 птенцов, а в работе Гилленстен с соавторами (Gyllensten et al., 1990) всего проанализировано 13 семей и 56 птенцов. Доля EPY и гнезд с ними у пеночки-трещотки соответствует показателям, полученным для других видов пеночек. Так, у бурой пеночки было выявлено 45% EPY в 59% гнезд (Forstmeier et al., 2002), а у пеночки-веснички 23,5% EPY в 47% гнезд (Gil et al., 2007).
Рис. 1. Встречаемость EPY в гнездах
Рис. 2. Коэффициент родства (QGM) между самцом и самкой в паре у семей, в которых нет внебрачных потомков (0), и у семей с внебрачными потомками (1). Показаны медиана, максимум и минимум
Поскольку многие факторы, такие как качество мест обитания (Ewen et al., 2004; Cassey et al., 2006), привлекательность самцов (Ellegren et al., 1996; Griffith et al., 2003) и социальный статус самок (Westerdahl et al., 2000), могут по-разному влиять на выживаемость потомства разного пола, мы предполагали получить различия в соотношении полов у птенцов. Однако значимых отклонений в соотношении полов в выводках мы не обнаружили, хотя оно было несколько смещено в сторону самок. Птенцы разного пола не различались по массе тела и индивидуальной гетерозиготности. Такой результат можно объяснить стабильными условиями среды, благоприятными для популяции пеночки-трещотки.
При анализе отцовства из всего пула взрослых особей был выявлен только один потенциальный отец для EPY. Этот результат противоречит данным по большинству видов, у которых были идентифицированы потенциальные отцы (Strohbach et al., 1998; Canal et al., 2011). Практически все поющие самцы пеночки-трещотки были пойманы на исследуемой территории. Однако в нашем пуле данных отсутствовали генотипы, соответствующие отцам EPY. Таким образом, можно предположить, что самцы, производившие внебрачное потомство, не были территориальными. На исследуемом участке нами были выявлены нетерриториальные особи пеночки-трещотки (Горецкая, Гаврилов, 2017), которые, возможно, прилетали из неохваченных наблюдением участков леса.
Наши данные не подтвердили теорию “хороших генов” на том уровне, на котором мы могли ее проверить. Вес птенцов, который в том числе связан с их выживаемостью (Dreiss et al., 2008), не отличался у WPY и EPY. Этот вывод не согласуется с результатами, полученными для лазоревки Parus caeruleus, EPY которой имели большую массу тела, чем WPY (Kempenaers et al., 1997; Charmantier et al., 2004, Dreiss et al., 2008). Недавно было высказано предположение, что EPY лазоревок вылупляются раньше, чем WPY, что можно объяснить принудительными копуляциями, происходящими до образования пары (Magrath et al., 2009). К сожалению, у нас не было возможности наблюдать за порядком откладки яиц. Исходя из сходства в весе EPY и WPY можно предположить, что в нашей популяции внебрачные копуляции могли иметь место на протяжении всего периода спаривания. Теория “хороших генов” подтверждена для многих видов, например, у лазоревки, варакушки Luscinia svecica и дроздовидной камышевки Acrocephalus arundinaceus внебрачные птенцы (EPY) демонстрировали более сильный иммунный ответ, чем птенцы, принадлежащие социальному партнеру (WPY) (Kempenaers et al., 1997; Sheldon et al., 1997; Johnsen et al., 2000; Foerster et al., 2003). Однако прямых доказательств того, что птенцы, рожденные от более здоровых отцов, наследуют их характеристики, не получено (Edly-Wright et al., 2007). Кроме того, выживаемость птенцов также зависит от внешних факторов, которые могут нивелировать воздействие генотипа (Arct et al., 2013).
Наши данные также не подтверждают гипотезу “совместимых генов”, так как индивидуальная гетерозиготность EPY в нашей популяции не выше, чем WPY. Генетическое сходство между птицами в паре также существенно не отличалось в семьях с EPY и без них. Положительная связь между уровнем гетерозиготности и выживаемостью птенцов была продемонстрирована у некоторых видов. Так, у лазоревки EPY не только имели большую массу тела (Dreiss et al., 2008), но лучше и раньше оперялись, чем их сибсы (Kempenaers et al., 1997; Charmantier et al., 2004). Сходные данные получены и для тростниковой овсянки Emberiza shouniculus (Suter et al., 2007). Однако в других исследованиях не удалось найти связи между внебрачным отцовством и гетерозиготностью потомков. Например, по данным Кливен с соавторами WPY и EPY тростниковой овсянки имели одинаковый уровень гетерозиготности (Kleven et al., 2005), а WPY варакушки имели даже более высокий уровень гетерозиготности, чем EPY (Fossoy et al., 2007). В одном из метаанализов (Akçay, Roughgarden, 2007) не было обнаружено значительной связи между степенью родства социальных партнеров и вероятностью появления EPY. Напротив, в недавнем метаанализе (Arct et al., 2015) была обнаружена положительная связь между появлением EPY и степенью родства между социальными партнерами. Поскольку наши результаты основаны только на данных по шести микросателлитным локусам, их может быть недостаточно для проведения подобного сравнения. С другой стороны, метаанализ Аркт с соавторами (Arct et al., 2015) показал, что количество использованных микросателлитных локусов не оказывает влияния на оценку уровня гетерозиготности.
Наши результаты согласуются с альтернативной гипотезой о том, что EPC являются результатом отбора на демонстрационное поведение самцов (Forstmeier et al., 2014, Hsu et al., 2015, Nakagawa et al., 2015, Brouwer et al., 2017). Известно, что самцы пеночки-трещотки продолжают активно петь после образования пары и даже демонстрируют политерриториальное поведение. Они поют на второстепенных территориях (от 150 до 1400 м от первой) для привлечения дополнительных самок, пока их самка насиживает яйца (Temrin, 1984; Temrin et al., 1997). Кроме того, по нашим неопубликованным данным, полученным с помощью радиотрекинга, самцы посещают гнезда соседей по поселению на разных стадиях гнездового цикла. Мы полагаем, что такое поведение самцов на стадии формирования пар может способствовать EPC. Например, самцы лазоревки, совершавшие набеги по чужим гнездам, с большей вероятностью производили внебрачных потомков, чем самцы, которые держались вблизи социального партнера (Schlicht et al., 2015). Таким образом, участие в EPC может быть побочным продуктом отбора на рекламное поведения самцов, которое приводит к снижению охраны самки. Этим в свою очередь могут пользоваться нетерриториальные самцы, присутствующие в избытке.
Благодарности
Авторы выражают благодарность В. Н. Москаленко и всем студентам, принимавшим участие в отловах и наблюдениях за птицами в рамках студенческих самостоятельных работ на ЗБС с 2010 по 2015 г.
Работа выполнена в рамках Государственного задания, части 2 п. 01 10 (тема № 121032300103-6).
About the authors
M. I. Goretskaia
Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: m.goretskaia@gmail.com
Zvenigorod Biological Station, Biological Faculty
Russian Federation, Leninskiye Gory, Moscow, 119991Yu. S. Belokon
Vavilov Institute of General Genetics Russian Academy of Sciences
Email: m.goretskaia@gmail.com
Russian Federation, Gubkin st. 3, Moscow, 119991
M. M. Belokon
Vavilov Institute of General Genetics Russian Academy of Sciences
Email: m.goretskaia@gmail.com
Russian Federation, Gubkin st. 3, Moscow, 119991
References
- Горецкая М.Я., Гаврилов В.В. Численность и территориальная структура популяции пеночки-трещотки (Phylloscopus sibilatrix) на Звенигородской биостанции МГУ за 2000–2016 гг. // Динамика численности птиц в наземных ландшафтах. 2017. С. 204–206.
- Akçay E., Roughgarden J. Extra-pair paternity in birds: Review of the genetic benefits // Evol. Ecol. Res. 2007. V. 9. P. 855–868. https://repository.upenn.edu/biology_papers/12
- Albrecht T., Kreisinger.J, Piálek J. The strength of direct selection against female promiscuity is associated with rates of extrapair fertilizations in socially monogamous songbirds // Am. Nat. 2006. V. 167. P. 739–744. https://doi.org/10.1086/502633
- Arct A., Drobniak S.M., Podmokła E., Gustafson L., Cichoń M. Benefits of extra-pair mating may depend on environmental conditions – an experimental study in the Blue Tit (Cyanistes caeruleus) // Behav. Ecol. Sociobiol. 2013. V. 67. P. 1809–1815. https://doi.org/10.1007/s00265-013-1588-4
- Arct A., Drobniak S.M., Cichoń M. Genetic similarity between mates predicts extrapair paternity – a meta-analysis of bird studies // Behav. Ecol. 2015. V. 26. P. 959–968. https://doi.org/10.1093/beheco/arv004
- Bensch S., Price T., Kohn J. Isolation and characterization of microsatellite loci in a Phylloscopus warbler // Mol. Ecol. 1997. V. 6. P. 91–92. https://doi.org/10.1046/j.1365-294X.1997.00150.x
- Brouwer L., van de Pol M., Aranzamendi N.H., Bain G., Baldassarre D.T., Brooker L.C., Brooker M.G., Colombelli-Négrel D., Enbody E., Gielow K., Hall M.L., Johnson A.E., Karubian J., Kingma S.A., Kleindorfer S., Louter M., Mulder R.A., Peters A., Pruett-Jones S., Tarvin K.A., Thrasher D.J., Varian-Ramos C.W., Webster M.S., Cockburn A. Multiple hypotheses explain variation in extra-pair paternity at different levels in a single bird family // Mol. Ecol. 2017 (published online). https://doi.org/https://doi.org/10.1111/mec.14385
- Cassey P., Ewen J.G., Møller A.P. Revised evidence for facultative sex ratio adjustment in birds: a correction // Proc. Biol. Sci. 2006. V. 273. P. 3129–3130. https://doi.org/10.1098/rspb.2006.3628
- Canal D., Potti J.A., Davilla J. Male phenotype predicts extra-pair paternity in Pied Flycatchers // Behav. 2011. V. 148. P. 691–712. https://doi.org/10.1163/000579511X573917
- Charmantier A., Blondel J., Perret P., Lambrechts M.M. Do extra-pair paternities provide genetic benefits for female Blue Tits Parus caeruleus? // J. Avian. Biol. 2004. V. 35. P. 524–532. https://doi.org/10.2307/3677557
- Dawson D.A., Hanotte O., Greig C., Stewart I.R., Burke T. Polymorphic microsatellites in the Blue Tit Parus caeruleus and their cross-species utility in 20 songbird families // Mol. Ecol. 2000. V. 9. P. 1941–1944. https://doi.org/10.1046/j.1365-294x.2000.01094-14.x
- Dreiss A.N., Navarro C., De Lope F., Møller A.P. Effects of an immune challenge on multiple components of song display in Barn Swallows Hirundo rustica: implications for sexual selection // Ethology 2008. V. 114. P. 955–964. https://doi.org/10.1111/J.1439-0310.2008.01546.X
- Edly-Wright C., Schwagmeyer P.L., Parker P.G., Mock D.W. Genetic similarity of mates, offspring health and extrapair fertilization in House Sparrows // Anim. Behav. 2007. V. 73. P. 367–378. https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2006.08.008
- Ellegren H., Gustafsson L., Sheldon B.C. Sex ratio adjustment in relation to paternal attractiveness in a wild bird population // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1996. V. 93. P. 11723–11728. https://doi.org/10.1073/pnas.93.21.11723
- Ewen J.G., Cassey P., Møller A.P. Facultative primary sex ratio variation: a lack of evidence in birds // Proc. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci. 2004. V. 271. P. 1277–1282. https://doi.org/10.1098/rspb.2004.2735
- Foerster K., Delhey K., Johnsen A., Lifjeld J.T., Kempenaers B. Females increase offspring heterozygosity and fitness through extra-pair matings // Nature. 2003. V. 425. P. 714–717. https://doi.org/10.1038/nature01969
- Forstmeier W., Kempenaers B., Meyer A., Leisler B. A novel song parameter correlates with extra-pair paternity and reflects male longevity // Proc. R. Soc. B. Biol. Sci. 2002. V. 269. P. 1479–1485. https://doi.org/10.1098/rspb.2002.2039
- Forstmeier W., Nakagawa S., Griffith S.C., Kempenaers B. Female extra-pair mating: adaptation or genetic constraint? // Trends Ecol. Evol. 2014. V. 29. P. 456–464. https://doi.org/10.1016/j.tree.2014.05.005
- Fossøy F., Johnsen A., Lifjeld J.T. Multiple genetic benefits of female promiscuity in a socially monogamous passerine // Evolution (N. Y.). 2007. V. 62. P. 145–156. https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.2007.00284.x
- Gelter H.P., Tegelström H. High frequency of extra-pair paternity in Swedish Pied Flycatchers revealed by allozyme electrophoresis and DNA fingerprinting // Behav. Ecol. Sociobiol. 1992. V. 31. P. 1–7. https://doi.org/10.1007/BF00167810
- Gil D., Slater P.J.B., Graves J.А. Extra-pair paternity and song characteristics in the Willow Warbler Phylloscopus trochilus // J. Avian Biol. 2007. V. 38. P. 291–297. https://doi.org/10.1111/j.2007.0908-8857.03868.x
- Griffiths R., Double M.C., Orr K., Dawson R.J.G. A DNA test to sex most birds // Molecular Ecology. 1998. V. 7. P. 1071–1075.
- Griffith S.C., Immler S. Female infidelity and genetic compatibility in birds: the role of the genetically loaded raffle in understanding the function of extra-pair paternity // J. Avian Biol. 2009. V. 40. P. 97–101. https://doi.org/10.1111/j.1600-048X.2009.04562.x
- Griffith S.C., Ornborg J., Russell A.F., Andersson S., Sheldon B.C. Correlations between ultraviolet coloration, overwinter survival and offspring sex ratio in the blue tit // J. Evol. Biol. 2003. V. 16. P. 1045–1054. https://doi.org/10.1046/j.1420-9101.2003.00550.x.
- Griffith S.C., Owens I.P.F., Thuman K.A. Extra pair paternity in birds: a review of interspecific variation and adaptive function // Mol. Ecol. 2002. V. 11. P. 2195–2212. https://doi.org/10.1046/j.1365-294X.2002.01613.x
- Gyllensten U.B., Jakobsson S., Temrin H. No evidence for illegitimate young in monogamous and polygynous warblers // Lett. To Nat. 1990. V. 346. P. 183–187. https://doi.org/10.1038/343168a0
- Hasselquist D., Bensch S., von Schantz T. Correlation between male song repertoire, extra-pair paternity and offspring survival in the great reed warbler // Nature 1996. V. 381. P. 229–232. https://doi.org/10.1038/381229a0
- Hsu Y-H., Schroeder J., Winney I., Burke T., Nakagawa S. Are extra-pair males different from cuckolded males? A case study and a meta-analytic examination // Mol. Ecol. 2015. V. 24. P. 1558–1571. https://doi.org/10.1111/mec.13124
- Jones A.G. GERUD2.0: a computer program foe the reconstruction of parental genotypes from half-sib progeny arrays with known or unknown parents // Mol. Ecol. Notes. 2005. V. 5. P. 708–711. https://doi.org/10.1111/j.1471-8286.2005.01029.x
- Jennions M.D., Petrie M. Why do females mate multiply? A review of the genetic benefits // Biol Rev. 2000. V. 75. P. 21–64. https://doi.org/10.1017/S0006323199005423
- Johnsen A., Andersen V., Sunding C., Lifjeld J.T. Female Bluethroats enhance offspring immunocompetence through extra-pair copulations // Nature. 2000. V. 406. P. 296–299. https://doi.org/.1038/35018556
- Kempenaers B., Verheyen G.R., Dhondi A.A. Extrapair paternity in the Blue Tit (Parus caeruleus): female choice, male charateristics, and offspring quality // Behav. Ecol. 1997. V. 8. P. 481–492. https://doi.org/10.1093/beheco/8.5.481
- Keller L.F., Waller D.M. Inbreeding effects in wild populations // Trends Ecol. Evol. 2002. V. 17. P. 230–241. https://doi.org/10.1016/S0169-5347(02)02489-8
- Kleven O., Lifjeld J.T. No evidence for increased offspring heterozygosity from extrapair mating in the Reed Bunting (Emberiza schoeniclus) // Behav. Ecol. 2005. V. 16. P. 561–565. https://doi.org/10.1093/beheco/ari027
- Leder E.H., Karaiskou N., Primmer C.R. Seventy new microsatellites for the Pied Flycatcher, Ficedula hypoleuca and amplification in other passerine birds // Mol. Ecol. Resour. 2008. V. 8. P. 874–880. https://doi.org/10.1111/j.1755-0998.2008.02096.x
- Magrath M.J.L., Vedder O., van der Velde M., Komdeur J. Maternal effects contribute to the superior performance of extra-pair offspring // Curr. Biol. 2009. V. 19. P. 792–797. https://doi.org/10.1016/j.cub.2009.03.068
- Møller A.P., Erritzøe J. Climate, body condition and spleen size in bird // Oecologia. 2003. V. 137. P. 621–626. https://doi.org/10.1007/s00442-003-1378-1
- Nakagawa S., Schroeder J., Burke T. Sugar-free extrapair mating: a comment on Arct et al. // Behav. Ecol. 2015. V. 26. P. 971–972. https://doi.org/10.1093/BEHECO/ARV041
- Neff B.D., Pitcher T.E. Genetic quality and sexual selection: an integrated framework for good genes and compatible genes // Mol Ecol. 2005. V. 14. P. 19–38. https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2004.02395.x
- Peakall R., Smouse P.E. GENALEX 6: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research // Mol. Ecol. Notes. 2006. V. 6. P. 288–295. https://doi.org/10.1111/j.1471-8286.2005.01155.x
- Peakall R., Smouse P.E. GenAlEx 6.5: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research-an update // Bioinformatics 2012. V. 28. P. 2537–2539. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bts460
- Petrie M., Kempenaers B. Extra-pair paternity in birds: explaining variation between species and populations // Trends Ecol. Evol. 1998. V. 13. P. 52–58. https://doi.org/10.1016/S0169-5347(97)01232-9
- Pinheiro J., Bates D., DebRoy S., Sarkar D. R Core Team. Nlme: linear and nonlinear mixed effects models. R package version 3.1–137, 2018. https://CRAN.R-project.org/package=nlme
- Pipoly I., Bókony V., Kirkpatrick M., Donald P.F., Székely T., Liker A. The genetic sex-determination system predicts adult sex ratios in tetrapods // Nature. 2015. V. 527. P. 91–94.
- Primmer C., Møller A., Ellegren H. New microsatellites from the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca and the Swallow Hirundo rustica genomes // Hereditas 1996. V. 124. P. 281–284. https://doi.org/10.1038/nature15380
- Richardson D.S., Jury F.L., Blaakmeer K., Komdeur J., Burke T. Parentage assignment and extra-group paternity in a cooperative breeder: The Seychelles Warbler (Acrocephalus sechellensis) // Mol. Ecol. 2001. V. 10. P. 2263–2273. https://doi.org/10.1046/j.0962-1083.2001.01355.x
- R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing // Vienna, Austria. 2021. URL https://www.R-project.org/
- Queller D.C., Goodnight K.F. Estimating relatedness using molecular markers // Evolution. 1989. V. 43. P. 258–275. https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.1989.tb04226.x
- Santos E.S.A., Santos L.L.S., Lagisz M., Nakagawa S. Conflict and cooperation over sex: the consequences of social and genetic polyandry for reproductive success in Dunnocks // J Anim. Ecol. 2015. V. 84. P. 1509–1519. https://doi.org/10.1111/1365–2656.12432
- Sheldon B.C., Merilo J., Qvarnstrom A., Gustafsson L., Ellegren H. Paternal genetic contribution to offspring condition predicted by size of male secondary sexual character // Proc. R. Soc. B. Biol. Sci. 1997. V. 264. P. 297–302. https://doi.org/10.1098/rspb.1997.0042
- Schlicht L., M. Valcu, B. Kempenaers B. Male extraterritorial behaviour predicts extrapair paternity pattern in blue tits, Cyanistes caeruleus // Behav. Ecol. 2015. V. 26. P. 1404–1413.
- Suter S.M., Keiser M., Feignoux R., Meyer D.R. Reed Bunting females increase fitness through extra-pair mating with genetically dissimilar males // Proc. R. Soc. B. Biol. Sci. 2007. V. 274. P. 2865–2871. https://doi.org/10.1098/rspb.2007.0799
- Strohbach S., Curio E., Bathen A., Epplen J.T., Lubjuhn T. Extra-pair paternity in the great tit (Parus major): a test of the “good genes” hypothesis // Behav. Ecol. 1998. V. 9. P. 388–396.
- Temrin H., Brodin A., Åkerström O., Stenius S. Parental investment in monogamous pairs of Wood Warblers (Phylloscopus sibilatrix) // J. Ornithol. 1997. V. 138. P. 93–101. https://doi.org/10.1007/BF01651655
- Temrin H. Why are some Wood Warbler (Phylloscopus sibilatrix) males polyterritorial // Ann. Zool. Fennici. 1984. V. 21. P. 243–247.
- Tregenza T., Wedell N. Genetic compatibility, mate choice and patterns of parentage: invited review // Mol. Ecol. 2000. V. 9. P. 1013–1027. https://doi.org/10.1046/j.1365-294x.2000.00964.x
- Van Oosterhout C., Hutchinson W.F., Wills D.P.M., Shipley P. Micro-checker: software for identifying and correcting genotyping errors in microsatellite data // Mol. Ecol. Notes 2004. V. 4. P. 535–538. https://doi.org/10.1111/j.1471–8286.2004.00684.x
- Zuur A.F., Ieno E.N., Walker N.J., Saveliev A.A., Smith G.M. Mixed effects models and extensions in ecology with R. Springer, 2009. 574 p. https://doi.org/10.18637/jss.v032.b01
- Westerdahl H., Bensch S., Hansson B., Hasselquist D., von Schantz T. Brood sex ratios, female harem status and resources for nestling provisioning in the great reed warbler (Acrocephalus arundinaceus) // Behav. Ecol. Sociobiol. 2000. V. 47. P. 312–318. https://doi.org/10.1007/s002650050671
Supplementary files