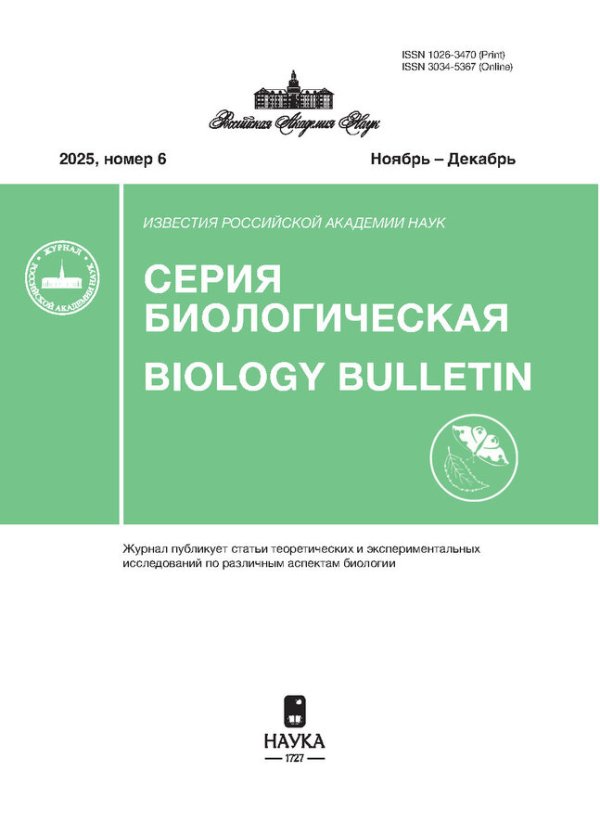Решительность как индивидуальная черта поведения в природной популяции птиц
- Авторы: Ильина Т.А.1, Киселева А.В.1, Бушуев А.В.1, Иванкина Е.В.1, Керимов А.Б.1
-
Учреждения:
- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
- Выпуск: № 3 (2024)
- Страницы: 336-345
- Раздел: ЗООЛОГИЯ
- URL: https://journal-vniispk.ru/1026-3470/article/view/266051
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1026347024030053
- EDN: https://elibrary.ru/VAVEXO
- ID: 266051
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Индивидуальную решительность при возобновлении кормления птенцов выявляли в тестах с предъявлением незнакомого объекта у гнезд мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca) в естественной среде. В течение четырех гнездовых сезонов было протестировано 229 особей, из которых 41 — от 2 до 4 раз. Повторное тестирование одних и тех же птиц проводили на разных гнездах с интервалами от 3 до 1103 дней (Med=367). Контролировали число и возраст птенцов, сроки гнездования, пол и возраст особи и ее партнера, наличие линьки, интенсивность кормления птенцов и поведение партнера, а также наличие одновременной бигамии у самца. Выявлена достоверная повторяемость результатов тестирования на значительных интервалах времени (R=0.21), что свидетельствует об устойчивости во времени индивидуальной реакции (решительности) особи на фоне меняющихся условий естественной среды.
Ключевые слова
Полный текст
Разнообразие особей внутри популяции или иной группировки определяет особенности ее существования (Шилов, 1977, 2001). Помимо таких демографических параметров, как соотношение полов и возрастных когорт, большую роль играют морфологические, физиологические, поведенческие и другие характеристики особей. Хорошо известно, что особи разных морфологических типов могут занимать разные субниши в общей популяционной нише и в меняющейся среде поочередно получать преимущество, сохраняя, в целом, внутрипопуляционный баланс между типами (Гриньков, 2000). Физиология и поведение животных более пластичны, чем морфологические черты, это позволяет особям быстро адаптироваться при смене обстановки. Адаптации на популяционном уровне происходят не только за счет широты нормы реакции индивидуумов, но и за счет многообразия типов особей по этим характеристикам (Шилов и др., 1974; Шилов, 2001). В последние два десятилетия наблюдается взрывной рост числа работ, посвященных индивидуальным признакам, которые могут служить типологическими характеристиками животных. Если раньше в исследованиях придавали значение увеличению объема выборки как средству для повышения точности анализа, то позднее вариабельность результатов и ее причины сами стали предметом изучения (Forsman et al., 2015; Murren et al., 2015). Этому способствовало совершенствование методов работы, благодаря чему разброс в полученных результатах стали рассматривать не только как ошибки измерений или случайные «помехи», а как отражение естественного разнообразия особей и процессов в природных популяциях (Koolhaas et al., 1999; Шилов, 2001; Dingemanse et al., 2002; Both et al., 2003; Drent et al., 2003; Sih et al., 2004; Groothuis, Carere, 2005; Herborn et al., 2010; Houston, 2010; Garamszegi et al., 2012; Pusch, Navara, 2018; Васильева, 2021). Возник особый подход к внутривидовой разнокачественности поведения особей, когда в фокусе внимания оказалась индивидуальность животного (personality), или, в иных терминах, темперамент (temperament), поведенческий синдром (behavioral syndrome) (Sih et al. 2004; Réale et al. 2007; Dingemanse, Wolf, 2010; Kluen, Brommer, 2013). В таких работах количественные характеристики поведения особей, то есть черты индивидуальности (personality traits), представлялись как континуум, на краях которого расположены два контрастных варианта, при этом типологизация особей носила относительный характер.
Для количественной оценки ряда поведенческих признаков была предложена реакция особи на новизну — новый объект или новую обстановку. В качестве показателя этой реакции использовали такие признаки, как подвижность — число движений в «открытом поле» (Burt, Giltz, 1973; Dingemanse et al., 2002; Drent et al., 2003) и решительность — латентное время от начала теста до приближения особи к тестовому объекту (Dingemanse et al., 2002; Drent et al., 2003; Минина и др., 2018), а при тестировании в сложной среде — сумму латентностей при обследовании нескольких объектов (Ильина и др., 2010). Распределение особей по этим показателям представляло собой непрерывный ряд: особей с большим числом движений или с короткими латентностями относили к «проактивному» (proactive) («быстрому» (fast), «решительному» (bold)) типу, а особей с противоположными характеристиками — к «реактивному» (reactive) («медленному» (slow), «робкому» (shy)). Было выявлено, что показатели в тестах на новизну положительно коррелируют между собой и с другими поведенческими чертами, в первую очередь с такими, как агрессивность (Burt, Giltz, 1973; Verbeek et al., 1996, 1999; Dingemanse, de Goede, 2003) и готовность к проявлению риска (risk-taking) (Drent et al., 2003; Van Oers et al., 2005).
В первое время тестирование для оценки поведенческих признаков проводили на животных, содержавшихся в искусственных условиях в течение всей своей жизни (Шилов и др., 1974; Dingemanse et al., 2002; Both et al., 2003; Drent et al., 2003; Van Oers, 2003; Van Oers et al., 2004; Dingemanse, Wolf, 2010), либо на свободноживущих, которых кратковременно изымали из природы для тестирования, а потом выпускали обратно (Dingemanse et al., 2002; Van Oers et al., 2008; Kluen, Brommer, 2013). Как правило, тестирование птиц проводили в стандартных лабораторных условиях, применяя в качестве «открытого поля» специально оборудованную вольеру или небольшую клетку, и лишь недавно были предприняты попытки к использованию тестов на новизну в природе. Проведение тестов было приурочено к сезону гнездования, когда незнакомый предмет прикрепляли к объекту, вызывающему мотивацию к проявлению либо брачного (Garamszegi et al., 2014), либо родительского поведения (Timm et al., 2015; Vrublevska et al., 2015; Ильина и др., 2022). В первом случае это была клетка с самкой, предъявляемая холостым самцам на их территории, а во втором — собственная дуплянка с птенцами.
В отличие от лаборатории, в естественной среде значительно труднее стандартизировать проведение теста, так как внешние и внутренние факторы могут сильно влиять на поведение особи, маскируя ее индивидуальные черты. Экспериментатор не может влиять на природные факторы, но для оценки действия этих факторов на поведение особи можно проводить тестирование в разных ситуациях и оценивать степень повторяемости результатов. В то время как повторные тестирования одних и тех же особей в стандартных условиях были проведены на нескольких видах птиц (Dingemanse et al. 2002; Kluen et al., 2012; Kluen, Brommer, 2013), аналогичные сведения о тестах в природе практически отсутствуют. В одной из немногих работ по тестированию в естественной среде (Vrublevska et al., 2015) авторы сравнивали реакцию больших синиц на мячик розового цвета, положенный на крышку дуплянки, с аналогичной реакцией на желтый мячик и обнаружили значительную корреляцию между полученными результатами. Тесты проводили с интервалом в двое суток на одном и том же выводке, вероятность повторения результатов через большой промежуток времени при выкармливании другого выводка осталась неизвестной. Вместе с тем исследования на многих видах животных показали, что повторяемость отдельных количественных характеристик поведения особи может снижаться при увеличении интервала между регистрациями (Bell et al., 2009). Cледует при этом отметить, что сила связи между разными чертами поведения, которые могут рассматриваться как типологические, со временем остается неизменной (Garamszegi et al., 2012).
Тесты в естественной обстановке малоинвазивны по сравнению с методами, требующими кратковременного изъятия птиц и помещения их в экспериментальные условия. На наш взгляд, одна из актуальных методических задач — проверка воспроизводимости индивидуальных результатов тестирования на разных видах птиц, в первую очередь на тех, которые служат в качестве модельных объектов в популяционно-экологических исследованиях. Наша работа ставит целью исследовать на мухоловках-пеструшках (Ficedula hypoleuca) решительность как устойчивый во времени индивидуальный признак, оценивая повторяемость реакции птицы на незнакомый объект в последовательных тестах при ее гнездовании на разных участках с одновременной сменой партнера.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Район исследования и характеристика локальной популяции. Работа проведена в западном Подмосковье (55.7°N, 36.7°E), на Звенигородской биостанции им. С. Н. Скадовского Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в 2018—2022 гг. Территория биостанции площадью более 700 га включает участки хвойного и смешанного леса, где в годы исследования было размещено около 500 искусственных гнездовий (дуплянок). На протяжении более чем 40 лет во время сезона гнездования осуществляются регулярная проверка дуплянок, отлов и мечение птиц. Более подробные сведения о месте работ и о самой локальной популяции модельного вида, мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca), трансконтинентального мигранта с моноцикличным в течение сезона размножением, а также о методах отлова и мечения птиц приведены в наших более ранних публикациях (Керимов и др., 1994; Ильина и др., 2019).
Тестирование птиц. Мы проводили тесты на мухоловках-пеструшках в естественной обстановке, непосредственно у гнезд с птенцами старшего возраста (9—15 сут). В этом возрасте птенцы уже не нуждаются в обогреве и поведение как самцов, так и самок в основном связано с кормлением птенцов и реагированием на появление хищников или на другие факторы беспокойства. Число птенцов в гнездах варьировало от двух до девяти. За сутки до начала тестирования на то место, куда планировали ставить видеокамеру, на расстоянии 1.5—2.5 м от дуплянки с гнездом размещали ее муляж, чтобы приучить птиц к проведению видеосъемки. Было выявлено, что после замены привычного муляжа на камеру птицы все равно сначала демонстрировали страх перед ней. Мы решили проверить, можно ли использовать реакцию мухоловок на видеокамеру как один из тестов на неофобию (тест 1). Через три часа после установки видеокамеры на переднюю стенку дуплянки под летком прикрепляли лист белой бумаги формата А5 (тест 2) по аналогии с методом, апробированным Гарамсеги с соавторами (Garamszegi et al., 2014) на самцах мухоловки-белошейки (Ficedula albicollis) в предгнездовой период. После установки объекта экспериментатор включал видеокамеру и уходил, момент включения видеокамеры считали началом тестирования. В каждом из тестов регистрировали время, через которое птица с кормом проникла внутрь дуплянки (возобновление кормления). Во время установки экспериментальных объектов, как правило, было видно или слышно беспокоящихся хозяев гнезд. После ухода человека они успокаивались и через некоторое время прилетали с кормом к гнезду. Акустический и визуальный контроль за присутствием птиц в ближайших окрестностях гнезда позволил расценивать случаи с большой задержкой прилета как реакцию на потенциально опасный объект, а не как следствие долгой отлучки за пределы гнездового участка. Поведение птицы во время теста квалифицировали как проявление решительности. Время произошедшего события регистрировали по видеозаписи в минутах и секундах, после чего последние переводили в доли минут с точностью до десятичного знака. По видеозаписи, которая шла между тестами на протяжении приблизительно трех часов, считали число прилетов каждого из родителей с кормом и оценивали средний интервал между прилетами в режиме обычного кормления. Для видеосъемки использовали видеокамеры моделей Sony SR-80E и Panasonic HC—V750EE, отснятый материал просматривали при помощи программы VLC media player.
В течение всего периода исследований были проведены тесты на мухоловках-пеструшках из 150 гнезд. В 25 гнездах птенцов выкармливали одиночные родители (6 самцов и 19 самок), а в 135 — семейные пары. Всего протестировано 229 особей, для них получено 293 измерения, из них 109 — для 28 самцов и 13 самок, протестированных от двух до четырех раз (средневзвешенный размер кластера — 2.363). Все повторные тесты проведены на разных гнездовых участках с интервалами от 3 до 1103 дней (Med = 367). Ни одна из пар не была встречена на другом гнезде в том же составе; два самца и три самки, помимо тестирования совместно с партнером, участвовали в другом тесте как кормильцы-одиночки. Все повторные тестирования самок были межсезонными. Повторные тесты девяти самцов-полигамов (бигамов) были проведены в один и тот же гнездовой сезон, причем шесть из этих самцов были протестированы еще и в составе моногамных пар в другие 1 или 2 сезона. Число пар измерений одной и той же птицы в соседние сезоны равнялось 54, а пар измерений с еще большими интервалами — 14. Фактор бигамии, а также фактор наличия партнера мы учитывали при анализе данных. Контролировали также число и возраст птенцов (сут), сроки гнездования (порядковый номер дня тестирования, отсчитываемый от 1 мая), пол особи, отсутствие или наличие линьки и ее интенсивность в баллах (Bairlein, 1995), интенсивность кормления птенцов как самой особью, так и ее партнером (средний за три часа видеозаписей интервал между прилетами с кормом), латентное время партнера в том же тесте, а также возраст особи и ее партнера. Птиц разделяли на две возрастных когорты — годовалые особи и особи в возрасте двух лет и старше. Возраст оценивали по степени заостренности центральных рулевых (Высоцкий, 1989), а также по рисунку на дистальных больших верхних кроющих маховых перьях и степени их обношенности (Lundberg, Alatalo, 1992).
Статистические методы. Попарные сравнения между показателями тестов и контролем проводили при помощи критерия Уилкоксона в программе StatSoft Statistica 12.0. Для оценки повторяемости показателей тестирования результаты обрабатывали с применением смешанных моделей (LMM) в статистической среде R v. 4.2.2 (R Core Team, 2022). LMM были построены при помощи функции ‘rptR’ из одноименного пакета (Stoffel et al., 2017). В качестве зависимой переменной в LMM выступали логарифмированные показатели одного из двух поведенческих тестов (теста 1 и теста 2 в отдельности). Случайным фактором в LMM являлся индивидуальный номер кольца птицы (ID), а фиксированным эффектом служил один фактор из следующего набора: пол особи, возраст особи и ее партнера (годовалая или старше), сроки наблюдения (число дней, прошедшее с 1 мая), число и возраст птенцов в выводке, линька (наличие/отсутствие или ее балл), год, интенсивность кормления птенцов особью или ее партнером, полигамность в текущем сезоне (для самцов), показатель партнера в том же поведенческом тесте, который выступает в качестве зависимой переменной в данной модели. Повторяемость, оцененная при помощи LMM с учетом фиксированных факторов, представляет собой т.н. скорректированную повторяемость (adjusted repeatability) (Nakagawa, Schielzeth, 2010).
Соответствие распределения остатков моделей, деленных на их скорректированную стандартную ошибку (studentized residuals), Гауссовому мы проверяли при помощи функции ‘check_normality’ из пакета ‘performance’ (Lüdecke et al., 2020). Статистическая значимость повторяемости (значение p) была вычислена при помощи 10000 пермутаций. Для оценки асимптотических доверительных интервалов повторяемости (95 % CI) использовали 10000 параметрических бутстрэпов. Коэффициенты детерминации (R2) для LMM вычисляли по методу Nakagawa, Schielzeth (2013), используя функцию ‘r2’ из пакета ‘performance’ (Lüdecke et al., 2020). LMM для оценки R2 были построены при помощи функции ‘lmer’ из пакета ‘lme4’ (Bates et al., 2015). Мы использовали два различных варианта коэффициентов детерминации — маргинальный (marginal R2) и условный (conditional R2). Первый показатель демонстрирует ту долю вариации, которая объясняется одними только фиксированными факторами, а второй показывает долю вариации, которую объясняет полная смешанная модель. Сравнивая величины обоих коэффициентов детерминации, можно оценить, какая часть дисперсии зависимой переменной связана со случайным фактором (ID птицы), а не с фиксированным эффектом. Для оценки уровня значимости (p) фиксированных факторов в LMM была использована аппроксимация числа степеней свободы (df) при помощи метода Саттервайта (Satterthwaite’s approximation), реализованного в пакете ‘lmerTest’ (Kuznetsova et al., 2017).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Реакция на новые объекты. Время, через которое особь возобновляла принос корма птенцам после установки незнакомого объекта, значимо превышало средний интервал между прилетами в режиме обычного кормления. Это прослеживалось после появления как видеокамеры, тест 1 (критерий Уилкоксона Z=6.91, n=280, p<0.001), так и листа белой бумаги, тест 2 (критерий Уилкоксона, Z=9.88, n=281, p<0.001), причем в последнем случае, когда новый объект фигурировал непосредственно на самой дуплянке, задержка со входом в дуплянку (тест 2) была выше, чем в первом, когда объект был установлен на расстоянии (тест 1) (критерий Уилкоксона, Z=3.53, n=278, p<0.001).
Повторяемость результатов тестирования на одном и том же гнезде. Между показателями тестирования обнаружена значимая связь. Чем быстрее птица решалась проникнуть внутрь дуплянки в первом тесте, тем быстрее она решалась сделать это и во втором тесте (R= 0.43, SE = 0.049, CI = [0.328, 0.522], p = 1e-04 [Permutation], а при введении в модель второго случайного фактора в виде индивидуального номера кольца птицы, чтобы учесть наличие повторных тестирований одной и той же особи, R=0.34, SE = 0.088, CI = [0.149, 0.488], p = 1e-04 [Permutation]).
Повторяемость результатов тестирования на разных гнездах и анализ фиксированных эффектов. Индивидуальные показатели реакции на видеокамеру (тест 1) относительно сильно варьировали у одной и той же птицы в разных циклах гнездования, проверка их повторяемости не позволила считать эту повторяемость значимой (p>0.05). В то же время анализ показателей в тесте с листом бумаги (тест 2) выявил иную картину: повторяемость результатов в тесте 2 оказалась безусловной (R=0.21, CI= [0, 0.447], p<0.05), то есть она была значимой как без учета фиксированных факторов, так и при учете каждого из них (табл. 1). По результатам бутстрэп-анализа показателей теста 2, несмотря на левостороннюю асимметрию гистограммы (рис. 1), которая хорошо визуализирует полученную нами достоверную повторяемость результатов тестирования, частота значений с нулевой повторяемостью не доминировала над суммой остальных частот. Для сравнения, ранее было выявлено, что такой физиологический показатель, как независимый от массы тела уровень базального метаболизма (BMR), не продемонстрировал у тропических птиц межсезонной повторяемости (Bushuev et al., 2021) и визуализация этого феномена имела иной, чем в нашем исследовании, характер: значение частот на гистограмме, соответствующее величине R, не было выражено в виде пика, а частота нулевых значений была на порядок выше, чем любая другая из частот.
Таблица 1. Анализ повторяемости результатов теста с листом бумаги (теста 2) при помощи линейной смешанной модели
Фиксированный фактор | Повторяемость для случайного фактора — (ID) | Характеристики смешанной модели | ||||
R | CI | P [Permut] | Conditional R2 | Marginal R2 | p | |
Отсутствует | 0.210 | [0, 0.447] | 0.046 | 0.21 | 0 | |
Пол особи | 0.201 | [0, 0.462] | 0.041 | 0.203 | 0.023 | 0.014 |
Срок наблюдения | 0.213 | [0, 0.457] | 0.026 | 0.213 | 0.001 | 0.699 |
Возраст птенцов | 0.206 | [0, 0.448] | 0.029 | 0.207 | 0 | 0.771 |
Число птенцов | 0.244 | [0, 0.483] | 0.014 | 0.25 | 0.008 | 0.126 |
Возраст особи | 0.219 | [0, 0.472] | 0.027 | 0.232 | 0.016 | 0.033 |
Есть/нет линька | 0.212 | [0, 0.474] | 0.035 | 0.231 | 0.025 | 0.0099 |
Балл линьки | 0.229 | [0, 0.489] | 0.029 | 0.244 | 0.019 | 0.027 |
Календарный год | 0.215 | [0, 0.457] | 0.026 | 0.215 | 0 | 0.842 |
Есть/нет партнер | 0.184 | [0, 0.43] | 0.039 | 0.200 | 0.020 | 0.016 |
Возраст партнера | 0.228 | [0, 0.488] | 0.024 | 0.231 | 0.004 | 0.289 |
Показатель партнера в том же тесте 1) | 0.211 | [0, 0.476] | 0.037 | 0.223 | 0.015 | 0.047 |
Интенсивность кормления птенцов (ИКП)1) | 0.225 | [0, 0.471] | 0.044 | 0.318 | 0.12 | <0.001 |
ИКП партнером1) | 0.199 | [0, 0.469] | 0.042 | 0.199 | 0.001 | 0.696 |
Есть/нет вторая семья | 0.165 | [0, 0.417] | 0.05 | 0.165 | 0 | 0.843 |
Примечание. 1) — В модели использованы десятичные логарифмы факторов.
Рис. 1. Результаты бутстрэп-анализа результатов теста 2: R — повторяемость, CI — доверительный интервал
Поочередное включение в Смешанную линейную модель (LMM) в качестве фиксированных факторов некоторых переменных приводило к ее существенному улучшению (табл. 1, столбец Conditional R2), в частности, фактор «Балл линьки» улучшал модель на 16.2 %, а фактор «Интенсивность кормления птенцов» — на 51.4 %. Оба фактора имели положительную связь с показателями тестирования (соответственно t=2.23 и t=6.26), то есть птицы с более высоким баллом линьки и с более длинными интервалами между кормлениями птенцов (величина, обратная частоте кормления) позже возобновляли кормление. Значимыми также оказались такие факторы, как пол и возраст особи, а также наличие или отсутствие партнера и показатели тестирования последнего (табл. 1), но вклад каждого из них не превышал 10 %, то есть был менее весомым, чем у двух первых упомянутых выше. Птицы в возрасте двух лет или старше возобновляли кормление быстрее, чем годовалые особи (t= –2.15), а родители-одиночки — быстрее, чем при наличии партнера (t=2.42). Связь с показателями тестирования партнера была положительной (t=1.995). При наличии во время тестирования большого количества действующих факторов вклад в модель случайного фактора «идентификатор особи» (ID) был наиболее существенным по сравнению со вкладами фиксированных факторов (табл. 1, столбец Marginal R2).
Время, через которое возобновлялось кормление (тест 2), как было отмечено выше, в большинстве случаев было больше, чем средний интервал между прилетами с кормом, поэтому отношение между этими показателями можно было рассматривать в качестве относительной силы реакции особи на новый объект. Мы оценили повторяемость логарифмов отношения первого показателя ко второму. Ее величина была близка к статистически значимой (R=0.187, CI= [0, 0.426], p=0.06), а при последовательном включении в модель таких факторов, как «пол особи», «возраст особи», «возраст партнера», «балл линьки», величины повторяемости варьировали от 0.199 до 0.232 при уровне значимости p<0.05.
Раздельный анализ межсезонной и внутрисезонной повторяемости результатов теста 2 продемонстрировал, что обе эти величины становятся значимыми при включении в модель дополнительных факторов. При сравнении показателей, полученных в разные годы, это фиксированный фактор «число птенцов», а для показателей внутри одного сезона — «балл линьки» (соответственно R=0.211, CI= [0, 0.486], p=0.04 и R=0.622, CI= [0, 0.937], p=0.0488). Без учета этих факторов оба значения повторяемости не отличались значимо от нуля (соответственно R=0.177, CI= [0, 0.443], p=0.0996 и R=0.382, CI= [0, 0.807], p=0.131).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наличие достоверной связи средней силы между показателями в двух последовательных тестах, проведенных на одном и том же гнезде, продемонстрировало относительную устойчивость реакции особи на различные показатели новизны на фоне действия большого числа факторов, оказывающих дополнительное влияние. Вместе с тем между тестами были обнаружены существенные различия по значениям повторяемости результатов, полученных после одновременной смены гнездового участка и партнера. В тесте с установкой нового объекта в виде треноги с видеокамерой (тест 1) повторяемость результатов фактически не отличалась от нулевых значений. На наш взгляд, причиной этому послужили недостаточно жесткие стандарты проведения эксперимента: в зависимости от характеристики ближайшего окружения дуплянки дистанция, на которой можно было установить треногу с видеокамерой, варьировала от 1.5 до 2.5 м. Различались также углы установки треноги по отношению к плоскости передней стенки дуплянки и степень маскировки растительностью. Не исключено также, что предварительная экспозиция муляжа снижала эффект новизны при установке видеокамеры, что усиливало относительное влияние других факторов. Из этого можно сделать вывод, что, к сожалению, практически невозможно безоговорочно использовать в качестве побочного тестирования на индивидуальность материалы видеосъемки, проводимой с какими-либо другими целями, например при изучении питания птиц. В отличие от теста 1 (реакция на видеокамеру), повторяемость результатов в тесте 2 (реакция на лист белой бумаги) оказалась достоверной, из чего можно заключить, что размещение на разных дуплянках одинаковым образом одного и того же незнакомого объекта может служить адекватным тестом для типологизации поведения птиц-дуплогнездников в естественной обстановке. Оптимальным показателем оказалось время, которое прошло с момента включения видеокамеры до первого проникновения птицы внутрь дуплянки (тест 2). Наряду с работами других исследователей (Bell et al., 2009), мы обнаружили тенденцию к снижению повторяемости индивидуальных показателей тестирования с увеличением интервала между экспериментами, однако пока что результаты внутрисезонных и межсезонных сравнений мы рассматриваем как предварительные. Во-первых, по причине небольшого размера выборки невозможно исследовать градиент изменений более подробно, сравнив повторяемость в соседние сезоны и повторяемость с интервалами в два и более года. Во-вторых, удивителен факт относительно высокой внутрисезонной повторяемости, так как она основана исключительно на показателях самцов-бигамов. Можно было бы ожидать различий в их поведении при выкармливании птенцов в первых и вторых гнездах, однако сходство в результатах последовательных тестов самцов-бигамов, хотя и обусловлено действием фиксированного фактора — линьки, указывает на относительно устойчивое проявление их индивидуальности в разных контекстах. Несомненно, необходим дальнейший анализ этого явления с привлечением более обширного материала.
Повторяемость тестов по оценке решительности у диких птиц ранее была выявлена только в экспериментах на больших синицах, которые на протяжении нескольких лет жили в неволе с птенцового возраста (Van Oers et al., 2004). Ее величина была равной 0.26, что сопоставимо с результатами наших тестов 2 (R=0.21), в которых доля межсезонных повторов составляет 89 %. Основываясь на представлении о целостности фенотипа и скоррелированности черт поведения (Verbeek et al., 1996, 1999; Dingemanse et al., 2002; Dingemanse, de Goede, 2003; Drent et al., 2003; Garamszegi et al., 2012;), хотя такой подход при работе на аквариумных рыбах продемонстрировал негативные стороны (Beckmann, Biro, 2013), мы сравнили повторяемость наших результатов в тесте на решительность (тест 2) с повторяемостью тестов на другую черту, включаемую в типологическую характеристику, а именно на так называемую исследовательскую активность (exploratory behaviour). В качестве регистрируемого показателя этой активности в работах на птицах выступало число локомоций в «открытом поле» (exploration score, activity score). Сравниваемые результаты были получены рядом авторов в долгосрочных экспериментах на одних и тех же особях больших синиц (Parus major), лазоревок (Cyanistes caeruleus) и зябликов (Fringilla coelebs) (Dingemanse et al., 2002; Quinn, Cresswell 2005; Kluen, Brommer, 2013). Птиц в этих экспериментах периодически изымали на короткое время из природы, тестировали в “открытом поле” их локомоторную активность, после чего отпускали (табл. 2). Судя по величинам повторяемости (R), у всех видов, за исключением одной из групп лазоревок, сила связи между результатами тестирования в разные годы варьировала между слабым и средним уровнями (по аналогии со шкалами связей, используемыми в психосоциальных исследованиях (Котеров и др., 2019)). Полученная нами величина (R=0.21) сходна с полученными значениями или даже превышает некоторые из них, несмотря на то что тесты на мухоловках-пеструшках были проведены не в “открытом поле”, а под непосредственным влиянием факторов внешней среды. Важно, что небольшое количество внутрисезонных повторов (11 %), которые могут увеличивать повторяемость всех результатов в целом, характеризуют поведение одной и той же особи на разных участках и в присутствии разных партнеров. В отличие от проведенных в условиях неволи работ, в которых результаты тестов не зависели ни от пола, ни от возраста птиц (Dingemanse et al., 2002; Drent et al., 2003; Van Oers, 2003), мы обнаружили, что в природной среде эти характеристики особи достоверно влияли на проявление индивидуальности, хотя и не маскировали ее существенно. Отмечено, что действие некоторых факторов имело противоположную направленность. Наиболее сильное влияние на поведение мухоловок оказывали наличие линьки оперения и интенсивность кормления птенцов. Первый фактор отрицательно связан с проявлением решительности, а второй — положительно. Хорошо известно, что смена пера требует повышенного расхода энергии и, следовательно, конкурирует с другими энергетическими затратами, в частности с такими, как затраты на самоподдержание и родительское поведение (Дольник, 1995). Выявлено, что у самцов мухоловки-пеструшки, совмещающих линьку с гнездованием, сила иммунного ответа на новый антиген обусловлена типом их брачной окраски. В то же время повышение иммунного ответа самцов сопровождается снижением уровня родительской заботы (Керимов и др., 2012; Kerimov et al., 2018). Возможно, пребывание в состоянии линьки, ослабляя родительскую мотивацию, снижает решительность птиц при взаимодействии с незнакомым объектом, но небольшой объем материала не позволяет определить, в какой мере эта причина приводит к выявленному нами эффекту. Интенсивность кормления птенцов перед тестированием и решительность проникнуть в гнездо после появления возле него незнакомого объекта сходным образом зависят от родительской мотивации особи. Вместе с тем, судя по полученным коэффициентам детерминации смешанных моделей, даже самый сильнодействующий фактор (“интенсивность кормления птенцов”) оказывает на модель меньшее влияние, чем случайный фактор (ID) (табл. 1). Значительная роль последнего фактора, являющегося маркером индивида, показывает, что выявленная в работе долгосрочная повторяемость результатов тестирования птиц свидетельствует об устойчивом проявлении индивидуальных черт поведения особи на фоне действия разнообразных внешних и внутренних (связанных с ее мотивационным и физиологическим состоянием) естественных условий.
Таблица 2. Повторяемость результатов тестирования в “открытом поле” свободноживущих птиц нескольких видов, кратковременно изымаемых из природы для проведения эксперимента
Вид | Сезон | Величины повторяемости, R | Источник |
Большая синица, Parus major | Ноябрь ‒ март | 0.27—0.48 | Dingemanse et al., 2002 |
Лазоревка, Cyanistes caeruleus | Зима | 0.18—0.46 | Kluen, Brommer, 2013 |
Лазоревка, Cyanistes caeruleus | Гнездование | 0—0.24 | Kluen, Brommer, 2013 |
Зяблик, Fringilla coelebs | Гнездование | 0.39 | Quinn, Cresswell 2005 |
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена в рамках научного проекта государственного задания МГУ имени М.В. Ломоносова № 121032300108-1 “Надорганизменные системы различных уровней и механизмы их функционирования у позвоночных животных”.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
В 2018—2022 гг. исследование было одобрено Комитетом по биоэтике Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (http://bioethics.msu.ru; протоколы №№ 59-ж от 21.04.2017, 88-ж от 18.04.2019, 120-ж от 10.12.2020, 120-ж-2 от 17.03.2022).
Об авторах
Т. А. Ильина
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Автор, ответственный за переписку.
Email: ilyina@mail.bio.msu.ru
Россия, Москва
А. В. Киселева
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Email: ilyina@mail.bio.msu.ru
Россия, Москва
А. В. Бушуев
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Email: ilyina@mail.bio.msu.ru
Россия, Москва
Е. В. Иванкина
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Email: ilyina@mail.bio.msu.ru
Россия, Москва
А. Б. Керимов
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Email: ilyina@mail.bio.msu.ru
Россия, Москва
Список литературы
- Васильева Н.А. Синдром темпа жизни (pace-of-life syndrome, POLS): эволюция концепции // Зоологический журнал. 2021. Т. 100. № 9. С. 969—983. doi: 10.31857/S0044513421090117
- Высоцкий В.Г. Определение возраста у мухоловок-пеструшек Ficedula hypoleuca в период размножения // Труды Зоологического института АН СССР. 1989. Т. 197. С. 49—52.
- Гриньков В.Г. Условия стабильного поддержания фенотипической структуры популяции на примере изменчивости окраски брачного наряда у самцов мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca Pall.): Автореф. дис. канд. биол. наук. М.: МГУ, 2000. 24 с.
- Дольник В.Р. Ресурсы энергии и времени у птиц в природе // Труды Зоологического института РАН. 1995. Т. 179. С. 1—360.
- Ильина Т.А., Иванкина Е.В., Керимов А.Б. Роль социального фактора в освоении новой среды у большой синицы (Parus major) в условиях ограниченного пространства // Зоологический журнал. 2010. Т. 89. № 9. С. 1131—1138.
- Ильина Т.А., Киселева А.В., Беляков В.В., Еланская А.С., Паллак А.М., Уварова М.А., Устинова Д.А. Поведенческие типы у птиц и их выявление в природных условиях на примере мухоловки-пеструшки // Орнитология. 2022. Т. 46. С. 5—12. doi: 10.56658/04747313_2022_46_5
- Ильина Т.А., Крупицкий А.В., Бушуев А.В. Связь успешности межвидового выкармливания птенцов с шириной трофической ниши вида-реципиента у птиц-дуплогнездников // Зоологический журнал. 2019. Т. 98. № 6. С. 649—664. doi: 10.1134/S0044513419060072
- Керимов А., Иванкина Е., Шишкин В. Неустойчивый половой диморфизм и параметры размножения мухоловки-пеструшки // Орнитология. 1994. Т. 26. С. 13—27.
- Керимов А.Б., Роговин К.А., Иванкина Е.В., Бушуев А.В., Соколова О.В., Ильина Т.А. Специфический иммунитет и полиморфизм брачного наряда самцов мухоловки-пеструшки, Ficedula hypoleuca (Aves: Passeriformes) // Журнал общей биологии. 2012. Т. 73. № 5. С. 349—359.
- Котеров А.Н., Ушенкова Л.Н., Зубенкова Э.С., Калинина М.В., Бирюков А.П., Ласточкина Е.М., Молодцова Д.В., Вайнсон А.А. Сила связи. Сообщение 2. Градации величины корреляции // Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2019. Т. 64. № 6. С. 12—24. doi: 10.12737/1024-6177-2019-64-6-12-24
- Минина М.А., Телегина Я.Р., Друзяка А.В., Зотов А.Ю. Влияние условий раннего развития на формирование индивидуальных поведенческих характеристик у птенцов озерной чайки (Larus ridibundus) // Орнитология: история, традиции, проблемы и перспективы. Материалы Всероссийской конференции, посвященной 120-летию со дня рождения профессора Г. П. Дементьева. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2018. С. 246—253.
- Шилов И.А. Эколого-физиологические основы популяционных отношений у животных. М.: Изд-во Московского университета, 1977. 262 с.
- Шилов И.А. Экология. М.: Высшая школа. 2001. 512 с.
- Шилов И.А., Каменов Д.А., Маслов С.П. Значение основных свойств нервной системы в становлении иерархической структуры в однополых группах домовых мышей // Зоол. журн. 1974. Т. 43. № 10. С. 1548—1555.
- Bairlein F. Manual of field methods. European-African songbird migration network // Institut für Vogelforschung, Wilhelmshaven. 1995. 32 pp.
- Bates D., Mächler M., Bolker B., Walker S. Fitting linear mixed-effects models using lme4 // Journal of Statistical Software. 2015. V. 67. № 1. P. 1—48.
- Beckmann C., Biro P.A. On the validity of a single (boldness) assay in personality research // Ethology. 2013. V. 119. № 11. P. 937—947. doi: 10.1111/eth.12137
- Bell A.M., Hankison S.J., Laskowski K.L. The repeatability of behaviour: a meta-analysis // Animal behaviour. 2009. V.77. № 4. P. 771—783. doi: 10.1016/j.anbehav.2008.12.022
- Both C., Dingemanse N.J., Drent P.J., Tinbergen J.M. Reproductive success and Great Tit personalities // Natural Selection and Avian Personality in a Fluctuating Environment. 2003. P. 59—70.
- Burtt H.E., Giltz M.L. Personality as a variable in the behavior of birds // The Ohio Journal of Science. 1973. V.73. № 2. P. 65—82.
- Bushuev A., Zubkova E., Tolstenkov O., Kerimov A. Basal metabolic rate in free-ranging tropical birds lacks long-term repeatability and is influenced by ambient temperature. // Jornal of Experimental Zoology. 2021 V. 335. P. 668—677. doi: 10.1002/jez.2532
- Dingemanse N.J., Both C., Drent P.J., Van Oers K., Van Noordwijk A J. Repeatability and heritability of exploratory behaviour in great tits from the wild // Animal behaviour. 2002. V. 64. № 6. P. 929—938. doi: 10.1006/anbe.2002.2006
- Dingemanse N.J., de Goede P. Winter dominance and avian personality in the wild // Natural selection and avian personality in a fluctuating environment. 2003. P. 33—46.
- Dingemanse N.J., Wolf M. Recent models for adaptive personality differences: a review // Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 2010 V. 365. № 1560. P. 3947—3958. doi: 10.1098/rstb.2010.0221
- Drent P.J., van Oers K., van Noordwijk A.J. Realized heritability of personalities in the great tit (Parus major) // Proceedings of the Royal Society of London Series B: Biological Sciences. 2003 V. 270. № 1510. P. 45—51. doi: 10.1098/rspb.2002.2168
- Forsman A. Rethinking phenotypic plasticity and its consequences for individuals, populations and species // Heredity. 2015. V. 115. № 4. P. 276—284. doi: 10.1038/hdy.2014.92
- Garamszegi L.Z., Markó G., Herczeg G.A. Meta-analysis of correlated behaviours with implications for behavioural syndromes: mean effect size, publication bias, phylogenetic effects and the role of mediator variables // Evolutionary Ecology. 2012. V. 26. № 5. P. 1213—1235. doi: 10.1007/s10682-012-9589-8
- Garamszegi L.Z., Mueller J.C., Markó G., Szász E., Zsebök S., Herczeg G., Eens M., Török J. The relationship between DRD4 polymorphisms and phenotypic correlations of behaviors in the collared flycatcher // Ecology and evolution. 2014. V. 4. № 8. P. 1466—1479. doi: 10.1002/ece3.1041
- Groothuis T.G., Carere C. Avian personalities: characterization and epigenesis // Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2005. V. 29. № 1. P. 137—150. doi: 10.1016/j.neubiorev.2004.06.010
- Herborn K.A., Macleod R., Miles W.T., Schofield A.N., Alexander L., Arnold K.E. Personality in captivity reflects personality in the wild // Animal Behaviour. 2010. V. 79. № 4. P. 835—843. doi: 10.1016/j.anbehav.2009.12.026
- Houston A.I. Evolutionary models of metabolism, behaviour and personality // Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 2010. V. 365. № 1560. P. 3969—3975. doi: 10.1098/rstb.2010.0161
- Kerimov A.B., Ilyina T.A., Ivankina E.V., Bushuev A.V., Sokolova O.V., Rogovin K.A. Melanin-based coloration and immunity in polymorphic population of pied flycatcher, Ficedula hypoleuca // Evolutionary ecology. 2018. V. 32. P. 89—111. doi: 10.1007/s10682-017-9926-z
- Kluen E., Brommer J.E. Context-specific repeatability of personality traits in a wild bird: a reaction-norm perspective // Behavioral Ecology. 2013. V. 24. № 3. P. 650—658. doi: 10.1093/beheco/ars221
- Kluen E., Kuhn S., Kempenaers B., Brommer J.E. A simple cage test captures intrinsic differences in aspects of personality across individuals in a passerine bird // Animal Behaviour. 2012. V. 84. № 1. P. 279—284. doi: 10.1016/j.anbehav.2012.04.022
- Koolhaas J., Korte S., De Boer S., Van Der Vegt B., Van Reenen C., Hopster H., De Jong I.C., Ruis M.A.W., Blokhuis H.J. Coping styles in animals: current status in behavior and stress-physiology // Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 1999. V. 23. № 7. P. 925—935.
- Kuznetsova A., Brockhoff P.B., Christensen R.H.B. lmerTest package: tests in linear mixed effects models // Journal of Statistical Software. 2017. V. 82. № 13. P. 1—26. doi: 10.18637/jss.v082.i13
- Lüdecke D., Makowski D., Waggoner P., Patil I. Performance: Assessment of Regression Models Performance. R package v. 0.6.0. 2020. https://easystats.github.io/performance/egression models performance.
- Lundberg A., Alatalo R. V. The Pied Flycatcher. London: T. and A. D. Poyser, 1992. 267 p.
- Murren C.J., Auld J.R., Callahan H., Ghalambor C.K., Handelsman C.A., Heskel M.A., Kingsolver J.G., Maclean H.J., Masel J., Maughan H., Pfennig D.W., Relyea R.A., Seiter S., Snell-Rood E., Steiner U.K., Schlichting C.D. Constraints on the evolution of phenotypic plasticity: limits and costs of phenotype and plasticity // Heredity. 2015. V. 115. № 4. P. 293—301. doi: 10.1038/hdy.2015.8
- Nakagawa S., Schielzeth H. Repeatability for Gaussian and non‐Gaussian data: a practical guide for biologists // Biological Reviews. 2010. V. 85. № 4. P. 935—956. doi: 10.1111/j.1469—185X.2010.00141.x
- Nakagawa S., Schielzeth H.A. General and simple method for obtaining R2 from generalized linear mixed‐effects models // Methods in ecology and evolution. 2013. V. 4. № 2. P. 133—142. doi: 10.1111/j.2041-210x.2012.00261.x
- Pusch E.A., Navara K.J. Behavioral phenotype relates to physiological differences in immunological and stress responsiveness in reactive and proactive birds // General and Comparative Endocrinology. 2018. V. 261. P. 81—88. doi: 10.1016/j.ygcen.2018.01.027
- Quinn J.L., Cresswell W. Personality, anti-predation behaviour and behavioural plasticity in the chaffinch Fringilla coelebs // Behaviour. 2005. V. 142. № 9—10. P. 1377—1402.
- Réale D., Reader S.M., Sol D., McDougall P.T., Dingemanse N.J. Integrating animal temperament within ecology and evolution // Biological reviews. 2007. P. 82. № 2. P. 291—318. doi: 10.1111/j.1469—185X.2007.00010.x
- Sih A., Bell A.M., Johnson J.C., Ziemba R.E. Behavioral syndromes: an integrative overview // The Quarterly Review of Biology. 2004. V. 79. № 3. P. 241—277.
- Stoffel M.A., Nakagawa S., Schielzeth H. rptR: Repeatability estimation and variance decomposition by generalized linear mixed‐effects models // Methods in ecology and evolution. 2017. V. 8. № 11. P. 1639—1644. doi: 10.1111/2041-210X.12797
- Timm K., Tilgar V., Saag P. DRD4 gene polymorphism in great tits: gender-specific association with behavioural variation in the wild // Behavioral Ecology and Sociobiology. 2015. V. 69. № 5. P. 729—735. doi: 10.1007/s00265-015-1887-z
- Van Oers C. H.J. On the genetics of avian personalities: mechanism and structure of behavioural strategies in the great tit (Parus major): PhD Thesis. Utrecht: Universiteit van Utrecht, 2003. 136 pp.
- Van Oers K., Drent P.J., De Goede P., Van Noordwijk A.J. Realized heritability and repeatability of risk-taking behaviour in relation to avian personalities // Proceedings of the Royal Society of London Series B: Biological Sciences. 2004. V. 271. № 1534. P. 65—73. doi: 10.1098/rspb.2003.2518
- Van Oers K., Drent P.J., Dingemanse N.J., Kempenaers B. Personality is associated with extrapair paternity in great tits, Parus major // Animal Behaviour. 2008. V. 76. № 3. P. 555—563. doi: 10.1016/j.anbehav.2008.03.011
- Van Oers K., Klunder M., Drent P.J. Context dependence of personalities: risk-taking behavior in a social and a nonsocial situation // Behavioral Ecology. 2005. V. 16. № 4. P. 716—723. doi: 10.1093/beheco/ari045
- Verbeek M.E., Boon A., Drent P.J. Exploration, aggressive behaviour and dominance in pair-wise confrontations of juvenile male great tits // Behaviour. 1996. V. 133. № 11—12. P. 945—963.
- Verbeek M.E., Drent P., De Goede P., Wiepkema P. Individual behavioural characteristics and dominance in aviary groups of great tits // Behaviour. 1999. V. 136. № 1. P. 23—48.
- Vrublevska J., Krama T., Rantala M. J., Mierauskas P., Freeberg T.M., Krams I.A. Personality and density affect nest defence and nest survival in the great tit // Acta ethologica. 2015. V. 18. P. 111—120. doi: 10.1007/s10211-014-0191-7
Дополнительные файлы