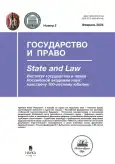Russian federalism as a preimage of the future global multi-polarity
- Authors: Dobrynin N.M.1
-
Affiliations:
- Tyumen State University
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 32-42
- Section: Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences: towards the centenary
- URL: https://journal-vniispk.ru/1026-9452/article/view/259443
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1026945224020037
- ID: 259443
Cite item
Full Text
Abstract
The article represents the author’s effort to extract a key national and cultural particularity of the Russian federalism model. Taking into account a historical experience of the federative development in Russia as well as the traditions of the Russian school of federalism, it is concluded that the key particularity of the Russian federalism is not concerning just an utilitarian distribution of powers and functions between federal and sub-federal authorities; it is first of all providing the equality of intra-societal dialogue, based on a reciprocal respect of the different ethnos and nations, forming together the multinational Russian people and, as a consequence, the united Russian state. In this context, the author arguing an idea that namely the Russian federalism model should be observed as a realistic preimage of the future multi-polarity in the changing world order.
Full Text
«В Дагестане – я аварец, в России – дагестанец, а за границей – я русский».
Расул Гамзатов
Многополярность и федеративная идея: несколько вводных замечаний
События, происходящие в современном мире с конца 2021 – начала 2022 г., мало кого из людей оставили безучастными. Калейдоскоп мнений, идей и действий, связанных с развитием ситуаций на Украине и Ближнем Востоке, закономерно притягивает внимание политиков, военных, ученых, прессы и простых обывателей. Однако по-прежнему лишь очень небольшое число внешних наблюдателей в состоянии самостоятельно осмыслить, какие причины тектонического порядка лежат в основе происходящего на наших глазах разлома в миропорядке, окружавшем нас на протяжении более полувека, и зарождение каких тенденций будущего становится возможным проследить уже сейчас.
Сегодня мы имеем возможность воочию наблюдать крушение западной либеральной правовой идеологии, которая в своей эволюции, увы, дошла до возможности отрицания базисных социальных ценностей: неприкосновенности собственности, нерушимости договоров (pacta sunt servanda), права каждого на свободу самоопределения и самовыражения (которое, по сути, может в любой момент блокироваться посредством «модернизированной» формы остракизма – т. н. культуры отмены) и, что особенно важно, неделимости и неотчуждаемости суверенитета (прежде всего не государственного, а национального – как суверенитета, носителем которого выступают соответствующие народы и нации).
Но что же тогда остается сегодня тем национальным государствам, которые явно или (из политических опасений) завуалированно не соглашаются заниматься оправданием идеологии двойных стандартов, столь открыто теперь исповедуемой т. н. коллективным Западом?
Выступая в июне 2023 г. на пленарном заседании ежегодного Петербургского международного экономического форума, Президент РФ В. В. Путин отметил на этот счет: «С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются часто хамскому давлению, а руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объемы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы и сейчас продолжают расти дальше. И это еще одно доказательство, что здравый смысл, энергия бизнеса, объективные рыночные законы работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура. Это говорит о том, что уродливая по своей сути неоколониальная международная система прекратила свое существование»1.
Президент страны и ранее указывал, что исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, а однополярный мир уходит в прошлое: «Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны»; главное противоречие новой эпохи в том, что Запад «не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться»2.
С соответствующими заявлениями на различных площадках уже выступили представители многих стран, включая глав государств. В мире усиливаются тенденции к глобальной дедолларизации и переходу на расчеты в национальных валютах, расширяются или готовятся к расширению различные международные организации экономического и социального сотрудничества – БРИКС, ШОС, АСЕАН и др. Речь, наконец, идет даже о формировании условного «глобального Юга», и уже на Западе обо всех этих мировых трендах, только усилившихся с февраля 2022 г., открыто говорят, а трезвомыслящие призывают остановиться и прекратить вдохновляемую англосаксами русофобскую экзальтацию.
Возвращаясь к проблематике многополярного мироустройства, заметим, что на прошедшем в апреле 2023 г. заседании Совета по местному самоуправлению Президент РФ В. В. Путин совершенно справедливо сказал: «Этот тренд <…> тенденция в мире к многополярности – она неизбежна. Она будет только усиливаться. И те, кто этого не поймет и не будет следовать в этом тренде, будут проигрывать. Это факт абсолютно очевидный. Это так же очевидно, как подъем солнца. С этим ничего не поделать»3.
Именно поэтому сегодня самое время воспользоваться этой поворотной точкой в развитии человечества, переосмыслив, какую Россию мы строим и какой мы хотели бы видеть ее через 10, 20, 50, 100 лет. Это, вне всякого сомнения, дискуссия о морально-этическом, нравственном, ценностном наполнении хорошо известных всем «вечных конституционных идеалов». Одним из таких «идеалов» для нашей многонациональной державы, безусловно, выступает федеративная идея, а российская модель федерализма, по нашему глубокому убеждению, являет собой основанный на положительном опыте прообраз глобальной многополярности будущего.
Конечно, данный тезис нуждается в дополнительном пояснении и обосновании, чему и будет посвящено дальнейшее изложение. Однако очевидно, что, обсуждая конституционно-правовое развитие России в стремительно изменившихся геополитических реалиях, необходимо четко представлять наши задачи и планомерно работать над их решением. Ключевая из них – прежде всего укрепление государственного суверенитета страны и наращивание на этой почве дипломатического авторитета, возможностей и механизмов для развития многостороннего сотрудничества с международными партнерами, заинтересованными в работе с Россией на основе взаимного учета интересов и уважения, создание прочной основы для укрепления международного мира и безопасности с учетом последних событий на Украине и в мире. И вполне закономерно, что наработанный Россией за десятилетия опыт федеративного строительства, обеспечивающего как управляемость государства, так и единство многонационального народа в масштабах страны, имеющей гигантскую территорию, есть самое убедительное доказательство того, что построение нового многополярного миропорядка, основанного на взаимном признании, уважении и равноправном диалоге суверенных наций, не просто теоретически возможно, а вполне реально, достижимо и оправданно с практической точки зрения.
Вот почему дальнейшее изучение этого опыта, его обновленное осмысление применительно к изменившимся глобальным реалиям по-прежнему актуальны и, как и в предшествующие десятилетия, всё так же формируют один из важнейших дискурсов отечественной конституционно-правовой науки.
Соотношение понятий федерализма и федерации в контексте эволюционного развития федеративной идеи в России
Российский федерализм как конституционно-правовое явление и как реальная форма территориального государственного устройства своим возникновением, началом становления и развития обязан Октябрьской революции 1917 г. Объявленные в ходе революционных событий социальные, экономические, политические и, как результат, конституционные преобразования ознаменовали переход от самодержавной унитарной Российской империи к Российской Советской Федеративной Социалистической Республике, а позднее и к более масштабному государственному федеративному образованию – Союзу ССР.
Специфика федеративных отношений в Советской России, безусловно, заслуживает исследования и описания не иначе как в отдельной публикации. Ключевой же посыл в рамках концепции советской федерации состоял в том, что федерация рассматривалась не столько как способ территориально распределенного управления большой страной, а преимущественно как механизм решения т. н. (вслед за В. И. Лениным) национального вопроса. Обозначая суть этой модели в современном контексте, многие, вероятнее всего, констатировали бы, что идея советской федерации (предполагавшая союз равноправных советских национальных республик с их правом выхода из состава федерации) рассматривалась прежде всего как средство устранения колониальной политики самодержавной центральной власти по отношению к периферийным территориям Российской империи и как способ сбалансирования протестных настроений территориальных окраин за счет признания роста их национально-культурного самосознания и предоставления им относительной политико-управленческой автономии в решении местных дел.
Очевидным минусом в опыте федеративного строительства советских лет является, пожалуй, лишь то, что коммунистическая идеология тем не менее не уберегла Советский Союз от фактического превращения в очередную империю, при которой идея советской федерации (как и многие другие благие намерения большевиков) осталась лишь декорацией на бумаге, так и не став реально существующей и действующей системой организации советской власти в союзных республиках. Чтобы провести в этом смысле отчетливую параллель с самодержавием, достаточно вспомнить хотя бы то, с какими грубейшими конституционными нарушениями и, по сути, волею только одного человека от РСФСР была отторгнута исторически принадлежавшая ей территория Крыма и затем административным порядком включена в состав Украинской ССР4.
Следует отметить, что в исторической ретроспективе наиболее динамичный и, можно сказать, «пиковый» период вековой истории российского федерализма приходится лишь на последние три десятилетия, прошедшие с того момента, когда советский общественно-государственный строй прекратил свое существование и Россия взяла курс на демократическое развитие. Самым знаковым событием в этом непродолжительном периоде, по сути, обозначившим его начало, без сомнения, стало принятие 12 декабря 1993 г. Конституции РФ. В этой связи российский федерализм отнюдь не безосновательно может и должен быть оценен как «юное» конституционное явление, которое, пусть даже и находясь на некоей опоре предшествующих достижений, все же еще лишь отыскивает, «примеряет» и приобретает свои очертания и содержание, привлекая к себе внимание ученых, политиков, всех тех, кто не равнодушен к судьбе России.
Эффективное выстраивание федеративных отношений требует комплексных мер, связанных не только с проработкой и реализацией основных принципов и норм конституционного права, но и с совершенствованием политической, экономической, социальной и культурной сфер общества. Иными словами, проблема федерализма значима в масштабах всего конституционного строительства в нашей стране, а потому она находится в диалектической связи со всеми его проблемами и вызовами. Следовательно, осмысление и поиск эффективных решений по всему спектру насущных задач развития российской модели федерализма настоятельно требует широкого, системного взгляда на такие феномены, как федерализм и федерация.
Хорошо известно и, по сути, в настоящее время общепризнанно то обстоятельство, что для России с ее гигантскими пространствами, существенными различиями в климатическом и ресурсном потенциале территорий, их этническом составе и культурологической составляющей какой-либо иной вариант государственного устройства, кроме федеративного, по всей видимости, попросту нерационален. Однако, полагаем, многие согласятся и с тем, что между федерализмом как образом государственного правления и федеративным принципом государственного устройства может существовать довольно ощутимая разница.
В этой связи нельзя не отметить, что за три десятилетия, прошедшие со дня принятия Конституции РФ, почти все крупные отечественные конституционалисты (за редчайшими исключениями) в своих трудах касались проблематики федерализма как одного из осевых элементов современного конституционного строя России: наиболее фундаментальные и новаторские из многочисленных трудов стали классикой современной российской правовой мысли. И это не случайно, ведь реальное соотношение идей федерализма с другими конституционными принципами и ценностями во многом определяет как практическую состоятельность последних, так и в целом цивилизационный облик России в новом столетии.
Вероятно, не будет преувеличением утверждать, что российский федерализм (в рамках его существующей конституционной модели) в своем эволюционном развитии уже прошел ряд стадий, выделение которых (хотя бы весьма условное) крайне важно для осмысления и тех результатов, к которым сегодня пришел российский концепт федерализма, и тех тенденций, которые эти результаты закладывают на будущее.
Поначалу, непосредственно после принятия Конституции РФ 1993 г., наше общество, находившееся на гребне набравшей силу волны отрицания (и даже шельмования) всего советского, увязло в тщетной попытке привить на российской почве сугубо утилитарное отношение к федерализму как таковому и федеративной идее в целом. Коллеги-конституционалисты помнят, как мы в 1990-е гг. (и даже в начале 2000-х) жадно стремились исследовать опыт федерализма в США, Канаде, Австралии и в значительно меньшей степени – в Бразилии, Мексике, Индии и ряде других государств; затем предпринимали малопродуктивные попытки перенести в Россию и даже отчасти адаптировать к нашим условиям кальку с зарубежных (как правило, англосаксонских) моделей федерализма, не отдавая отчета в том, что между российской концепцией федерализма и зарубежными федеративными моделями существует гигантское различие, которое во многом обусловлено этноментальными и культурно-нравственными цивилизационными особенностями, и потому теоретически это различие могло быть преодолено лишь одним путем – посредством отказа многонационального российского народа от своей национально-культурной идентичности и в конечном счете национального суверенитета.
И хорошо, что такой отказ не случился, а цивилизационное различие между российской федеративной идеей и зарубежными моделями федерализма сохранилось и еще будет сохраняться долгие годы. Однако для того, чтобы понять, почему это случилось именно так и в чем заключается это ключевое различие, необходимо более детально исследовать мировоззренческую парадигму, которая лежит в основании сложившихся в нашей стране представлений о федерализме и федерации как явлениях общественно-политического уклада.
Духовно-ценностные основания концепции федерализма в российской традиции учений о государстве
Вполне очевидным является то, что в современной российской конституционно-правовой науке многие разночтения и даже антиномии, связанные с представлениями о федерализме и федерации, во многом обусловлены тем, что ни ученые, ни политики и государственные деятели, ни общество в целом пока еще не определились в полной мере с тем, какая мировоззренческая парадигма должна быть положена в основу этих представлений. По-прежнему занимают значительное место подходы, основанные на утилитаристском понимании федерализма как системы распределения государственных функций и публичных дел между разными территориальными уровнями осуществления публичной власти. В этом смысле федерализм предстает лишь как один из элементов в целом бездушной (и бездуховной) машины публичного администрирования, ядро которой образуют не люди, а функции.
Между тем для России такие подходы – с учетом исторических факторов и объективных национально-культурных особенностей страны – представляются не вполне подходящими. Однако выработка нужной мировоззренческой парадигмы российской модели федерализма, которая была бы совместима с реалиями в контексте принципа историзма и национально-культурных особенностей нашей страны, по-прежнему осложняется тем обстоятельством, что в отечественных общественно-политических учениях на протяжении всей истории их развития не наблюдалось единодушия в оценке таких явлений, как федерализм и федерация, применительно к возможным или актуальным вариантам их реализации на практике. Характерно отсутствие такого единодушия и для современного периода развития российской государственно-правовой науки.
Как известно, период истории России начала 2000-х гг. был ознаменован в значительной степени необходимостью преодоления наиболее острых кризисных явлений, связанных с переходом от советского государственно-общественного строя к новому демократическому укладу. В этих условиях естественным образом возник вопрос о выборе курса дальнейшего развития страны, укрепления и совершенствования основ российской государственности и социального строя в целом, которые к тому времени получили свое формально-юридическое закрепление в Конституции РФ, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. В этом контексте одним из наиболее ярких ориентиров, который, как представляется, во многом обусловил выбор руководством страны политического и идеологического векторов, стало научное и творческое наследие видного русского философа и ученого И. А. Ильина5, отвергнутое советской властью и преданное ею забвению.
Вместе с тем ориентация политико-социального курса современной России на идеи И. А. Ильина сама по себе не была обусловлена лишь отрицанием советской модели государственного и общественного строительства посредством обращения к консервативным воззрениям дореволюционного периода: произведения И. А. Ильина, по нашему убеждению, поражают не только своей глубиной и проницательностью, но и тем, что, будучи созданными в первой половине XX столетия, они с необыкновенной точностью отражают те события, с которыми столкнулось наше государство на историческом рубеже перехода от советского строя к новому – строю современной России. Выводы же, сделанные автором, не опровергаются, а напротив, находят свое подтверждение и сегодня, когда научное сообщество располагает значительно более широким методологическим инструментарием.
При этом ценность идей И. А. Ильина применительно к обсуждаемой в настоящей работе проблеме соотношения представлений о федерализме и федерации состоит в том, что государство в целом, а также внутригосударственные и межгосударственные отношения и связи ученый ставит на «рациональную» основу, опираясь на правосознание конкретного индивида, групп индивидов, общества. Правосознание, в свою очередь, выражает восприятие и понимание индивидами естественно-правовых начал, справедливости, общей цели, объединяющей их в различные сообщества. В преломлении сквозь призму современных реалий эта методология представляется крайне перспективной в качестве теоретико-правового и идеологического базиса как для достижения еще более высокого уровня солидаризации многонационального народа России, так и для дальнейшей эффективной модернизации российской государственности на современном этапе. Вот почему основные положения учения И. А. Ильина о федерализме и федерации заслуживают более подробного анализа и оценки.
Раскрывая вопросы федеративного государственного устройства, первое, что констатирует И. А. Ильин, это неудовлетворительное состояние учения о федерализме, особенно той его части, которая лежит в «зоне ответственности» отечественных мыслителей. «Большинство наших доморощенных федералистов, – пишет он, – имеет лишь смутное понятие о предмете своих мечтаний: они не понимают – ни юридической формы федерации, ни условий возникновения здорового федерализма, ни истории федеративной государственности. Видят во всем этом некую завершительную форму “политической свободы”, которая якобы должна всех удовлетворить и примирить; и по старой русской привычке решают: “чем больше свободы, тем лучше!”»6.
Обозначенная мысль И. А. Ильина созвучна позиции, высказанной его коллегой по Московскому университету А. С. Ященко еще в 1912 г.7: «Мы не знаем ни одной русской попытки дать хотя бы приблизительно самостоятельное построение федеративной теории»8.
Анализируя юридическую природу федерации, И. А. Ильин отмечает: «В науке государственного права федерацией называется союз государств, основанный на договоре и учреждающий их законное, упорядоченное единение. Значит, федерация возможна только там, где имеется налицо несколько самостоятельных государств, стремящихся к объединению. Федерация отправляется от множества и идет к единению и единству. Это есть процесс отнюдь не центробежный, а центростремительный. Федерация не расчленяет (не дифференцирует, не разделяет, не дробит), а сочленяет (интегрирует, единит, сращивает) (выделено мною. – Н.Д.)»9.
Отголоски представленной концепции находят свое выражение и в суждениях современных авторитетных представителей науки конституционного права. Так, С. А. Авакьян, анализируя вопросы централизации и децентрализации власти в связи с государственным устройством, утверждает: «Категория децентрализованного государства является весьма условной, поскольку создание государства – это всегда выделение таких дел, которыми должен управлять центр, это централизация руководства. Иначе говоря, централизация – синоним государства, его неотъемлемый атрибут. <…> Сложно видеть ту черту, за которой начинается переход от децентрализации к разрушению государства»10.
Исторически федерация всегда образовывалась из союза малых государств – таково, с точки зрения И. А. Ильина, типичное возникновение классического федеративного государства: снизу – вверх, от малого – к большому, от множества – к единству. Федеральные конституции устанавливают меру самостоятельности членов федерации обычно во всем, что касается их местных дел и что не опасно для единства. Возможности союзного государства по превышению своей компетенции и вмешательству в местные дела строго ограничены.
Отсюда идея федерализма, по Ильину, получает помимо своего главного, объединяющего и центростремительного значения еще и обратный оттенок: «неугасшей самобытности частей, их самостоятельности в законных пределах, их органической самодеятельности в недрах большого союза»11.
Классическая федерация, по его мнению, – это пример государства-корпорации, соединяющей (в том числе посредством самоорганизации) разрозненные части государства в единое целое.
Заслуживает внимания соотносимость обозначенного подхода И. А. Ильина со взглядами М. А. Бакунина, считающегося одним из основателей философии анархизма, несмотря на то что анархистское учение само по себе было для Ильина принципиально неприемлемо. В трудах М. А. Бакунина действительно присутствуют идеи уничтожения государства с предложением в качестве альтернативы принципа индивидуальной независимости и самоуправления коммун – self-government12. Эти идеи, однако, вполне могут быть восприняты как направленные не на ликвидацию государственного управления, а на его коренное переустройство «согласно действительным потребностям и естественным стремлениям всех частей через свободную федерацию индивидов и ассоциаций, коммун, провинций и наций»13. Иными словами, допустимо полагать, что смысл идей Бакунина направлен на формирование системы государственного управления не «сверху», а «снизу».
«Единство, – рассуждает М. А. Бакунин, – становится фатальным, разрушает… процветание индивидуумов и народов всякий раз, как оно образуется вне свободы или путем насилия». Полезным можно считать лишь то единство, «которое свободно образуется через федерацию автономных частей в одно целое с тем, чтобы это последнее, не будучи больше отрицанием частных прав и интересов, кладбищем, где насильственно хоронят всякое местное процветание, стало, напротив, подтверждением и источником всякой автономии…»14. Федеральная организация снизу вверх ассоциаций, групп, общин, волостей и, наконец, областей и народов – вот, полагает он, единственное условие настоящей свободы15.
Вместе с тем И. А. Ильин утверждает, что федерация отнюдь не единственный и не важнейший способ срастания малых государств в государство крупное: «История показывает, что малые государства нередко сливались в единое большое – не на основе федерации, а на основе поглощения и полного сращения в унитарную державу (таковы, по его мнению, Франция, Италия, Испания и Великобритания. – Н.Д.). Во всех этих случаях малые государства объединились, не федерируясь, а поглощаясь одним или сливаясь. Нации ассимилировались, и народы заканчивали период политической дифференциации и полугражданских войн – унитарной политической формой. Глупо и смешно говорить, что унитарная форма уходит в прошлое. Нелепо утверждать, что все современные “империи” распадаются, ибо одни распадаются, другие возникают»16.
В этой части вновь наблюдается определенная схожесть взглядов И. А. Ильина и А. С. Ященко, который писал: «Мы неоднократно высказывали уже наше мнение вообще о ценности и значении федеративных форм. Являясь желанными для внесения порядка в те отношения, которые еще находятся в периоде анархии, эти формы, сами по себе, далеки от совершенства, они – лишь компромисс, лишь меньшее из зол. Форма федеративная вся построена на соглашениях, на взаимных уступках, очень хрупка, неустойчива, слаба… Но даже у народов, наиболее способных подчиняться закону и судебным решениям, мы видим неизбежную эволюцию к образованию унитарного государства… Рассмотрение эволюции федеративных форм и идей с достаточной ясностью нам показало, что проявление жизнеспособного федерализма есть лишь выражение роста унитарной идеи»17.
Возвращаясь к научному наследию И. А. Ильина, следует подытожить, что он усматривал два различных пути возникновения крупных держав из нескольких отдельных государств: первый – путь договорного объединения в федерацию и второй – путь политического включения, экономического и культурного срастания в унитарное государство. С его точки зрения, федерации, возникшие путем федерализации унитарных государств, собственно федерациями не являются, поскольку возникают в условиях, препятствующих созданию «корпоративных» государственных форм, а следовательно, нежизнеспособны. Для описания таких «федераций» И. А. Ильин использует термин «псевдофедерации»18.
В качестве основной причины создания псевдофедераций ученый называет желание «беспочвенного и фиктивного подражательства»: «Политические деятели в течение всего 19 века считали, что в конституции Соединенных Штатов (Америки. – Н.Д.) им дан якобы идеальный образец для всех времен и народов, обеспечивающий всякой стране государственную мощь и хозяйственный расцвет. На самом деле это подражание новой моде приводило или к длительному и кровавому разложению политической и национальной жизни, или же к унитарному государству с автономными провинциями»19.
Отсюда И. А. Ильин делает вывод о наличии у федеративного строя «необходимых государственных и духовных предпосылок». Если же в соответствующем государстве этих жизненных предпосылок не сложилось, там, по Ильину, введение федерации неминуемо вызовет «вечные беспорядки, нелепую провинциальную вражду, гражданские войны, государственную слабость и культурную отсталость народа»20.
В числе жизненных предпосылок или, иными словами, «основ» федерации 21 И. А. Ильин называл:
- во-первых, наличие у истоков федерации нескольких самостоятельно оформленных государств, каждое из которых является более или менее самостоятельным и готовым отстаивать свою независимость: «Политические амебы, кочевые пустыни, фиктивные “якобы-государства”, вечно мятущиеся и политически взрывающиеся общины… – не могут федерироваться… Заключать с ними договор было бы нелепым делом: они подлежат не федерации, а культурной оккупации и государственному упорядочению»;
- во-вторых, стоящие у истоков федерации государства должны быть сравнительно невелики, настолько, чтобы единое, из них вновь возникающее государство «имело жизненно-политический смысл»: «Чем больше территория, чем многочисленнее население, чем разнообразнее составляющие его народы, чем сложнее и крупнее державные задачи – тем труднее осуществить федеративную форму государства… И потому есть условия, при которых требование федерации равносильно началу… расчленения»;
- в-третьих, договаривающиеся государства должны реально нуждаться друг в друге – и стратегически, и хозяйственно, и политически, причем важен именно факт осознания протосубъектами федерации этой нужды: «Там, где центробежные силы превышают центростремительные и где малые государства неспособны к объединению, там ищут спасения не в федеративной, а в унитарной форме»;
- в-четвертых, наличие высокого уровня правосознания: «Есть государственные формы, осуществимые при примитивном, наивном и шатком правосознании. Так, унитарное государство гораздо меньше зависит от уровня народного правосознания, чем федеративное; авторитарное государство гораздо меньше вовлекает граждан в свое строительство, чем демократическое. Но именно поэтому федерация и демократия возможны только там, где в народе воспитано чувство долга, где ему присущи свободная лояльность, верность обязательствам и договорам, чувство собственного достоинства и чести и способность к общинному и государственному самоуправлению»;
- в-пятых, федерация возможна только там, где народу присуще искусство соглашения и дар политического компромисса: «Нет их – и все будет завершаться “драками новгородского веча”… (или же, соответственно, – гражданскими войнами)»;
- в-шестых, амбициозность и масштабность задач, стоящих перед федеративной формой государственного устройства, неизбежно требует сильной власти в федеративном государстве. «Корпоративное» начало, заложенное в основу создания добровольного федеративного союза, усложняет миссию власти за счет необходимости отыскания разумного баланса между решением общефедеральных вопросов в центре и сохранением на местах самобытности образовавших федерацию субъектов, поскольку достойное несение этой миссии и есть залог сохранения федерации.
Главный вывод, который можно сделать на основе этих ключевых суждений, состоит, по нашему глубокому убеждению, в том, что отличительной особенностью отечественного подхода к федерализму (как явлению и принципу построения взаимоотношений внутри единого государства) является не утилитарное к нему отношение, в рамках которого ключевым элементом выступает лишь «бездушное» распределение властных функций и публичных дел между разными территориальными уровнями публичного администрирования, а взаимодействие людей, «племен», наций, которые своим (прежде всего культурно-духовным единением) образуют целостное федеративное государство, цементирующий базис которого – вовсе не гегемонистская роль федерального центра по отношению к «провинциям», а напротив, сохранение самобытности и многообразия на местах, что и обеспечивает равноправный, основанный на уважении (а не диктате) диалог между составными частями федерации, как друг с другом, так и с федеральным центром.
Таким образом, контекст философских и научных взглядов И. А. Ильина, как представляется, очевидным образом отвечает современным реалиям российской государственности, исканиям того оптимального соотношения права, государственной власти и федеративной формы государственного устройства, которые не прекращаются в нашем обществе на протяжении уже четверти века. Ряд важнейших принципов и идей, которые могут быть почерпнуты из богатейшего научно-философского наследия И. А. Ильина, по сути, образуют столь необходимый сегодня фундамент мировоззренческой, духовно-ценностной парадигмы российской модели федерализма.
Знание этих важнейших принципов и идей, их осмысление и актуализация применительно к современным геополитическим реалиям создают основу для того, чтобы именно российская модель федерализма в весьма приближенном будущем была взята за основу концепции многополярности в ее глобальном, планетарном измерении, став в конечном счете прообразом глобального многополярного миропорядка.
Многополярность как новое прочтение идеи субсидиарности: несколько заключительных тезисов о главном
В свете выводов и суждений, сформулированных в предшествующих частях настоящей работы, важно по-новому посмотреть на имманентную проблему любой модели федерализма, которая состоит в нахождении оптимального распределения публичной власти между федеральным центром и составными частями (субъектами) федерации, при котором, как отметил С. А. Авакьян, «обеспечивалось бы единообразное и демократическое решение многих вопросов на федеральном уровне и самостоятельность регионов в рассмотрении всех остальных вопросов»22.
Практически всем, кто интересуется проблематикой федерализма, хорошо известно, что в течение последних двух десятилетий в отечественном конституционном праве активно обсуждалась применимость в российских условиях европейской концепции т. н. субсидиарности. Например, И. А. Умнова в этой связи отмечала, что «в современном понимании субсидиарность – это оптимальное разграничение предметов ведения, полномочий, ресурсов и ответственности между федерацией, ее органами государственной власти и субъектами федерации, их органами государственной власти, в соответствии с которым публичная власть осуществляется преимущественно на том уровне, который ближе к гражданам и субъектам хозяйственной деятельности, а вышестоящий уровень власти (федерация по отношению к субъектам федерации) сохраняет за собой только те полномочия, выполнение которых наиболее эффективно осуществляется на данном уровне власти, обеспечивает государственный суверенитет и безопасность страны»23.
С. А. Авакьян раскрывает сущность субсидиарности следующим образом: «Применительно к федерации принцип субсидиарности толкуют так, что субъекты в состоянии сами организовывать свою жизнь и решать соответствующие дела, а создание федерации является как бы дополнительным средством. Федерация берет на себя часть общих дел в интересах субъектов и в другой части дел помогает субъектам. В последнее время принцип субсидиарности чаще всего трактуется как “разгрузка” федерации, децентрализация функций, их передача субъектам, а роль федерации при этом состоит в содействии субъектам и выполнении нескольких ведущих задач. Правда, бытует и прямо обратное понимание субсидиарности, когда именно федерация рассматривается как главный организатор всей жизни в новом образовании, и тогда же в помощь, в дополнение к ней (федерации), т. е. во вспомогательном плане, действуют субъекты федерации»24.
Рассуждая далее, С. А. Авакьян указывает, что существование и деятельность федеративного государства на практике неизбежно формирует его уникальную «личность», в которой, по смыслу утверждений ученого, принцип субсидиарности занимает особое место и получает свое специфическое преломление. Однако же он подытоживает, что в любом случае «федеративное государство – это лидер по отношению к своим субъектам. А субсидиарность надо толковать в том плане, что федерация всегда готова прийти на помощь своим субъектам, она – по большому счету – призвана во многом облегчить их жизнь. В то же время субсидиарность для субъектов должна означать их готовность всегда поддерживать федерацию, в рамках своих сил помогать ей в осуществлении функций федерации (например, в укреплении обороноспособности государства, в содействии воинским частям на своей территории, в организации призыва в армию и т. д.), а также “разгрузить” федерацию от менее значимых дел»25.
Сегодня можно наблюдать, что принципу субсидиарности придается такое значение, которое позволяет использовать его постулаты не только при построении федераций, но и любых других многоуровневых публично-властных образований. Таким образом, универсальный характер субсидиарности следует из конституционных принципов государственной целостности, единства государственной власти, равенства субъектов федерации между собой, их равноправия в отношениях с федеральными органами государственной власти.
В то же время для российской государственности сначала советского, а затем и, применяя термин И. А. Умновой, «постконституционного» периодов характерна цикличность, выражающаяся в непрерывных и последовательно сменяющих друг друга тенденциях централизации и децентрализации. Таким образом, отыскание и конституирование разумного и справедливого баланса задач, функций и интересов между федеральным, региональным и местным уровнями власти являет собой основную стратегическую цель последовательного и устойчивого обеспечения системности российской модели федерализма в целом.
Как известно, модель разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами закреплена в Конституции РФ. И важно понимать, что эта модель является гибкой, в определенном смысле даже универсальной, поскольку допускает возможность и централизации, и децентрализации власти, при том что основы конституционного строя, включая базовые принципы федеративных отношений, остаются незыблемыми.
И. А. Умнова в 2012 г. в этой связи, например, писала: «Государственно-правовые шаги, предпринимаемые Президентом РФ с 2000 г. по укреплению вертикали власти, усилению контроля за законностью деятельности и ответственности органов государственной власти и должностных лиц субъектов Российской Федерации, повышению эффективности, стабильности и безопасности России, привели не только к укреплению государственности и восстановлению единого конституционно-правового пространства, но и к определенным негативным последствиям для федеративного устройства России»26. Далее она, поясняя свою мысль, указывала: «Во-первых, постконституционное развитие России в начале нового века пошло по пути не федеративной, а административной реформы. Это выразилось, в частности, в отмене института прямых выборов глав… субъектов РФ; в субституции ряда региональных функций субъектов Федерации властной деятельностью полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах; в чрезмерной централизации законодательных полномочий (сужении сфер законодательного регулирования субъектов РФ) и, наоборот, не всегда обоснованной децентрализации исполнительных полномочий субъектов Федерации»27. В качестве второго аргумента в логике своих рассуждений И. А. Умнова отмечала, что «разграничение полномочий по предметам совместного ведения стало проводиться путем детализированного и казуистичного размежевания полномочий, усложняющего правоприменение и дестабилизирующего систему разделения власти по вертикали»28. И наконец, подытоживая, она указывала: «В-третьих, усилился разрыв между полномочиями органов государственной власти субъектов РФ и бюджетно-финансовой основой данных полномочий. Фактически в регионах стал доминировать режим нефинансируемых “мандатов”»29.
Делая общий вывод на основе приведенных выше суждений, И. А. Умнова констатировала, что за «период постконституционных преобразований в России сложилась неэффективная, сложно управляемая система разграничения предметов ведения и полномочий, стимулирующая регионы не на саморазвитие и здоровую конкуренцию между ними, а на дотационный паразитизм, вынужденные сделки с бизнес-структурами, зачастую сомнительного характера. Такая система разграничения компетенции по вертикали привела к дальнейшему росту различий в уровне социального и экономического развития, обострению кризисных явлений в экономике, росту социального и политического напряжения»30.
Конечно, сложно согласиться с подобными суждениями, тем более с учетом нынешних геополитических реалий: по нашему убеждению, централизация, осуществляемая в разумных рамках и обусловленная жизненными потребностями общества, напротив, есть свидетельство роста унитарной идеи, что, согласно приведенным выше выводам дореволюционного исследователя федерализма А. С. Ященко, свидетельствует как о зрелости федеративной модели (в которой наблюдается рост унитарной идеи), так и о ее здоровом состоянии. При этом, как показывает практика последних лет, какого-либо критически значимого дезавуирования самостоятельности субъектов Российской Федерации в принятии необходимых решений на их уровне компетенции не произошло, как не произошло и ущемления национально-культурной самобытности и идентичности народов и этносов, составляющих единый многонациональный народ нашей страны.
Стало быть, многополярность и субсидиарность – это две стороны одной медали; одно постоянно перетекает в другое и наоборот. Невозможно обеспечить субсидиарность там, где нет многополярности, и нельзя добиться многополярности, если нет действительной, реальной субсидиарности. И отсюда становится очевидно, что многополярность есть новое прочтение идеи субсидиарности.
И поэтому в качестве главного вывода по итогам данного исследования следует сказать о следующем.
Российская модель федерализма имеет все шансы стать прообразом (и предвестницей) глобальной многополярности будущего. Это не популизм, не дань терминологической моде и не поклонение велениям времени; это – объективная оценка геополитических реалий. Сегодня мы воочию можем наблюдать, как с кратно возросшей силой вспыхивают региональные конфликты в разных точках земного шара; степень агрессивности и жестокости этих конфликтов зачастую обескураживает и зашкаливает. Все это означает одно: современное человечество отчаянно нуждается в установлении новых принципов совместной безопасной жизни на нашей общей планете, как и достижения всеобщего процветания и благоденствия. В этом контексте важно подчеркнуть: российский федерализм – это не столько про механическое (и во многом «бездушное») распределение властных функций и публичных дел между федеральным центром и составными частями государства; российский федерализм – это в большей степени и главным образом про то, как на самом деле могут уживаться в мире и согласии на одной – исторически общей и одинаково родной – Земле многие миллионы людей, таких разных по воззрениям, верованиям, убеждениям и традициям и в то же время таких одинаковых в своем стремлении к счастью, благополучию и процветанию.
По нашему глубокому убеждению, именно поэтому российская модель федерализма, образно выражаясь, становится неким спасительным рецептом, который на текущем этапе развития человечества приобретает явное цивилизационное и во многом универсальное значение.
1 Цит. по: Антипова А., Ламова Е. «Где родился – там и пригодился»: главные заявления Путина на ПМЭФ-2023 // Официальный Интернет-портал ОАО «Росбизнесконсалтинг» // https://www.rbc.ru/economics/16/06/2023/648c62359a79477c0785cd05?ysclid=ljahbo901q418504008
2 Цит. по: Полякова В. Путин предупредил о самом опасном десятилетии со времен Второй мировой // Официальный Интернет-портал ОАО «Росбизнесконсалтинг» // https://www.rbc.ru/politics/27/10/2022/635a9cd29a7947288b08af72
3 Цит. по: Полякова В. Путин рассказал, что сопротивляющиеся многополярности проиграют // Официальный Интернет-портал ОАО «Росбизнесконсалтинг» // https://www.rbc.ru/politics/20/04/2023/64413baa9a7947c76acf8f83
4 В Крыму выявили рекордный объем нарушений при передаче полуострова УССР // Официальный Интернет-сайт сетевого издания РИА Новости // https://ria.ru/20231223/krym-1917607688.html?ysclid=lqy5kkb68r787889774
5 См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 25 апреля 2005 г. // Росс. газ. 2005. 26 апр.; Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 10 мая 2006 г. // Росс. газ. 2006. 11 мая; Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. // Росс. газ. 2014. 5 дек.
6 Ильин И.А. Что такое федерация? // Ильин И.А. Наши задачи. Статьи 1948–1954 гг. М., 2008. Т. 1. С. 228.
7 Работы И.А. Ильина, содержащие рассматриваемые размышления о федерализме, датированы 1949–1951 гг.
8 Ященко А.С. Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и государства. Юрьев, 1912. С. 77.
9 Ильин И.А. Указ. соч. С. 228.
10 Авакьян С. А. Конституционное право России: учеб. курс: учеб. пособие: в 2 т. 5-e изд., перераб. и доп. М., 2014. Т. 2. С. 35, 37.
11 Ильин И. А. Указ. соч. С. 229, 230.
12 См.: Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика: сб. / вступ. сл., сост., подгот. текста и прим. В. Ф. Пустарнакова. М., 1989. С. 25.
13 Там же. С. 96.
14 Бакунин М. А. Указ. соч. С. 19–21.
15 См.: там же. С. 303.
16 Ильин И. А. Указ. соч. С. 230, 231.
17 Ященко А. С. Указ. соч. С. 780.
18 Ильин И. А. О псевдофедерациях // Ильин И. А. Наши задачи. Статьи 1948–1954 гг. Т. 1. С. 231.
19 Там же. С. 232.
20 Там же. С. 235.
21 См.: Ильин И. А. Жизненные основы федерации // Ильин И. А. Наши задачи. Статьи 1948–1954 гг. Т. 1. С. 240–243.
22 Авакьян С. А. Указ. соч. Т. 2. С. 106.
23 Умнова И. А. Проблемы дефедерализации и перспективы оптимизации современной российской модели разграничения предметов ведения и полномочий в контексте доктрины субсидиарности // Сравнительное конституционное обозрение. 2012. № 2. С. 47, 48.
24 Авакьян С. А. Указ. соч. Т. 2. С. 25.
25 Там же. С. 25, 26.
26 Умнова И. А. Указ. соч. С. 48.
27 Умнова И. А. Указ. соч.
28 Там же.
29 Там же.
30 Там же. С. 52.
About the authors
Nikolay M. Dobrynin
Tyumen State University
Author for correspondence.
Email: belyavskaya@partner72.ru
Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honorary Graduate of Science and Education of the Tyumen Region, Professor of the Department of Theoretical and Public Law Disciplines, Institute of State and Law
Russian Federation, TyumenReferences
- Avakyan S. A. Constitutional Law of Russia: studies Course: studies manual: in 2 vols. 5th ed., reprint and add. M., 2014. Vol. 2. Pp. 25, 26, 35, 37, 106 (in Russ.).
- Antipova A., Lamova E. “Where I was born, I came in handy there”: Putin’s main statements at SPIEF 2023 // Official Internet Portal of Rosbusinessconsulting OJSC // https://www.rbc.ru/economics/16/06/2023/648c62359a79477c0785cd05?ysclid=ljahbo901q418504008
- Bakunin M. A. Philosophy. Sociology. Politics: collection / introduction, comp., preparation. text and notes by V. F. Pustarnakov. M., 1989. Pp. 19–21, 25, 96, 303.
- In Crimea, a record volume of violations was revealed during the transfer of the peninsula of the Ukrainian SSR // Official Internet site of the RIA Novosti online publication // https://ria.ru/20231223/krym-1917607688.html?ysclid= lqy5kkb68r787889774
- Ilyin I. A. Vital foundations of the Federation // Ilyin I. A. Our tasks. Articles 1948–1954. M., 2008. Vol. 1. Pp. 240–243.
- Ilyin I. A. On pseudo-federations // Ilyin I. A. Our tasks. Articles 1948–1954. M., 2008. Vol. 1. Pp. 232, 235.
- Ilyin I. A. What is a federation? // Ilyin I. A. Our tasks. Articles 1948–1954. M., 2008. Vol. 1. Pp. 228–231.
- Polyakova V. Putin warned about the most dangerous decade since the Second World War // Official Internet portal of JSC Rosbusinessconsulting // https://www.rbc.ru/politics/27/10/2022/635a9cd29a7947288b08af72
- Polyakova V. Putin said that those who resist multipolarity will lose // The official Internet portal of JSC Rosbusinessconsulting // https://www.rbc.ru/politics/20/04/2023/64413baa9a7947c76acf8f83
- Message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly dated April 25, 2005 // Ross. gaz. 2005. 26 Apr.
- Message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly dated May 10, 2006 // Ross. gaz. 2006. May 11.
- Message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly dated December 4, 2014 // Ross. gaz. 2014. 5 Dec.
- Umnova I. A. Problems of defederalization and prospects for optimization of the modern Russian model of differentiation of subjects of competence and powers in the context of the doctrine of subsidiarity // Comparative Constitutional Review. 2012. No. 2. Pp. 47, 48, 52.
- Yashchenko A. S. Theory of federalism. The experience of the synthetic theory of law and the state. Yuriev, 1912. Pp. 77, 780.
Supplementary files