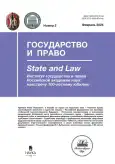Субъект права как формально-догматическая модель человека в правовой действительности: антрополого-правовой анализ
- Авторы: Павлов В.И.1
-
Учреждения:
- Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
- Выпуск: № 2 (2024)
- Страницы: 54-63
- Раздел: Антропология права
- URL: https://journal-vniispk.ru/1026-9452/article/view/259445
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1026945224020056
- ID: 259445
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена исследованию субъекта права как формально-догматической модели человека в правовой действительности. Прослеживается процесс доктринального формирования субъектно-правовой модели, выделяются четыре методологических перехода в юридическом представлении о субъекте права. Обосновывается важность антрополого-правового подхода к пониманию человека и его поведения в правовой действительности. Антрополого-правовой подход основан на идее о том, что право по своей сути является человекомерным явлением, главной целью и ценностью которого является сам человек, а не его субъектно-правовая модель. В этой связи предлагается признать служебный характер юридико-концептуального конструирования применительно к учению о человеке в праве. Несмотря на то, что формально-догматический метод лежит в основе правового регулирования общественных отношений и создаваемые с его помощью юридические средства являются гарантией для человека как главной правовой ценности, тем не менее именно человек, а не его юридическая конструкция является центральным элементом правовой реальности и правовой системы. Для познания антрополого-правовых свойств человека и использования их в правовом регулировании предлагается дополнительный по отношению к формально-догматическому уровень юридического представления о правовой персональности.
Полный текст
Введение
Значительная часть проблем, возникающих в правовой действительности и активно обсуждающихся в правовой теории в последние годы, связана с человеком и его пониманием в мире права. К ним относятся как традиционные проблемы обеспечения прав и свобод личности, так и новые проблемы, связанные с правовым поведением человека в виртуальной реальности, вопросами цифровизации правовой личности и увеличивающемся использовании в правовом регулировании информационно-коммуникационных технологий, проблемами адаптации в различных национальных правовых традициях новой группы личностных прав и свобод, связанных с изменением представления о человеческой природе (соматические права). Несмотря на разнообразную постановку данных проблем и различие в предложениях по их решению, все они связаны с теоретико-методологическим представлением о человеке в юридическом дискурсе, с обсуждением возможных форм и способов проявления человека в правовой действительности и в целом с человеческим измерением права.
Сама постановка вопроса о человеческом измерении права, о его человекомерности в юриспруденции преимущественно связана с развитием такого направления правовых исследований, как антропология права1. Последняя формируется в рамках двух взаимосвязанных, но самостоятельных исследовательских линий: юридико-этнографической, основанной на познании влияния этнических, национальных и культурных особенностей правовых традиций различных эпох на право и его проявление в обществе; и теоретико-методологической, выступающей в качестве самостоятельного направления развития фундаментальной юриспруденции, выполняющего в том числе и методологические задачи и направленного на познание не столько юридико-этнографического материала, сколько права в целом с антрополого-правовых позиций. Исследования, выполняющиеся в рамках данного направления, основываются на определенном концептуальном единстве, обеспечивающемся выделенной предметной областью и методологией антрополого-правового познания, базовыми гносеологическими принципами, соответствующим типом правопонимания, онтологическими характеристиками права и формируемым в рамках антропологии права понятийно-категориальным аппаратом. Представленный автором анализ субъектно-правовой модели человека осуществляется в рамках данного направления.
* * *
Основной формой выражения человека в правовой действительности является категория субъекта права. В методологическом отношении она представляет собой теоретическую модель человеческого присутствия в праве. Под моделью в данном случае понимается мысленный образ структурного отражения правовой действительности, какого-либо ее элемента. В правопознании модель, как отмечает А. Ф. Черданцев, выступает заместителем объекта, посредником между теорией и действительностью, обладая собственным специфическим теоретическим содержанием2. Поэтому с методологической точки зрения «субъект права» – это специально сконструированное для правового познания и выраженное понятийно-категориальными средствами юридическое представление человека в рамках определенного подхода к праву. В юриспруденции не только субъект права, но и каждый относительно сложный элемент правовой действительности представляет выраженную в понятиях и категориях правовую модель, структурированную в рамках определенного подхода и выступающую основой для ее юридической позитивации в законодательстве и юридической практике.
В процессе своего формирования субъектно-правовая модель прошла длительный этап эволюции, первоначально возникнув на основе римского культурно-исторического и религиозного представлений о человеке и системе регулирования его поведения в гражданской общине путем формализации лица3. С формализацией связано и само появление латинского термина персона (лат. persona), восходящего к древнеримскому религиозному культу ius imaginum – «праву масок», связанному с погребальным обрядом4. Именно в рамках права масок и была заложена основа формирования ius personarum – римской юридической концепции лица как субъекта права, которая постепенно отделилась от религиозного института ius imaginum и стала использоваться как в частноправовой, так и в публично-правовой сферах.
В средневековой западноевропейской юриспруденции римская концепция правовой персоны была усилена за счет применения схоластики и формальной логики, что было связано с процессом рецепции римского права на Западе и формированием континентальной юридической догматики. Именно ввиду этого учение о субъекте права формировалось в первую очередь в рамках цивилистической доктрины, равно как и в целом представление о человеке в правовой действительности как о субъекте права во всех отраслях права формируется на основе римско-юридической, т. е. гражданско-правовой точке зрения.
В эпоху Нового времени под влиянием рационалистической методологии к концепции персоны было применено новое познавательное средство – модель рационального субъекта, связанная с обновленным пониманием естественного права. При разработке новоевропейской модели субъекта права гуманисты ориентировались не на волевое право, не на систему действующего права того или иного государства и даже не на реципированное римское право, это ratio scripta западноевропейской средневековой юриспруденции. Как отмечал Е. В. Спекторский, они «искали источник естественного права в чистом роднике чистого разума»5, отождествляя функционирование такого «разумного права» не с социальными и нравственными законами, а с законами физики и математики. Субъект права утверждался в качестве абстрактной рациональной субстанции, в которой разум является ядром ее правовой сущности наподобие разумности законов природы. При этом рациональность субъекта, выражающаяся в свободном мышлении как разумном самоопределении человеческой природы, предполагала этическое совершенство6.
Человек в новоевропейской субъектно-правовой модели, таким образом, был концептуализирован в форме рационального субъекта, которому соответствовали и другие элементы права, также утверждавшиеся в качестве рационально-механистичных образований. Подобное представление субъекта, выразившееся в конституционно-правовой формуле о человеке и личности как высших гуманистических ориентирах в праве, стало своего рода антрополого-правовым стандартом для западных и близких к ним в правовом отношении государств. В конце XX в. данный стандарт был воспринят и конституциями всех бывших советских республик. В рамках такого подхода понятия «субъект права», «человек» и «личность», что особенно характерно для конституционного и международного права, используются в качестве синонимичных.
Самостоятельная методологическая линия учения о человеке в праве формировалась в византийской правовой традиции, связанной с использованием в юриспруденции положений восточнохристианской антропологии. Новые антропологические понятия «ипостась» (греч. ὑπόστασις) и «личность» (греч. πρόσωπον), сформулированные в IV–V вв. и неизвестные римской дохристианской юриспруденции, принципиально отличались от древнего понятия правовой персоны. Если последнее выражало субъектную обусловленность человека в правовой жизни как его формализацию, выделение из реальной действительности путем вменения определенных юридических качеств, то понятия ипостаси и личности подчеркивали способ существования лица, проявление его юридической природы, прежде всего, в аспекте ценностно-правового измерения человеческого поведения и его отражения в законе. Такой способ юридического представления человека в праве хотя и основывался в юридико-техническом отношении на римской модели правовой персоны, однако содержательно отличался от нее прежде всего личностным характером выражения правовой субъектности. Юридическая позитивация данной модели правовой субъектности осуществлялась византийскими правоведами различными путями, в основном посредством христианизации римской субъектно-правовой модели за счет ее нравственного наполнения. Широко применялась практика включения в гипотезы правовых норм нравственно-христианских мотивировок, как следует из содержания многих норм Эклоги (741 г.)7; на основе нравственно-христианских и некоторых богословских положений разрабатывались правовые институты и принципы, например институт пронии (греч. πρόνοια – попечение)8, принцип икономи́и (греч. οἰκονομία – домостроительство)9); в правотворчестве делался акцент на нравственной телеологичности закона, что постоянно подчеркивалось в преамбулах византийских правовых актов, служащих в том числе и правореализационным ориентиром для судей10. Компенсация формализма римской модели правовой персоны достигалась и путем правотворческого объединения правовых и нравственных норм в одном источнике права, например, в таком синтетическом акте смешанной (гражданско-церковной) юрисдикции, как византийский номоканон11. Формирование византийской концепции правовой личности было прервано в середине XV в. вместе с прекращением существования самой византийской цивилизации, вследствие чего данная модель человека в праве не прошла этап адаптации в условиях светских общества, права и государства. Ведущие позиции в юридическом дискурсе заняла новоевропейская модель субъекта права.
В последние два десятилетия в юридической науке и практике наметились новые тенденции в формировании субъектно-правовых представлений. Они связаны с использованием в правовом познании современных философских концепций и становлением постклассической методологии юридической науки12, а также с практикой применения информационно-коммуникационных технологий в правовом регулировании, в частности с возникновением виртуальной правовой реальности, проблемами цифровизации правовой личности и т.д. 13
Таким образом, целесообразно выделить несколько методологических переходов, на которых происходили принципиальные изменения в учении о человеке в праве: 1) формирование юридической концепции персоны, формально-юридического понимания человека в праве как субъекта права под влиянием римской религиозной модели лица (эпоха римской юриспруденции классического периода); 2) формирование на основе римской юридической концепции персоны христианской гуманистической трактовки лица как личности (эпоха позднего римского права и византийская юриспруденция); 3) формирование новоевропейской модели человека и личности в праве на основе естественно-правовой доктрины (эпоха Нового времени); 4) формирование новой модели человека в праве под влиянием постклассической юридической методологии и развития информационно-коммуникационных технологий (начало XXI в.).
* * *
В общетеоретическом правоведении сформировались две основные субъектно-правовые модели: позитивистская (формально-догматическая) и естественно-правовая (юснатуралистическая). Наряду с ними иногда выделяются и другие концептуальные формы правовой субъектности – модель цифрового субъекта права14, квазисубъекта права15 и др. В западноевропейской и постсоветской юриспруденции последних двух десятилетий в рамках новых подходов к правопониманию разрабатывались и соответствующие представления о человеке в праве, в том числе на основе постклассической методологии юридической науки. Прежде всего это коммуникативная16, диалогичная17, герменевтическая18, постмодернистская 19 и некоторые другие модели субъекта права. Отметим, что данные модели являются в большей степени не инструментальными, а концептуальными разработками учения о человеке в праве в рамках определенных подходов к правопониманию. Поэтому при переходе на уровень догмы права они, как правило, используют ресурсы традиционной субъектно-правовой модели. Наибольшего успеха в юридико-инструментальной адаптации достигла естественно-правовая трактовка субъекта права20, которая на этом основании и относится к одной из двух основных современных субъектно-правовых моделей. Вместе с тем юснатуралистический подход к человеку в точном смысле слова представляет собой не теорию субъекта права, а концептуально-правовое учение о правах и свободах личности и человека, выраженное на уровне международного и конституционного права.
Таким образом, субъектно-правовая модель человека в праве, разработанная на основе развития континентальной юридической догматики, остается ведущим способом юридического выражения человека в правовой действительности. Уяснение содержания данной модели непосредственно связано с дальнейшим развитием антрополого-правовой проблематики в решении тех вопросов, которые были обозначены в начале статьи.
* * *
Формально-догматический характер понятия субъекта права отмечался еще в юриспруденции рубежа XIX–XX вв. И. А. Покровский указывал, что конструкция субъекта права «превращает самого человека в совершенно формальное явление “субъекта прав”, в некоторое совершенно общее “юридическое представление”»21. Г. Ф. Шершеневич подчеркивал, что «субъект права – не антропологическое, а чисто юридическое представление. Субъект права не то же самое, что человек – это только одно его свойство, созданное объективным правом»22. Г. Радбрух полагал, что «все лица, как физические, так и юридические, – создание правопорядка. Даже физические лица в строгом смысле являются “юридическими лицами”. О “фиктивной”, то есть искусственной, природе как физических, так и юридических лиц спор также невозможен»23. Г. Кельзен также отмечал, что «физическое лицо… является не человеком, а персонифицированным единством норм права, которые уполномочивают и обязывают одного и того же человека. Это не природная реальность, но реальность юридическая, т. е. создаваемая правоведением конструкция, вспомогательное понятие для описания юридически значимых фактических составов»24.
Подобное представление сохраняется и в нынешней юриспруденции. Д. В. Пятков, основываясь на позициях дореволюционных юристов и разграничивая понятия человека и физического лица в гражданском праве, всех субъектов права рассматривает в качестве юридических образов, специфических представлений, подчеркивая их концептуально-конструктивистскую природу и вынося за скобки вопрос об их коррелятах в реальной действительности25. Г. А. Гаджиев считает, что сама идея формально-юридического метода была связана с разработкой римлянами концепции правовой персоны: «юридический концепт появился, когда римские юристы создали понятие субъекта права – persona, который является юридическим символом, не реальным, биологическим человеком <…> физическое лицо – это не человек, а правовая маска человека»26.
Обобщение вышеприведенных позиций, а также специально проведенный историко-доктринальный анализ 27 дает основание заключить, что субъект права как формально-догматическая модель человека в правовой действительности создается позитивным правом не в аспекте его политико-правового содержания, а ввиду его инструментальных свойств. Именно поэтому субъектно-правовую модель неверно отождествлять исключительно с юридическим позитивизмом: она выступает традиционным и универсальным способом представления человека в правовой действительности с позиции необходимости решения инструментальных задач правового регулирования.
* * *
В русскоязычном правоведении основы теории субъекта права были разработаны во второй половине XX в. усилиями советских ученых, в определенной степени использовавших разработки дореволюционных правоведов. Согласно позиции советских юристов, под субъектами права понимались люди и организации как «носители предусмотренных законами государства прав и обязанностей»28. Однако в точном смысле субъект права отождествлялся не с людьми и организациями, а с их правосубъектностью, представляющей собой регламентированный законом круг конкретных прав и обязанностей29. Субъект права характеризовался такими юридическими свойствами, как правоспособность и дееспособность, включая их отраслевые модификации – сделкоспособность и деликтоспособность, а также правовой статус и правовое положение. Данные категории разрабатывались на основе гражданско-правового учения о субъекте правоотношения, берущего начало в немецкой пандектистике XIX в.
Как следует из характеристик субъектно-правовой модели, возникновение правосубъектности, равно как и самого субъекта права, обусловливается не самими способностями человека, а вменением этих состояний через нормы объективного права. Человек посредством модели субъекта права приобретает нормативно-институциональную форму, перемещается из антропологического на институциональный уровень правовой реальности. В связи с этим верны слова Г. Кельзена о том, что «лицо является единством комплекса юридических обязанностей и субъективных прав. Поскольку эти юридические обязанности и субъективные права устанавливаются через нормы права, – точнее, они и являются этими нормами права, – то проблема лица является, в первую очередь, проблемой единства комплекса норм»30.
По отношению к правосубъектности правовой статус выступает, по сути, дополнительным категориальным выражением первой, поэтому не случайно некоторые правоведы полагали понятия правосубъектности и правового статуса взаимозаменяемыми31. Правовой статус, наиболее часто отождествлявшийся с правовым положением, понимался как «система прав и обязанностей личности, которые закреплены и гарантированы ей по закону»32. Однако в понятии правового статуса, в отличие от понятий правосубъектности и субъекта права, речь идет не о субъекте права, а о личности в праве. На основании этого Р. О. Халфина наряду с правами, обязанностями и правосубъектностью включала в правовой статус также предоставляемые гражданину охраняемые законом социальные блага33. Л. Д. Воеводин к правовому статусу (положению) относил гражданство, правосубъектность, конституционные принципы, конституционные (основные) права и свободы человека и гражданина, обязанности, гарантии34. Н. И. Матузов рассматривал правовой статус личности еще в более широком контексте: «в основе правового статуса лежит фактический социальный статус, определяемый всей совокупностью экономических, политических, духовных, нравственных и иных условий жизни общества <…> Правовой статус – юридическое выражение социального статуса»35. Выделялись и иные подходы к структуре и видам правового статуса36, к соотношению понятий правового статуса и правового положения37. Однако использование применительно к правовому статусу понятия личности, а не понятия субъекта права, было связано не с изменением теории последнего в части выхода в понимании лица за формально-догматические рамки. Речь шла о политико-идеологическом обосновании жизненно конкретного характера положения человека в социалистическом обществе. Как отмечал Н. В. Витрук, «проблема личности – это проблема человека, включенного в систему общественных отношений, в социальную структуру общества»38. При этом правовое положение личности, подчеркивал Л. Д. Воеводин, носит объективный характер, оно «не зависит от воли и сознания отдельной личности и даже сколько-нибудь обширной группы людей»39. В советском правоведении в контексте проблемы правового статуса как совокупности прав и обязанностей лица понятия субъекта права и личности совпадали и полностью определялись нормами позитивного права. Разработка личностного подхода, делающая акцент на познании юридически значимых свойств человека, осуществлялась автономно от теории субъекта права и не затрагивала ее основ40.
* * *
Помимо правосубъектности и правового статуса в теории субъекта права выделяется и такой признак, как правовая персонификация, заключающаяся в самостоятельности, обособленности и индивидуализации лица, понимаемого как юридическая абстракция. В советском правоведении акцент на правовой персональности как личностно-правовой характеристике не делался, а предполагал отражение в законодательстве таких традиционных идентифицирующих лицо признаков, как имя, место жительства и др. Личностно-правовой аспект правовой персональности заменялся правовым статусом41. С. И. Архипов, указывая на противоречие между правовым статусом и признаком персонификации лица в праве, справедливо замечает, что «само понятие правового статуса не предполагает персонифицированности правового регулирования, оформления и закрепления индивидуальных особенностей лица в праве»42. В связи с этим следует отметить, что с антрополого-правовой точки зрения персонификация в праве может осуществляться как на уровне антропологических, так и на уровне институциональных элементов права. В последнем случае лицо персонифицируется посредством модели субъекта права, то есть посредством правосубъектности и правового статуса как нормативного комплекса прав и обязанностей. Однако сами юридически значимые личностные свойства человека, которые влияют на правовой статус лица и его проявление в правовой действительности, а также те, которые непосредственно не закреплены в качестве норм объективного права, относятся к антрополого-правовым характеристикам правовой персонификации человека. Это юридически значимые воля, интересы, ценности, мотивы и некоторые другие личностные компоненты, которые нередко связываются с правопритязанием как объективацией содержания правового сознания.
Таким образом, правовая персонификация в смысле выражения антрополого-правовых свойств человека не относится к традиционной модели субъекта права. В связи с этим сохраняет свою актуальность призыв И. А. Покровского о том, что в юриспруденции за моделью субъекта права «не должен быть забыт конкретный человек, живая человеческая личность»43. Как верно замечает классик, не абстрактный, усредненный человек, представленный моделью субъекта права должен быть конечной целью права, «а живая, конкретная человеческая личность»44.
* * *
В литературе высказываются предложения о включении в модель субъекта права помимо правосубъектности, правового статуса и правовой персонификации и других признаков субъекта: правовой воли, правовых связей, правового сознания, правовой культуры, социально-правовых ценностей, правовой свободы45. Полагаем, что все эти признаки не относятся к формально-догматической модели субъекта права, поскольку принадлежат не институциональному, а антропологическому уровню правовой реальности и связаны с личностно-правовыми свойствами человека. Включение их в теорию субъекта права требует пересмотра последней и дополнительной аргументации с позиции догмы права, с позиции привнесения ими реальных инструментальных свойств, влияющих на правовую субъектность в определенной сфере правового регулирования. В этой связи попытки включения указанных признаков в формально-догматическую модель субъекта права сталкиваются со значительными трудностями и нередко остаются лишь философско-правовым описанием лица.
Предложение о включении правовой воли в качестве самостоятельного признака субъектно-правовой модели обосновывает С. И. Архипов. Рассматривая волю в качестве решающей инстанции в праве, под «действительным субъектом права» исследователь предлагает понимать лицо, которое «выражает себя вовне посредством правового решения (волевого акта)»46. Методологическая позиция относительно понимания правовой воли в данном случае заключается в том, что последняя как реальное личностно-правовое свойство отождествляется с позитивацией воли в нормах объективного права: «позитивное право (закон) выступает не просто предпосылкой правовой “жизни воли”, но и отправной точкой ее функционирования»47. Воля как личностно-правовой и психолого-правовой феномен при таком подходе исключается из правовой сферы, что указывает на соответствующее понимание лица в правовой реальности, самой этой реальности и в целом на определенный тип правопонимания. Рассмотренная не как антрополого-правовой, а как институционально-юридический феномен, воля лица обеспечивается юридическим вменением. Поэтому выделенные исследователем пять ступеней (фаз) реализации такой правовой воли 48 скорее являются не процессом развития реальной воли как личностно-правового свойства человека, а механизмом логико-юридического движения объективированной в законе, нормативно-абстрактной «воли» субъекта права. При таком подходе реальные личностно-правовые ценности лица, его юридически значимые интересы, притязания, которые объясняют правовое поведение человека в правовой действительности, остаются за рамками правового анализа ввиду акцента на воле как институциональном феномене, как юридической конструкции, вмененной человеку.
Без выхода за рамки юридического концептуализма в понимании лица в праве и его правовой воли, квалификация последней в качестве самостоятельного признака субъекта права является избыточной. В этой связи сохраняют свою актуальность слова Н. В. Витрука о том, что «субъектом права может быть человек, обладающий относительно свободной волей... что находит юридическое выражение и закрепление в наделении его со стороны государства специальным юридическим качеством – правосубъектностью»49. С позиции субъектно-правовой модели это утверждение означает, что свободная воля человека уже включена в правосубъектность лица как признак субъектно-правовой модели, а любая попытка описать правовую волю в качестве реального признака правового деятеля требует выхода за рамки традиционной теории субъекта права.
Проблематичностью обладает и попытка выделения в качестве признака субъекта права такой личностно-правовой характеристики, как правосознание. В традиционной теории субъекта права правовое сознание на основе цивилистической римской правовой модели лица выступает в форме правоспособности, дееспособности, деликтоспособности, связанной с возрастом и вменяемостью для физических лиц, рядом признаков для специальных субъектов права, а также самостоятельными признаками для юридических лиц. Именно с данными признаками связан инструментальный аспект права, процесс правового регулирования. Предложение иных признаков означает выход за рамки субъектно-правовой модели, ее пересмотр и формирование нового представления человека в праве. Не случайно в общей теории права как учебной дисциплине и науке проблематика правового сознания и субъекта права/правоотношения рассматриваются отдельно без взаимной связи друг с другом. Факт отчужденности правового сознания и субъекта права отмечается в современной юридической литературе50.
В качестве направления усовершенствования традиционной формально-догматической модели субъекта права предлагается усиление ее формально-юридических свойств. Так, Е. В. Пономарева, основываясь на методологии Н. Лумана, предлагает усилить такие свойства субъекта права, как денатурализация, отделение от субъектов иных сфер социального регулирования, автономизация юридической подсистемы общества как сферы проявления субъекта права51. Обоснование данного подхода не лишено сложностей, связанных с применяемой методологией в познании субъекта права. Выступая за закрепление свободной воли и разума в качестве признаков субъекта права, а также выступая против низведения последнего до уровня элемента правоотношения, исследователь одновременно указывает на необходимость усиления юридического изоляционизма в понимании субъектности, опираясь на древнеримскую концепцию правовой персоны52. Понимая под натурализацией субъекта права связь этой модели с реальным человеком определенной правовой культуры, Е. В. Пономарева выступает категорически против наличия такой связи и предлагает рассматривать лицо в праве исключительно в концептуалистском смысле. В опасении за судьбу юридических конструкций предлагается признать за субъектом права в качестве единственно реальных только отчужденные от природы человека, его психики, искусственные юридические образования53. Отчужденность человека от объективного права, от правопорядка, разница между человеком и юридической личностью выступают, согласно такой позиции, основаниями для «методологического реализма» в понимании правовой субъектности.
Полагаем, что в таком подходе прослеживается преувеличение познавательных возможностей метода юридической формализации человека как правового деятеля и недооценка человекомерного характера права. Как отмечалось выше, именно с юридической формализацией человека, усилившейся в связи с появлением возможностей юридического отражения общественных отношений в цифровой форме, связана значительная часть кризисных явлений как в теоретической сфере, так и в юридической практике. Эти явления выражаются в ослаблении корреляции между реальным человеком конкретного общества, его ценностями, потребностями и интересами, с одной стороны, и их отражением в праве – с другой. Речь идет об онтологическом разрыве в правовом регулировании, выражающемся в соответствии между реальным правовым бытием, сущим и его отражением на уровне юридических концептов, юридическим должным. Попытки выработать признаки субъекта права «отвлеченно… без привязки к конкретной исторической эпохе, без указания на то, какую культурно-историческую либо социально-экономическую роль сыграл тот или иной субъект» 54связаны с риском утраты связи модели субъекта права с юридической практикой и ведущими антропологическими трендами конкретной исторической эпохи и конкретного национального правопорядка. Например, невозможно представить современное учение о человеке в праве без анализа такой формы проявления правовой субъектности, как «цифровая личность», с которой связаны такие ранее неизвестные правовые притязания и субъективные права лица, как право на забвение в цифровом пространстве, либо новые формы договорных отношений наподобие каршеринга (carsharing) и умного контракта (smart contract). В то же время следует учитывать и степень развития национального законодательства в различных правопорядках, которая будет определять и различия в правовых моделях человека и в способах их правовой защиты. С позиции различия социокультурных ценностей, находящихся под правовой защитой в разных правопорядках, игнорирование онтологического фактора при усовершенствовании субъектно-правовой модели может повлечь снижение социокультурной и правовой идентичностей и разрушение ценностных оснований определенного общества и государства. Представляется, что в этом отношении изданный Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 55как раз формулирует определенные онтологические приоритеты для разработки субъектно-правовой модели в российском праве.
* * *
Антрополого-правовой подход к анализу современных форм присутствия человека в правовой действительности основан на идее дополнения формально-догматического представления человека в праве личностно-правовым уровнем правовой субъектности. Данный уровень предполагает не натурализацию юридической личности, а познание и учет в правовом регулировании юридически значимых личностных свойств, влияющих как на правовое поведение, так и на право в целом. В основе антрополого-правовых представлений лежит идея о человеке как цели, ценности и центральном элементе права, как о ведущем элементе правопорядка и правовой культуры. В этой связи инструментальные свойства субъектно-правовой модели при антрополого-правовом взгляде не отрицаются, а принцип человекомерности права не предполагает отказа от устоявшихся и зарекомендовавших себя юридических конструкций, выражающих непосредственно не связанные с человеком институциональные элементы в праве (различные формы юридического представительства, юридические фикции, презумпции и т. д.). Напротив, антрополого-правовое представление утверждает целостность человека в мире права, позволяющую верно понимать правовую природу и закономерности функционирования институциональных элементов в праве, более точно определять их место в системе правовых средств, в итоге лучше понимать человека и его правовое поведение.
Тенденции глобализации и стремительного развития технологий, в том числе позволяющие формализовать на цифровой основе человеческую личность, однозначно направлены на усиление субъектно-рациональных характеристик в праве. Юриспруденция в таком виде никогда не сталкивалась с проблемой формализации человека и его правового поведения, ведь она сама представляет собой формально-догматическое упорядочение жизнедеятельности социума. В таких условиях обращение не только к концептуальным юридическим построениям, но и к рассмотрению реальных антрополого-правовых явлений и их роли в конституировании человека в праве является необходимым. Прежде всего это юридически ориентированный анализ человеческой природы, личностной идентичности, правового мышления, свободы, воли, личностно-правовых ценностей, телесности, генома, различных нейродинамических характеристик человека и др. Эти антропологические составляющие непосредственно связаны с усовершенствованием учения о человеке в праве в контексте развития новой группы прав человека (четвертое поколение прав и «цифровые» права), генной инженерии, клонирования, трансплантации органов и тканей, искусственного интеллекта, изучения новых форм противоправной девиации, связанных с воздействием на сознание, психику молодежи посредством социальных сетей («группы смерти») и иное.
Заключение
Подводя итог рассмотрению традиционной субъектно-правовой модели с антрополого-правовых позиций, отметим, что она выражает базовый, инструментальный способ присутствия человека в правовой действительности. С позиции формально-догматического строения и задач институционального представления человека в праве данная модель является целостной и завершенной. В этой связи основное противоречие в воззрениях на человека в праве заключается в том, что их пытаются развить без выхода за рамки традиционной субъектно-правовой модели. Ее характеристики как составляющей институционального уровня правовой субъектности не рассчитаны на отражение антрополого-правовых компонентов, которые в данной модели концептуализированы специфическим образом. Правовая воля, интерес, притязание, правосознание, правовые ценности и некоторые другие свойства человека как правового деятеля имеют не конструктивную юридическую, а личностно-правовую природу, то есть непосредственно связаны с реальным человеком и не могут быть отчуждены от него. В этом состоит их принципиальное отличие от правоспособности, дееспособности, правового статуса как составляющих субъектно-правовой модели. Средства юридического концептуализма, созданные и существующие по отличным от антропологической реальности законам, не могут изменить природу самих личностно-правовых свойств человека. Этим обусловлен не самодовлеющий, а служебный характер юридико-концептуального конструирования применительно к учению о человеке в праве, несмотря на то что формально-догматический метод лежит в основе правового регулирования общественных отношений и создаваемые с его помощью юридические средства также являются гарантией для человека как главной правовой ценности.
В антропологии права обосновывается возможность познания личностно-правовых свойств человека на дополнительном по отношению к формально-догматическому уровне юридического представления о лице в праве. Такой подход связан с идеей о том, что право по своей сути является человекомерным явлением, главной целью и ценностью которого является сам человек, а не его субъектно-правовая модель. Поэтому антрополого-правовая позиция по усовершенствованию учения о человеке в праве основывается на методологической установке выявления в процессе юридизации меры между максимально целостным отражением в юридическом дискурсе человека как реального лица в его юридически значимых свойствах, с одной стороны, и его концептуально-правовым оформлением – с другой. В контексте учения о субъекте права это означает, что за нормами объективного права и юридическими конструкциями всегда находится человек и конкретная правовая личность. Именно человек, а не его юридическая конструкция, является центральным элементом правовой реальности и правовой системы – это важнейшее положение антрополого-правового познания.
1 См.: Norbert R. Anthropologie juridique. 1re ed. Paris, 1988; Пучков О. А. Антропологическое постижение права. Екатеринбург, 1999; Ковлер А. И. Антропология права: учеб. для вузов. М., 2002; Социальная антропология права современного общества / под ред. И. Л. Честнова. СПб., 2006; Социокультурная антропология права / под ред. Н. А. Исаева, И. Л. Честнова. СПб., 2015.
2 См.: Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции. М., 2015. С. 220.
3 См.: Franciosi G. Famiglia e persone in Roma antica: dall’eta arcaica al principato. 3 ed. Torino, 1995; Кофанов Л. Л. Жреческие коллегии в Раннем Риме. К вопросу о становлении римского сакрального и публичного права. М., 2001; Дождев Д. В. Римское частное право: учеб. / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. 3-е изд., испр. и доп. М., 2011. С. 290, 291.
4 См.: Кофанов Л. Л. Persona и persona publica в республиканском Риме // Древнее право. 2010. № 1 (25). С. 40.
5 Спекторский Е. В. Проблема социальной физики в XVII столетии: в 2 т. СПб., 2006. Т. 2. С. 53.
6 См.: Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Соч.: в 3 т. М., 1988. С. 263–265; Монтескьё Ш. Л. О духе законов. М., 1999. С. 16.
7 См.: Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III und Konstantinos’ V. Herausgegeben von Ludwig Burgmann. Frankfurt-am-Main, 1983; Эклога: Византийский законодательный свод VIII века / вступ. ст., пер., комм. Е. Э. Липшиц. М., 1965; «Леонъ и Константин вѣрнаѧ царѧ»: древнерусский текст Эклоги законов // Щапов Я. Н. Византийская «Эклога законов» в русской письменной традиции. СПб., 2011. С. 13–58.
8 См.: Хвостова К. В. Прония: социально-экономические и правовые проблемы // Византийский временник. 1988. Т. 49. С. 13.
9 См.: Троянос С. Н. Понятие «икономия» в византийском праве (с учетом современной греческой канонистики) // Богословские труды. 2012. Вып. 43–44. С. 485–501.
10 См.: Липшиц Е. Э. Право и суд в Византии в IV–VIII вв. М., 1976. С. 59, 60 и далее.
11 См.: Нарбеков В. Номоканон константинопольского патриарха Фотия с толкованием Вальсамона. Казань, 1899. Ч. 2; Павлов А. С. Первоначальный славяно-русский номоканон. Казань, 1869.
12 См.: Горбань В. С. Зачем философия права сегодня? // Теория и практика общественного развития. 2018. № 12 (130). С. 99–103; Жуков В. И. Антропология в философии права: постановка проблемы // Государство и право. 2019. № 3. С. 61–73; Постклассическая онтология права / под общ. ред. И. Л. Честнова. СПб., 2016; Веденеев Ю. А. Юриспруденция: явление и понятие. Введение в генеалогию языка концептуальных парадигм. М., 2022.
13 См.: Субъект права: стабильность и динамика правового статуса в условиях цифровизации: сб. науч. тр. / под общ. ред. Д. А. Пашенцева, М. В. Залоило. М., 2021; Черемисинова М. Е. Правовой статус субъектов в виртуальном пространстве. М., 2020; Степанов С. К. Деконструкция правосубъектности или место искусственного интеллекта в праве // Цифровое право. 2021. № 2 (2). С. 14–30.
14 См.: Гаджиев Г. А., Войниканис Е. А. Может ли робот быть субъектом права (поиск правовых норм для регулирования цифровой экономики)? // Право. Журнал ВШЭ. 2018. № 4. C. 24–48; Пашенцев Д. А. Субъект правоприменения в цифровом обществе // Субъект права: стабильность и динамика правового статуса в условиях цифровизации: сб. науч. тр. / под общ. ред. Д. А. Пашенцева, М. В. Залоило. С. 58–65.
15 См.: Пономарева Е. В. Феномен квазисубъекта права: вопросы теории. М., 2020. С. 7.
16 См.: Поляков А. В. Права человека и суверенитет государства // Постклассическая онтология права / под общ. ред. И. Л. Честнова. С. 305–310.
17 См.: Честнов И. Л. Постклассическая теория права. СПб., 2012. С. 386–406.
18 См.: Овчинников А. И. Правовое мышление в герменевтической парадигме. Ростов н/Д., 2002.
19 См.: Schlag P. The problem of the subject // Texas Law Review. 1991. Vol. 69. Pp. 1627–1743.
20 См.: Лапаева В. В. Либертарно-юридическая догматика как фактор повышения качества и эффективности правового регулирования // Эффективность правового регулирования / под общ. ред. А. В. Полякова, В. В. Денисенко, М. А. Беляева. М., 2017. С. 40–69.
21 Покровский И. А. Абстрактный и конкретный человек перед лицом гражданского права (Prolegomena к предстоящему обсуждению проекта обязательственного права) // Вестник Гражданского права. 1913. № 4. С. 32, 33.
22 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. М., 1910. С. 575.
23 Радбрух Г. Философия права. М., 2004. С. 147.
24 Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2-е изд. СПб., 2015. С. 219.
25 См.: Пятков Д. В. Позиции отечественных цивилистов по определению понятия «физическое лицо»: ретроспективы и современность // Известия АлтГУ. Юрид. науки. 2018. № 6 (104). С. 190, 191.
26 Гаджиев Г. А. Онтология права: (критическое исследование юридического концепта действительности). М., 2013. С. 16.
27 См.: Павлов В. И. Антропология права в контексте юридической, философской и религиозной традиций: история формирования. М., 2021. С. 37–168.
28 Мицкевич А. В. Субъекты советского права. М., 1962. С. 4.
29 См.: Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 6; Мицкевич А. В. Указ. соч. С. 4.
30 Кельзен Г. Указ. соч. С. 219.
31 См.: Ямпольская Ц. А. О субъективных правах советских граждан и их гарантиях // Вопросы советского государственного права. М., 1959. С. 187, 188; Строгович М. С. Основные вопросы советской социалистической законности. М., 1966. С. 156.
32 Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М., 2008. С. 24.
33 См.: Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 123, 124.
34 См.: Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России. М., 1997. С. 31–38.
35 Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 48.
36 См.: там же. С. 51–71.
37 См.: Кучинский В. А. Личность, свобода, право. М., 1978. С. 133; Витрук Н. В. Указ. соч. С. 23–26; Воеводин Л. Д. Указ. соч. С. 12.
38 Витрук Н. В. Указ. соч. С. 43.
39 Воеводин Л. Д. Указ. соч. С. 29.
40 См.: Орзих М. Ф. Личность и право. М., 1975; Его же. Право и личность: вопросы теории правового воздействия на личность социалистического общества. Киев; Одесса, 1977.
41 См.: Матузов Н. И. Указ. соч. С. 63, 64.
42 Архипов С. И. Субъект права: теоретическое исследование. СПб., 2004. С. 291.
43 Покровский И. А. Указ. соч. С. 33.
44 Там же. С. 49.
45 См.: Архипов С. И. Указ. соч. С. 25–123; Пономарева Е. В. Указ. соч. С. 7–25.
46 Архипов С. И. Указ. соч. С. 48, 49.
47 Там же. С. 52.
48 Там же. С. 58.
49 Витрук Н. В. Указ. соч. С. 193.
50 См.: Архипов С. И. Указ. соч. С. 87; Васев И. Н. Субъективное право как общетеоретическая категория. М., 2012. С. 152–155, 163.
51 См.: Пономарева Е. В. Указ. соч. С. 33–63.
52 См.: там же. С. 11, 12.
53 См.: там же. С. 35.
54 Там же. С. 37.
55 См.: СЗ РФ. 2022. № 46, ст. 7977.
Об авторах
Вадим Иванович Павлов
Национальный центр законодательства и правовых исследованийРеспублики Беларусь
Автор, ответственный за переписку.
Email: vadim_pavlov@tut.by
ORCID iD: 0000-0002-2867-1039
кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
Белоруссия, МинскСписок литературы
- Архипов С. И. Субъект права: теоретическое исследование. СПб., 2004. С. 25–123, 291.
- Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 6.
- Васев И. Н. Субъективное право как общетеоретическая категория. М., 2012. С. 152–155, 163.
- Веденеев Ю. А. Юриспруденция: явление и понятие. Введение в генеалогию языка концептуальных парадигм. М., 2022.
- Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М., 2008. С. 23–26, 43, 193.
- Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России. М., 1997. С. 12, 29, 31–38.
- Гаджиев Г. А. Онтология права: (критическое исследование юридического концепта действительности). М., 2013. С. 16.
- Гаджиев Г. А., Войниканис Е. А. Может ли робот быть субъектом права (поиск правовых норм для регулирования цифровой экономики)? // Право. Журнал ВШЭ. 2018. № 4. C. 24–48.
- Горбань В. С. Зачем философия права сегодня? // Теория и практика общественного развития. 2018. № 12 (130). С. 99–103.
- Дождев Д. В. Римское частное право: учеб/ / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. 3-е изд., испр. и доп. М., 2011. С. 290, 291.
- Жуков В. И. Антропология в философии права: постановка проблемы // Государство и право. 2019. № 3. С. 61–73.
- Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2-е изд. СПб., 2015. С. 219.
- Ковлер А. И. Антропология права: учеб. для вузов. М., 2002.
- Кофанов Л. Л. Жреческие коллегии в Раннем Риме. К вопросу о становлении римского сакрального и публичного права. М., 2001.
- Кофанов Л. Л. Persona и persona publica в республиканском Риме // Древнее право. 2010. № 1 (25). С. 40.
- Кучинский В. А. Личность, свобода, право. М., 1978. С. 133.
- Лапаева В. В. Либертарно-юридическая догматика как фактор повышения качества и эффективности правового регулирования // Эффективность правового регулирования / под общ. ред. А. В. Полякова, В. В. Денисенко, М. А. Беляева. М., 2017. С. 40–69.
- «Леонъ и Константин вѣрнаѧ царѧ»: древнерусский текст Эклоги законов // Щапов Я. Н. Византийская «Эклога законов» в русской письменной традиции. СПб., 2011. С. 13–58.
- Липшиц Е. Э. Право и суд в Византии в IV–VIII вв. М., 1976. С. 59, 60.
- Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Соч.: в 3 т. М., 1988. С. 263–265.
- Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 48, 51–71.
- Мицкевич А. В. Субъекты советского права. М., 1962. С. 4.
- Монтескьё Ш. Л. О духе законов. М., 1999. С. 16.
- Нарбеков В. Номоканон константинопольского патриарха Фотия с толкованием Вальсамона. Казань, 1899. Ч. 2.
- Овчинников А. И. Правовое мышление в герменевтической парадигме. Ростов н/Д., 2002.
- Орзих М. Ф. Личность и право. М., 1975.
- Орзих М. Ф. Право и личность: вопросы теории правового воздействия на личность социалистического общества. Киев; Одесса, 1977.
- Павлов А. С. Первоначальный славяно-русский номоканон. Казань, 1869.
- Павлов В. И. Антропология права в контексте юридической, философской и религиозной традиций: история формирования. М., 2021. С. 37–168.
- Пашенцев Д. А. Субъект правоприменения в цифровом обществе // Субъект права: стабильность и динамика правового статуса в условиях цифровизации: сб. науч. тр. / под общ. ред. Д. А. Пашенцева, М. В. Залоило. М., 2021. С. 58–65.
- Покровский И. А. Абстрактный и конкретный человек перед лицом гражданского права (Prolegomena к предстоящему обсуждению проекта обязательственного права) // Вестник Гражданского права. 1913. № 4. С. 32, 33, 49.
- Поляков А. В. Права человека и суверенитет государства // Постклассическая онтология права / под общ. ред. И. Л. Честнова. СПб., 2016. С. 305–310.
- Пономарева Е. В. Феномен квазисубъекта права: вопросы теории. М., 2020. С. 7–25, 33–63.
- Постклассическая онтология права / под общ. ред. И. Л. Честнова. СПб., 2016.
- Пучков О. А. Антропологическое постижение права. Екатеринбург, 1999.
- Пятков Д. В. Позиции отечественных цивилистов по определению понятия «физическое лицо»: ретроспективы и современность // Известия АлтГУ. Юрид. науки. 2018. № 6 (104). С. 190, 191.
- Радбрух Г. Философия права. М., 2004. С. 147.
- Социокультурная антропология права / под ред. Н. А. Исаева, И. Л. Честнова. СПб., 2015.
- Социальная антропология права современного общества / под ред. И. Л. Честнова. СПб., 2006.
- Спекторский Е. В. Проблема социальной физики в XVII столетии: в 2 т. СПб., 2006. Т. 2. С. 53.
- Степанов С. К. Деконструкция правосубъектности или место искусственного интеллекта в праве // Цифровое право. 2021. № 2 (2). С. 14–30.
- Строгович М. С. Основные вопросы советской социалистической законности. М., 1966. С. 156.
- Субъект права: стабильность и динамика правового статуса в условиях цифровизации: сб. науч. тр. / под общ. ред. Д. А. Пашенцева, М. В. Залоило. М., 2021.
- Троянос С. Н. Понятие «икономия» в византийском праве (с учетом современной греческой канонистики) // Богословские труды. 2012. Вып. 43–44. С. 485–501.
- Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 123, 124.
- Хвостова К. В. Прония: социально-экономические и правовые проблемы // Византийский временник. 1988. Т. 49. С. 13.
- Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции. М., 2015. С. 220.
- Черемисинова М. Е. Правовой статус субъектов в виртуальном пространстве. М., 2020.
- Честнов И. Л. Постклассическая теория права. СПб., 2012. С. 386–406.
- Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. М., 1910. С. 575.
- Эклога: Византийский законодательный свод VIII века / вступ. ст., пер., комм. Е. Э. Липшиц. М., 1965.
- Ямпольская Ц. А. О субъективных правах советских граждан и их гарантиях // Вопросы советского государственного права. М., 1959. С. 187, 188.
- Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III und Konstantinos’ V. Herausgegeben von Ludwig Burgmann. Frankfurt-am-Main, 1983.
- Franciosi G. Famiglia e persone in Roma antica: dall’eta arcaica al principato. 3 ed. Torino, 1995.
- Norbert R. Anthropologie juridique. 1re ed. Paris, 1988.
- Schlag P. The problem of the subject // Texas Law Review. 1991. Vol. 69. Pp. 1627–1743.
Дополнительные файлы