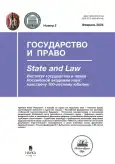Sources of specification and interpretation of the prescriptions of a special part of Russian criminal law
- Authors: Aslanyan R.G.1
-
Affiliations:
- Kuban State University
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 74-81
- Section: Discussions and debates
- URL: https://journal-vniispk.ru/1026-9452/article/view/259447
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1026945224020078
- ID: 259447
Cite item
Full Text
Abstract
The article examines the system of formal sources of Criminal Law, which, during consideration and analysis, is thought of as a set of forms of expression of criminally relevant information, differentiated depending on the content of information, subjects of its presentation, purpose in the mechanism of criminal law regulation and clearly falling into two related groups: related to the criminal law prohibition in as a whole and to the composition of the crime. As the main conclusion, a system of formal sources of a Special part of Criminal Law is proposed, consisting of two groups of acts: a) normative acts, which are represented by sources of establishing a criminal law prohibition (the Criminal Code and the code of responsibility for criminal acts of a low degree of danger) and sources of specifying the prohibition (resolutions of the Government of the Russian Federation and resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation); b) non-normative acts, which are represented by sources of non-mandatory (doctrinal documents, acts of unauthorized state bodies, rulings of the Supreme Court of the Russian Federation) and mandatory (decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation and decisions of the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation) interpretation.
Full Text
В соответствии с предписаниями ст. 3 УК РФ, закрепляющими принцип законности, преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только уголовным законодательством.
Именно этим принципом, как правило, аргументируется и мысль о том, что Уголовный кодекс РФ есть единственный источник отрасли уголовного права, и положение о множественности источников уголовного права. Противоречие заключается в том, что, с одной стороны, преступность деяния не может быть определена иным, кроме Уголовного кодекса РФ федеральным законом, а с другой – Уголовный кодекс РФ не содержит всей необходимой информации для решения вопроса о том, является ли то или иное конкретное деяние преступным. Его разрешению должен способствовать концепт «правовая определенность». Напомним, что определенность напрямую признавалась А. Э. Жалинским одним из существенных признаков источников уголовного права1.
Критерий определенности правовой нормы как конституционное требование к законодателю в Российской Федерации был сформулирован в ряде постановлений Конституционного Суда РФ2. Основные тезисы в данном случае состоят в следующем:
- принимаемые законы должны быть определенными как по содержанию, так и по предмету, цели и объему действия, а правовые нормы – сформулированными с достаточной степенью точности, позволяющей гражданину сообразовывать с ними свое поведение, как запрещенное, так и дозволенное;
- любое преступление, а равно наказание за его совершение должны быть четко определены в законе, причем таким образом, чтобы исходя непосредственно из текста соответствующей нормы – в случае необходимости с помощью толкования, данного ей судами, – каждый мог предвидеть уголовно-правовые последствия своих действий (бездействия).
Такие суждения имеются и в положениях Европейского Суда по правам человека, который в одном из знаковых решений указал: «Норма не может считаться “законом”, если она не сформулирована с достаточной степенью точности, позволяющей гражданину сообразовывать с ней свое поведение: он должен иметь возможность – пользуясь при необходимости советами – предвидеть, с разумной применительно к обстоятельствам степени, последствия, которые может повлечь за собой данное действие»3.
Вместе с тем очевидно, что дать в уголовном законе такое описание признаков преступления, которое было бы настолько исчерпывающим, детальным, что не возникало бы никаких сомнений в их содержании, что не требовалось бы никаких усилий по их толкованию и уяснению, в принципе невозможно. Такая ситуация – следствие не только особенностей юридической техники конструирования уголовно-правовых запретов, но и наличия как объективных системных связей между различными правовыми источниками, так и взаимодействия представительных, исполнительных и судебных органов в процессе правового регулирования и правоприменения.
Судебные доктрины в полной мере признают данное обстоятельство и не усматривают в нем нерешаемой проблемы. Конституционный Суд РФ неоднократно высказывался по этому вопросу:
- определение степени формализации признаков того или иного преступления как составная часть нормотворческого процесса – исключительная компетенция законодателя. Необходимые же разъяснения по возникающим в судебной практике вопросам применения норм уголовного законодательства, согласно ст. 126 Конституции РФ, дает Верховный Суд РФ4;
- оценка степени определенности содержащихся в законе понятий должна осуществляться исходя не только из самого текста закона, используемых формулировок, но и из их места в системе нормативных предписаний5; само по себе употребление в диспозиции термина «незаконные» свидетельствует о том, что регулятивные нормы содержатся в других федеральных законах и иных нормативных правовых актах, которыми наполняется содержание данной нормы уголовного закона и в системном единстве с которыми, а также с учетом смежных составов административных правонарушений она подлежит применению6;
- принцип правовой определенности не исключает введения в уголовный закон юридических конструкций бланкетного характера, которые для уяснения используемых в нем терминов и понятий требуют обращения к нормативному материалу иных правовых актов7;
- неопределенность в понимании нормы может быть преодолена путем систематического толкования с учетом иерархической структуры правовых норм, предполагающей, что толкование норм более низкого уровня должно осуществляться в соответствии с нормами более высокого уровня. При невозможности же использования аналогии закона возможна аналогия права и требования добросовестности, разумности и справедливости8.
Развивая и интерпретируя эти суждения применительно к проблематике источников уголовного права, представители науки утверждают, что любой правовой акт, на который сделаны ссылки в тексте диспозиции статьи Особенной части уголовного закона, любой акт, к которому обращается суд применяя уголовный закон, выступает источником отрасли.
При этом в свете обсуждения проблем Особенной части уголовного права можно выделить два несовпадающих концептуальных подхода. Согласно одному из них, источником Особенной части объявляется любая форма объективации любых текстов, содержащих уголовно-релевантную информацию (А. Э. Жалинский9), согласно другому, источником признаются документы, содержащие указание на признаки состава преступления (Н. И. Пикуров10).
Однако представляется, что каждый из них содержит положения, заслуживающие критической оценки. Во-первых, тексты, в которых содержится информация, имеющая отношение к особенной части уголовного права, могут быть качественно различающимися по своей природе (тексты постановлений Правительства РФ, Пленума Верховного Суда РФ, доктринальные комментарии), что не позволяет синтезировать в рамки единой системы формальных источников собственно нормативных предписаний. Во-вторых, какой бы ни была диспозиция статьи Особенной части уголовного закона (отсылочной, бланкетной, с оценочными признаками), именно в уголовном законе и только в нем может содержаться указание на признаки состава преступления. Иные акты могут лишь раскрывать их содержание, детализировать, уточнять и т. д. Разграничение понятий «признак состава преступления» и «содержание признака состава преступления», о котором убедительно писал В. Н. Кудрявцев11, является в данном случае важным условием дифференциации источников Особенной части уголовного права.
Проблема усугубляется еще и тем, что стремясь к оправданному расширению представлений о системе формальных источников уголовного права (в том числе его Особенной части), специалисты, как правило, игнорируют эти обстоятельства, излагая их «общим списком», что является существенным препятствием к полноценному развитию учения об источниках Особенной части уголовного права. Оно ориентирует исследователей в большей части на познание иерархических отношений между разнообразными источниками права. Это важный момент, но как представляется, вторичный, ибо вопросы иерархии должны сопровождаться исследованием координационных связей между источниками права с тем, чтобы в полной мере соблюсти требования системного подхода.
Специалисты отчасти сознают эти особенности источников уголовного права. Некоторые на этой основе предлагает рассматривать источники уголовного права в двух аспектах – широком и узком12, другие выделяют категорию дополнительных (рекомендательных, разъяснительных) источников13.
С учетом изложенных обстоятельств возникает необходимость согласовать и в известном смысле «примирить» положение об уголовном законе как единственном источнике Особенной части уголовного права и тезис о полиисточниковом характере отрасли. Теоретической основой для такого решения должно стать принципиальное «разведение» конструкций уголовно-правового запрета и состава преступления, а равно процессов создания, конкретизации и толкования права.
Уголовно-правовой запрет как целостное суждение о преступности и наказуемости определенного вида общественно опасного поведения, структурно корреспондирующий уголовно-правовому предписанию Особенной части с его диспозитивной и санкционной частью, в силу прямого указания ч. 1 ст. 1 УК РФ может быть сформулирован исключительно в уголовном законе. Статья Особенной части УК РФ в данном случае может рассматриваться в качестве «учреждающего», «первичного» предписания, выражающего волю государства преследовать и наказывать за то или иное поведение.
Реальная практика применения уголовно-правового предписания Особенной части опосредуется теоретической конструкцией состава преступления, которая выполняет важную гарантийную функцию по отношению к правам человека. Только то общественно опасное деяние, которое содержит все признаки состава, может выступать основанием уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ) и применения мер уголовно-правового принуждения.
Уголовно-правовое предписание Особенной части, включенное законодателем в структуру кодифицированного уголовного закона, с учетом системных его свойств и в единстве с иными содержащимися в нем предписания, выражает все признаки состава преступления. Отсутствие какого-либо признака состава преступления в уголовном законе делает предписание Особенной части уголовного права нежизнеспособным.
Исходя из требований правовой определенности, идеальной является ситуация, при которой содержание всех признаков состава прямо и непосредственно выражено в Уголовном кодексе РФ. Однако конституционно допустимой является ситуация, при которой содержание признака (подчеркнем принципиально важную оговорку – не сам признак, а содержание признака) раскрывается в иных документах. Эти документы образуют группу источников, содержащих «вторичные» уголовно-правовые предписания, дополнительную уголовно-релевантную информацию.
Уточнение содержания признаков состава с конституционной точки зрения допустимо в двух различающихся по теоретической природе процессах: конкретизации и толкования права. В современной литературе высказаны различные позиции по вопросу о соотношения этих практик – от их полного отождествления до противопоставления14. Однако наиболее распространенным и убедительным является подход, согласно которому конкретизация и толкования права, будучи единым в части уточнения, детализации правовых предписаний, различаются по субъектам деятельности и степени нормативности ее результатов. В. В. Ершов пишет: толкование права ограничено только уяснением и разъяснением в правореализационном процессе имеющихся принципов и норм права с целью индивидуализации, индивидуального регулирования фактических общественных отношений; конкретизация же права есть выработка в процессе правотворческой деятельности более детальных, дополнительных, уточняющих и т. д. принципов и норм права, реализующихся в государстве и имеющих большую юридическую силу15.
В этом отношении вторичные уголовно-правовые источники отчетливо распадаются на источники конкретизации предписаний Особенной части уголовного права и источники толкования этих предписаний. Каждый из этих видов нуждается в некотором пояснении.
Поскольку субъектом конкретизации права выступают органы, уполномоченные на создание нормативных правовых предписаний общего характера, источники конкретизации нормативных предписаний Особенной части уголовного права – всегда нормативные правовые акты. Однако, на наш взгляд, далеко не каждый акт, на основании которого может быть уточнено содержание признака состава преступления следует относить к формальным источникам конкретизации уголовно-правовых предписаний.
В науке, к примеру, распространено мнение о том, что при конструировании бланкетных диспозиций, содержащих отсылку к нормам и правилам иных отраслей права, неуголовные нормативно-правовые акты становятся источником уголовного права. «Разумеется, – отмечает А. В. Наумов, – сами по себе эти правила не превращаются в уголовно-правовой акт (уголовный закон), однако, будучи включенными в содержание диспозиции уголовного закона, превращаются в “клеточку” уголовно-правовой “материи”»16. С таким суждением можно согласиться отчасти. Стоит напомнить, что бланкетность может иметь различные формы своего проявления – прямая отсылка, использование иноотраслевого термина и т.д. 17Неуголовно-правовые нормативные акты, к которым отсылает уголовный закон при конструировании состава преступления (например, Правила дорожного движения, отсылка к которым содержится при описании объективной стороны преступления в ст. 264 УК РФ, или Гражданский кодекс РФ, термины которого использованы при описании предмета преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ), во-первых, не предназначены для регулирования уголовно-правовых отношений, и во-вторых, не созданы в целях конкретизации признаков составов преступлений. В логике правового регулирования они представляют собой первичные регулятивные акты, нарушение положений которых оценивается как настолько общественно опасное, что требует криминализации. Отсутствие целевой предназначенности для конкретизации признаков состава преступления выступает важной характеристикой этих нормативных актов. Они не конкретизируют уголовно-правовые предписания, но используются правоприменителем в процессе толкования уголовно-правовых предписаний. Не законодатель в данных актах уточняет признаки составов преступлений, а правоприменитель на основе этих актов толкует уголовный закон. В силу этого, такие акты целесообразно признавать не формальными источниками конкретизации уголовно-правовых предписаний, а материальными источниками их толкования.
Признак «целевого предназначения» и «производности» актов конкретизации права позволяет отнести к формальным источникам Особенной части только те нормативные документы, которые специально созданы для целей применения уголовного закона. Такие документы теоретически мыслимы прежде всего в виде парламентских и правительственных актов.
Парламент имеет все конституционные возможности для того, чтобы конкретизировать созданные им уголовно-правовые предписания. Надо учитывать, однако, что такая конкретизация может иметь единственную форму своего внешнего выражения – это закон. Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 1997 г. № 17-П 18 делегитимировало возможность аутентичного толкования законов. Парламент не дает толкования законов, но конкретизирует их. Причем эта конкретизация может выражаться как в уточнении содержания диспозиций статей Особенной части Уголовного кодекса (например, Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ в абзаце первом ст. 156 УК РФ слова «педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения» были заменены словами «педагогическим работником или другим работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации»), так и во включении в текст закона специальных конкретизирующих примечаний (к примеру, Федеральным законом от 20.03.2001 № 26-ФЗ Закон был дополнен примечанием к ст. 139 УК РФ, раскрывающим понятие жилища). Следует подчеркнуть, что акты парламентской конкретизации уголовного закона – это всегда законы о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, в связи с этим их нецелесообразно выделять в качестве отдельного, самостоятельного формального источника конкретизации уголовно-правовых предписаний.
Другое дело – акты Правительства РФ. Некоторые специалисты полагают, что «в отличие от иных отраслей права уголовное право исключает из числа своих источников подзаконные нормативные правовые акты» и что «принятие подзаконных актов по каким-либо вопросам преступности и наказуемости деяний не предусмотрено»19. Это утверждение требует корректировки. Преступность и наказуемость деяний в силу указания принципа законности, действительно, не могут устанавливаться подзаконными актами. Однако это не исключает подзаконные акты из числа источников уголовного права. В настоящий момент они образуют вполне отчетливый массив (более 10) актов конкретизации уголовно-правовых предписаний, ограниченный, как правило, уточнением признаков предмета преступлений и преступных последствий.
Возможность принятия Правительством РФ актов конкретизации уголовно-правовых предписаний прямо предусматривается в тексте уголовного закона. Однако конкретизация, хотя и является частью нормотворческого процесса, не может тем не менее приводить к коррекции признаков состава преступления. В этом состоит ее производный и уточняющий характер. На это обстоятельство прямо указал Конституционный Суд РФ: «Принцип разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную (статья 10 Конституции РФ) в сфере правового регулирования предполагает разграничение законодательной функции, возлагаемой на Федеральное Собрание РФ, и функции обеспечения исполнения законов, возлагаемой на Правительство РФ, которое, осуществляя меры по обеспечению прав и свобод граждан (статья 114, пункт “е” части 1, Конституции РФ) и действуя на основании и во исполнение федеральных законов (статья 115, часть 1, Конституции РФ, статьи 2 и 3 Федерального конституционного закона “О Правительстве Российской Федерации”), не вправе, как и другие органы исполнительной власти, устанавливать не предусмотренные федеральным законом основания уголовной ответственности»20.
Отдельного внимания в рамках анализа актов конкретизации уголовно-правовых предписаний заслуживают постановления Пленума Верховного Суда РФ. Широкая дискуссия в науке по поводу возможности или невозможности признания их формальными источниками уголовного права известна и не требует детального воспроизводства. Как правило, в отраслевой литературе спор сводится к вопросу о наделении постановлений Пленума нормативными свойствами общеобязательности, что разводит юристов в два противостоящих лагеря: признающих за этими актами качество нормативного акта и, следовательно, формального источника уголовного права21, и не признающими этого, рассматривающими постановления Пленума Верховного Суда РФ исключительно как акт толкования закона22.
Дискуссия эта, как представляется, не вполне учитывает теоретико-правовые различия между актами создания, конкретизации и толкования права. Добавляет неопределенности в понимании статуса постановлений Пленума и нормативная база, определяющая компетенцию Верховного Суда РФ. Исходя из ст. 126 Конституции РФ и п. 1 ч. 7 ст. 2 Федерального закона «О Верховном Суде Российской Федерации», Верховный Суд РФ в целях обеспечения единообразного применения законодательства дает судам разъяснения по вопросам судебной практики на основе ее изучения и обобщения23. Выступают ли эти «разъяснения» нормативно-правовыми или правотолковательными актами, остается не ясным.
Специалисты в области общей теории права, акцентированно преломляющие природу постановлений Пленума Верховного Суда РФ через призму дифференциации правосозидательных процессов, также не пришли к единому мнению по рассматриваемому вопросу. Если М. Н. Марченко прямо признает за постановлениями Пленума Верховного Суда РФ свойство нормативных актов24, В. В. Джура утверждает, что они являют собой акты «нормативного судебного толкования права»25, то Н. Н. Вопленко усматривает в них акты правоприменительной (судебной) конкретизации права26. Расхождения теоретиков в позициях обусловлены авторскими предпочтениями относительно понимания таких феноменов, как конкретизация (возможна или невозможна она на уровне правоприменения) и толкования (может оно иметь общеобязательный характер или не может).
Рассуждая над статусом постановлений Пленума Верховного Суда РФ, на наш взгляд, необходимо исходить из того, что: а) эти акты не связаны с конкретной правоприменительной ситуацией и имеют всеобщее значение; б) как исходящие от органа государственной власти, они обладают свойством нормативности в том плане, что являются общеобязательными; в) как не являющиеся законами, они не могут устанавливать преступность и наказуемость деяний.
С учетом данных признаков можно предложить следующий вариант разграничения актов конкретизации и толкования права, значимый для продолжения нашего исследования: акт конкретизации права, как феномен, относящийся к правотворчеству, всегда имеет общий и общеобязательный характер, тогда как акт толкования права либо ограничен пределами конкретной правоприменительной ситуации, либо не имеет общеобязательного значения.
На этой основе надо признать, что постановления Пленума Верховного Суда РФ представляют формальный источник конкретизации нормативных предписаний Особенной части уголовного права. Они имеют подзаконный характер, принимаются специально в целях уточнения признаков составов преступлений и порядка применения уголовно-правовых норм, распространяются на все потенциально возможные ситуации применения уголовного закона (носят абстрактный характер, не связаны с обстоятельствами того или иного конкретного уголовно дела) и являются общеобязательными 27 (их невыполнение грозит ошибками в применении уголовного закона).
Отмеченные признаки позволяют идентифицировать и обособить в системе формальных источников уголовного права источники толкования нормативных предписаний. Толкование закона в самом общем виде – это познавательная деятельность, направленная на уяснение его смысла. В отличие от конкретизации права, которое дается только специальными органами, уполномоченными участвовать в правотворческом процессе, толкование может иметь место в практике любого субъекта. В связи с чем уже в первом приближении необходимо различать акты официального и неофициального толкования.
Толкование, которое выработано субъектами, не имеющими правотворческого статуса, в ситуации, когда оно приобретает высокий авторитет и значимость, вполне может приобрести значение одного из вторичных формальных источников уголовного права – источников неофициального толкования закона.
Акты неофициального толкования не имеют строгой системы, но их совокупность вполне отчетливо распадается на два блока.
Первый составляют доктринальные источники, формой выражения которых выступают различные комментарии, монографическая литература, иные научные труды. Специфика этих источников толкования состоит в том, что они, с одной стороны, не ограничены каким-либо частным случаем и имеют общий характер. Но, с другой стороны, они не наделены свойством обязательности, возможность их применения на практике основывается исключительно на убедительности аргументации и авторитете.
Как система теоретических и научно обоснованных положений о праве, правовая доктрина обладает убеждающей силой и имеет прикладное значение. Анализ правоприменительной практики свидетельствует, что в ряде случаев суды допускают прямые ссылки на положения доктрины в мотивировочной части своих решений.
Другой разновидностью источников неофициального толкования уголовного закона следует признать документы, исходящие от государственных органов, не наделенных полномочиями по толкованию. Соответствующие акты толкования подготовлены Федеральной службой судебных приставов28, Федеральной таможенной службой29, Генеральной прокуратурой РФ30. При этом ни один из этих органов, согласно учредительным документам, не обладает компетенцией давать официальное толкование законов, тем более уголовного. Между тем эти официальные документы, хотя и не выражают официального толкования, вносят свой вклад в дело уяснения смысла и содержания нормативных предписаний Особенной части уголовного права.
Противоположность неофициальному составляет официальное толкование уголовного закона. Единственным легитимным субъектом такого толкования выступает суд, а формальным источником выражения – акты судебной власти, которые в отличие от источников неофициального толкования имеют обязательное значение, но в отличие от источников конкретизации права всегда связаны с обстоятельствами конкретной правоприменительной ситуации. Отличие актов официального толкования от актов конкретизации права состоит и в том, что толкование составляет не суть, не предназначение судебного решения, а его необходимое условие. Рассматривая то или иное дело, суд всегда толкует закон; толкование – неотъемлемая часть правоприменительного процесса. Итог толкования – правовая позиция, сформулированная в приговоре или ином окончательном решении суда.
Можно утверждать об актах судебного толкования Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. Каждый из этих источников обладает определенной спецификой.
Постановления Конституционного Суда РФ являются актами толкования собственно уголовного закона, причем толкования специфического – конституционного. Конституционный Суд РФ – единственный орган, уполномоченный давать конституционное толкование уголовного закона31, а его правовые позиции по данному вопросу, выраженные в постановлениях и определениях суда, являются общеобязательными.
Решения Верховного Суда РФ по конкретным уголовным делам составляют особую группу формальных источников толкования закона. Они содержат «коллективный аргументированный вывод, выражающий представление высшей судебной инстанции о должном понимании содержания правовых норм и условий (порядка) их применения судами в процессе осуществления правосудия по уголовным делам, направленный на обеспечение единства и стабильности судебной практики в уголовном судопроизводстве»32.
Ключевой вопрос в рамках теории источников права – признавать ли решения Верховного Суда РФ по конкретным делам статус прецедентов. Как известно, некоторые специалисты последовательно настаивают на положительном решении данного вопроса33, другие – его отрицают34.
Разрешая эту проблему, необходимо принять во внимание как минимум два важных указания Конституционного Суда РФ.
Во-первых, хотя суд общей юрисдикции в силу ст. 120 Конституции РФ, самостоятельно решая вопрос, подлежит ли та или иная норма применению в рассматриваемом им деле, уясняет смысл нормы, т. е. осуществляет ее казуальное толкование, балансом закрепленных Конституцией РФ принципов независимости судей при осуществлении правосудия, верховенства Конституции РФ и федеральных законов в российской правовой системе, а также равенства всех перед законом и судом обусловливается требование единства практики применения норм законодательства всеми судами35.
Во-вторых, свойством отражать официальную позицию Верховного Суда РФ обладают не все судебные акты. Кроме постановлений Пленума Верховного Суда, содержащих конкретизацию права, свойством официальности обладают лишь постановления Президиума Верховного Суда РФ. «Если постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации являются окончательными, принимаются в составе, представляющем Верховный Суд Российской Федерации в целом, и только в случаях, имеющих особое значение, в частности для формирования единообразной правоприменительной практики, то определения, выносимые судебными коллегиями Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре конкретных дел в кассационном порядке, указанным критериям не отвечают»36.
Исходя из этих посылок, можно сделать единственный вывод о том, что обязательным официальным источником толкования уголовного закона высшей судебной инстанцией выступают лишь постановления Президиума Верховного Суда РФ. Определения коллегий Верховного Суда РФ, хотя и содержат толкование закона, не обладают свойством общеобязательности, а следовательно, не могут восприниматься в качестве источников официального толкования уголовного закона. Их место в системе актов толкования такое же, как и у документов иных государственных органов, содержащих итоги неофициального толкования закона.
* * *
Таким образом, исследование формальных источников Особенной части уголовного права позволяет сделать следующие основные выводы:
- система формальных источников Особенной части уголовного права должна мыслиться как совокупность форм выражения уголовно-релевантной информации, дифференцированных в зависимости от содержания информации, субъектов ее представления и назначения в механизме уголовно-правового регулирования;
- различение содержания и функционального назначения конструкции уголовно-правового запрета и состава преступления, позволяет дифференцировать источники установления запрета, источники конкретизации запрета и источники его толкования; общим признаком источников конкретизации и толкования выступает их целевая установка, специальная предназначенность для уточнения и уяснения содержания отдельных признаков состава преступления;
- источником конкретизации уголовно-правового запрета выступает официальный акт уполномоченного государственного органа, который имеет общий (не связанный с обстоятельствами конкретного дела) и общеобязательный (нормативный) характер; в правовой системе России актами конкретизации уголовно-правовых предписаний Особенной части выступают специально созданные в этих целях постановления Правительства РФ и постановления Пленума Верховного Суда РФ;
- источники толкования уголовно-правового запрета в зависимости от их обязательности, классифицируются на источники неофициального толкования (доктринальные и не имеющие общеобязательного значения акты государственных органов) и источники официального толкования (решения Конституционного Суда РФ и постановления Президиума Верховного Суда РФ), которые хотя и связаны обстоятельствами конкретной правоприменительной ситуации, тем не менее имеют силу правотолковательного прецедента, обязательного для всех последующих аналогичных ситуаций.
1 См.: Жалинский А. Э. О системе источников уголовного права // Жалинский А. Э. Избр. труды: в 4 т. Т. II. Уголовное право / отв. ред. О. Л. Дубовик. М., 2015. С. 159.
2 См., в частности: постановления Конституционного Суда РФ: от 25.04.1995 № 3-П «По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 54 Жилищного кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданки Л. Н. Ситаловой» // СЗ РФ. 1995. № 18, ст. 1708; от 14.04.2008 № 7-П «По делу о проверке конституционности абзаца второго статьи 1 Федерального закона “О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан” в связи с жалобами ряда граждан» // СЗ РФ. 2008. № 18, ст. 2089; от 17.06.2014 № 18-П «По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации и статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 Федерального закона “Об оружии” в связи с жалобой гражданки Н. В. Урюпиной» // СЗ РФ. 2014. № 26 (ч. II), ст. 3633; от 27.05.2008 № 8-П «По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М. А. Асламазян» // СЗ РФ. 2008. № 24, ст. 2892.
3 См.: постановление ЕСПЧ от 26.04.1979 по делу «Санди Таймс против Соединенного Королевства» (жалоба № 6538/74).
4 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 20.12.1995 № 17-П «По делу о проверке конституционности ряда положений пункта “а” статьи 64 Уголовного кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В. А. Смирнова» // СЗ РФ. 1996. № 1, ст. 54.
5 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2003 № 9-П «По делу о проверке конституционности положения статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан П. Н. Белецкого, Г. А. Никовой, Р. В. Рукавишникова, В. Л. Соколовского и Н. И. Таланова» // СЗ РФ. 2003. № 24, ст. 2431.
6 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2011 № 3-П «По делу о проверке конституционности части третьей статьи 138 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С. В. Капорина, И. В. Коршуна и других» // СЗ РФ. 2011. № 15, ст. 2191.
7 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 № 22-П «По делу о проверке конституционности положения статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Республики Казахстан О. Е. Недашковского и С. П. Яковлева» // СЗ РФ. 2015. № 30, ст. 4659.
8 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2007 № 966-О-П «По жалобе гражданина Поспелова Александра Леонидовича на нарушение его конституционных прав отдельными положениями статьи 29 Патентного закона Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2008. № 2.
9 См.: Жалинский А. Э. Указ. соч. С. 159.
10 См.: Пикуров Н. И. Квалификация преступлений с бланкетными признаками состава. М., 2009. С. 16–31.
11 См. об этом подр.: Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд. М., 1999. С. 97–100.
12 См.: Майорова Е. И. К вопросу об источниках уголовного права // Nauka-rastudent.ru. 2015. № 11 (23).
13 См.: Бахмадов Б. Д. Классификация источников уголовного права Российской Федерации // Право и политика. 2017. № 4. С. 37.
14 Обзор позиций см.: Залоило М. В. Конкретизация и толкование юридических норм: проблемы соотношения и взаимодействия // Журнал росс. права. 2010. № 5. С. 107–109.
15 См.: Ершов В. В. Конкретизация Конституции России: теоретические и практические проблемы // Росс. правосудие. 2013. № 12 (92). С. 9.
16 Наумов А. В. Нормы других отраслей права как источник уголовного права // Законность. 2002. № 7. С. 38; см. также: Ображиев К. В. Неуголовные нормативные правовые акты как источники бланкетной части уголовно-правовых норм // Вестник Московского ун-та МВД России. 2012. № 5. С. 99–105.
17 См. подробнее об этом: Пикуров Н. И. Указ. соч.
18 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 17.11.1997 № 17-П «По делу о проверке онституционности постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 21 июля 1995 года № 1090-1 ГД “О некоторых вопросах применения Федерального закона “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации” и от 11 октября 1996 года № 682-II ГД “О порядке применения пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации”» // СЗ РФ. 1997. № 47, ст. 5492.
19 Мадьярова А. В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в механизме уголовно-правового регулирования. СПб., 2002. С. 268.
20 См.: Определения Конституционного Суда РФ: от 08.02.2007 № 290-О-П «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина М. на нарушение его конституционных прав положением списка I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»; от 08.02.2007 № 292-О-П «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чугурова Павла Николаевича на нарушение его конституционных прав положением списка I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» // Документы официально опубликованы не были.
21 См.: Наумов А. Юридическая природа и значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ по применению уголовного законодательства // Уголовное право. 2011. № 2. С. 59–63; Монахова Л. В. Постановления Пленума Верховного Суда РФ как источник уголовного права // Марийский юрид. вестник. 2018. № 2 (25). С. 39–42.
22 См.: Рарог А. И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ // Государство и право. 2001. № 2. С. 51–57; Кайсин Д. В. Источники уголовно-правовой системы Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 9.
23 См.: Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 6, ст. 550.
24 См.: Марченко М. Н. Судебное правотворчество и судейское право. М., 2008. С. 414–429.
25 Джура В. В. Правовые акты органов судебной власти: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2009. С. 6.
26 См.: Вопленко Н. Н. Официальное толкование и конкретизация советских правовых норм // Вопросы теории государства и права: сб. ст. Саратов, 1971. Вып. 2. С. 173.
27 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2013 № 29-П «По делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 1 статьи 1158 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М. В. Кондрачука» // СЗ РФ. 2014. № 1, ст. 79.
28 См.: Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Утв. ФССП России 25.05.2017 № 0004/5 // Бюллетень ФССП. 2017. № 7; Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Утв. ФССП России 21.08.2013 № 04-12 // Документ официально опубликован не был; Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 312 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Утв. ФССП России 25.04.2012 № 04-7 // Бюллетень ФССП. 2012. № 6; Письмо ФССП России от 29.08.2014 № 00043/14/51617 «О порядке применения статей 177, 315 Уголовного кодекса Российской Федерации в случае неисполнения решения третейского суда» // Документ официально опубликован не был.
29 См.: Письмо ФТС России от 28.01.2010 № 01-11/3425 «О квалификации преступлений по выявленным случаям невозврата в Российскую Федерацию иностранной валюты» // Таможенные ведомости. 2010. № 6.
30 См.: Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Утв. Генеральной прокуратурой РФ // Документ официально опубликован не был.
31 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.1998 № 19-П «По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 25, ст. 3004.
32 Видергольд А. И. Правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации и их проявление в уголовном судопроизводстве (теоретические и практические аспекты): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2017. С. 10.
33 См.: Наумов А. Судебный прецедент как источник уголовного права // Росс. юстиция. 1994. № 1. С. 8–11.
34 См.: Данцева Т. Н. Формальные источники права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2007. С. 6.
35 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2013 № 29-П «По делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 1 статьи 1158 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М. В. Кондрачука» // СЗ РФ. 2014. № 1, ст. 79.
36 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 17.10.2017 № 24-П «По делу о проверке конституционности пункта 5 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Д. А. Абрамова, В. А. Ветлугаева и других» // СЗ РФ. 2017. № 44, ст. 6569.
About the authors
Ruslan G. Aslanyan
Kuban State University
Author for correspondence.
Email: aslanyanruslan@mail.ru
Doctor of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Criminal Law and Criminology
Russian Federation, KrasnodarReferences
- Bakhmadov B. D. Classification of sources of Criminal Law of the Russian Federation // Law and politics. 2017. No. 4. P. 37 (in Russ.).
- Viedergold A. I. Legal positions of the Supreme Court of the Russian Federation and their manifestation in criminal proceedings (theoretical and practical aspects): abstract … PhD in Law. Yekaterinburg, 2017. P. 10 (in Russ.).
- Voplenko N. N. Official interpretation and concretization of Soviet legal norms // Questions of the theory of state and law: collection of art. Saratov, 1971. Iss. 2. P. 173 (in Russ.).
- Dantseva T. N. Formal sources of law: abstract … PhD in Law. Krasnoyarsk, 2007. P. 6 (in Russ.).
- Dzhura V. V. Legal acts of judicial authorities: abstract … PhD in Law. Omsk, 2009. P. 6 (in Russ.).
- Ershov V. V. Concretization of the Constitution of Russia: theoretical and practical problems // Russ. Justice. 2013. No. 12 (92). P. 9 (in Russ.).
- Zhalinsky A. E. On the system of sources of Criminal Law // Zhalinsky A. E. Selected works: in 4 vols. Vol. II. Criminal Law / res. rev. O. L. Dubovik. M., 2015. P. 159 (in Russ.).
- Zaloilo M. V. Concretization and interpretation of legal norms: problems of correlation and interaction // Journal of Russ. law. 2010. No. 5. Pp. 107–109 (in Russ.).
- Kaysin D. V. Sources of the criminal law system of the Russian Federation: abstract … PhD in Law. M., 2005. P. 9 (in Russ.).
- Kudryavtsev V. N. General theory of crime qualification. 2nd ed. M., 1999. Pp. 97–100 (in Russ.).
- Madyarova A. V. Explanations of the Supreme Court of the Russian Federation in the mechanism of criminal law regulation. SPb., 2002. P. 268 (in Russ.).
- Mayorova E. I. On the question of sources of Criminal Law // Nauka-rastudent.ru. 2015. No. 11 (23) (in Russ.).
- Marchenko M. N. Judicial lawmaking and judicial law. M., 2008. Pp. 414–429 (in Russ.).
- Monakhova L. V. Resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation as a source of Criminal Law // Mari legal herald. 2018. No. 2 (25). Pp. 39–42 (in Russ.).
- Naumov A. V. Norms of other branches of law as a source of Criminal Law // Legality. 2002. No. 7. P. 38 (in Russ.).
- Naumov A. Judicial precedent as a source of Criminal Law // Russ. Justice. 1994. No. 1. Pp. 8–11 (in Russ.).
- Naumov A. The legal nature and significance of the resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation on the application of criminal legislation // Criminal Law. 2011. No. 2. Pp. 59–63 (in Russ.).
- Obrazhiev K. V. Non-criminal normative legal acts as sources of the blank part of criminal law norms // Herald of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2012. No. 5. Pp. 99–105 (in Russ.).
- Pikurov N. I. Qualification of crimes with blank signs of composition. M., 2009. Pp. 16–31 (in Russ.).
- Rarog A. I. The legal significance of explanations of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation // State and Law. 2001. No. 2. Pp. 51–57 (in Russ.).
Supplementary files