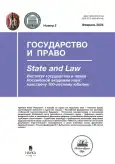Facilitating the transition to formal economy by means of labor law and social security law
- Авторлар: Guseva T.S.1, Klepalova Y.I.1
-
Мекемелер:
- Тhe North-West Branch of Russian state University of justice
- Шығарылым: № 2 (2024)
- Беттер: 130-139
- Бөлім: Labor law and social security law
- URL: https://journal-vniispk.ru/1026-9452/article/view/259453
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1026945224020135
- ID: 259453
Дәйексөз келтіру
Толық мәтін
Аннотация
The article is devoted to the search for a solution to such an acute and urgent problem of modern society as the informal economy, which has an adverse impact both on the state and its financial instruments, and on the population employed in it. Analyzing the norms of Labor Law and Social Security Law, the authors evaluate the current legal regulation through the prism of its focus on the transition to formal employment and the economy. Taking into account the peculiarities of informal employment, they propose ways to improve labor and social security legislation.
Толық мәтін
Введение
В неформальной экономике заняты более шести работников из каждых 10. Неформальность представляет собой всеобъемлющее и значительное по своему масштабу явление, которое растет во многих государствах1. Расширение неформальной экономики есть причина трудностей реализации прав работников как в сфере труда, так и в сфере социальной защиты, и требует внимания как международных организаций, так и государства, путем учета в экономической и социальной политике этого явления, что позволит активизировать и ускорить процесс перехода к формальной экономике. Большинство граждан вовлекаются в неформальную экономику вследствие невозможности формального трудоустройства, поскольку не могут добыть средства к существованию иным способом, поэтому особо нуждаются в правовой защите.
Широкое распространение неформальной занятости подтолкнуло Международную организацию труда (МОТ) 12 июня 2015 г. принять Рекомендацию № 204 «О переходе от неформальной к формальной экономике». В ней содержится понятие неформальной экономики как экономической деятельности работников, которые полностью или частично не охватываются формальными отношениями и не осуществляют преступную деятельность (производство и незаконный оборот наркотиков, незаконное производство и торговля оружием, торговлю людьми и отмывание денег)2. Значение этого документа состоит в том, что государствам-членам рекомендовано охватить социальным обеспечением всех работников неформальной экономики, гарантировать охрану материнства, достойные условия труда и минимальную заработную плату. Следовательно, необходимо ввести правовое регулирование, охватывающее всех занятых. На них должно распространяться законодательство о труде, социальном обеспечении, налогообложении независимо от вида и формы занятости, в результате чего они станут плательщиками соответствующих налогов и страховых взносов и получат соответствующие гарантии и социальную защиту.
Помимо правовой неурегулированности неформальная занятость представляет социальную проблему, поскольку характеризуется дефицитом достойного труда и высокой бедностью работающих. Научные исследования свидетельствуют, что риску бедности в большей степени подвержены работники неформальной экономики, чем работники формальной экономики3.
Программа сотрудничества между Российской Федерацией и МОТ на 2021–2024 гг., подписанная в декабре 2020 г., также в качестве целевого ориентира закрепляет содействие переходу от неформальной занятости к формальной, предполагает расширение возможностей занятости путем содействия развитию предпринимательства и расширение охвата социальной защитой работников, вовлеченных в различные формы нестандартной занятости.
Таким образом, формализация экономики – процесс, в котором заинтересованы как международные организации, так и конкретные государства. Способы перехода к формальной экономике в значительной степени зависят от национальных условий: преобладающих видов экономической деятельности, структуры рынка труда, национального законодательства и др. Формализация экономики – процесс, в котором должны быть заинтересованы все. Обществу в целом, а занятым, в частности, формализация дает рост благосостояния, экономическую стабильность, способствует равноправию, снижает уровень бедности, поддерживает социальную стабильность. Формализация же предприятий и иных экономических субъектов за счет роста производительности и расширения доступа к рынкам сбыта повышает их конкурентоспособность. Безусловно, в формализации экономики в большей степени заинтересовано государство, которое увеличит поступления в виде налогов как на бизнес, так и на доходы физических лиц. Но фискальный интерес не должен доминировать, ведь если не будет достигнут баланс интересов между работающим населением, работодателями (или теми, кто использует труд) и государством, не будут выработаны гарантии безопасных условий осуществления трудовой деятельности и социальной защиты всех занятых, общество будет искать все новые и новые способы занятости в неформальной экономике, а государство, в свою очередь, при помощи права будет стараться вывести эти отношения в формальный сектор. А. Н. Савенков справедливо указывает, что стремление достичь законопослушания через рост ограничений и обязанностей приводит к отказу людей находиться в правовой сфере, связи с государством4, что, по сути, является одной из главных причин существования неформальной экономики.
Роль трудового права в снижении неформальной занятости
Одним из проявлений неформальной экономики является неформальная занятость – численность неформальных рабочих мест, занятых работниками и нанимателями на собственных предприятиях неформального сектора; помогающими членами семьи; наемными работниками на неформальных рабочих местах; членами неформальных производственных кооперативов; самозанятыми работниками, производящими товары исключительно для собственного потребления и использования их домашними хозяйствами5.
Если индустриальному укладу общества, ориентированному на промышленное производство, была присуща формальная (стандартная) занятость, то с переходом к постиндустриальному технологическому укладу, характеризующемуся распространением информационных технологий6, неформальная занятость стала рассматриваться не как сфера деятельности низкоквалифицированных работников, а как альтернативный вариант хозяйствования7. Реагируя на происходящие трансформации, трудовое законодательство становится более гибким, преследует цель удержать в сфере своего действия изменяющиеся отношения и не допустить их выпадания в неформальную занятость. Так, в последние годы Трудовой кодекс РФ был дополнен главами об особенностях труда работников в малом бизнесе (гл. 481), дистанционных работников (гл. 491), заемных работников (гл. 531) и др. Вместе с тем любое отступление от стандартной (формальной) занятости должно быть оправданным. Правоведы справедливо отмечают, что последующая дифференциация правового регулирования трудовых отношений допустима только в пределах, заданных публичными началами трудового права8.
Гибкость трудового законодательства проявляется и в предоставлении законодателем возможности переквалификации отношений по поводу выполнения работ и оказания услуг физическими лицами на основании гражданско-правовых договоров в трудовые отношения, а также скрытой занятости (фактическое осуществление трудовой функции без оформления трудового договора) в трудовые отношения, что позволяет предоставить работникам гарантии, предусмотренные трудовым законодательством и охватить обязательным социальным страхованием. В этой связи нельзя не согласиться с предложением такой модификации трудового права, чтобы его предмет распространялся на любые отношения с применением несамостоятельного труда9.
Достаточно широко обсуждается российским научным сообществом такой вид нестандартной занятости как «платформенная занятость», нормативное определение которой пока отсутствует. Фактически функции работодателя выполняет интернет-платформа, основной «производственной деятельностью» которой является предоставление площадки для взаимодействия получателей услуг с лицами, оказывающими услуги.
Полагаем, что используя возможности трудового права, физическим лицам, оказывающим услуги с использованием платформы, должны быть предоставлены минимальные трудоправовые гарантии согласно сформированной в ХХ в. теории социального трудового права в случае, если фактически складывающиеся отношения обладают признаками трудовых: личным, организационным и имущественным, а также доход, полученный посредством «платформы» является единственным и (или) основным источником существования этого лица (и его семьи). Это лицо, как более слабое по сравнению с платформой, экономически и организационно зависит от нее, не обладая трудоправовыми гарантиями, в любой момент может быть лишено источника дохода, а учитывая резкий рост числа «платформенных занятых», спровоцированный коронавирусом, возрастает риск финансовой нагрузки на государство (например, обращение в службу занятости за назначением пособия по безработице и т. д.), переход их в сферу «теневой» экономики и иные неблагоприятные социально-экономические последствия. И тем не менее, полагаем, что в будущем будет наблюдаться рост числа «платформенных» занятых, поскольку такая занятость имеет преимущества: позволяет самостоятельно определять режим работы, ее объем, допускает на рынок труда лиц, испытывающих трудности в поиске работы (лиц с семейными обязанностями, инвалидов, мигрантов и т. п.), что позволяет сократить теневой сектор экономики.
Эксперты отмечают неоднородность неформальной занятости и влияние на нее таких факторов, как возраст; пол; уровень образования; проживание в селе или городе; вид экономической деятельности10. Считаем, что предпосылкой расширения неформальной занятости является недостаточная гибкость рынка труда, а именно ограничение предложений формальных рабочих мест, что особенно актуально для лиц, перманентно испытывающих трудности с трудоустройством: выпускники образовательных учреждений, лица с семейными обязанностями, предпенсионеры и пенсионеры и т. п.
Несмотря на предпринятые государством усилия, направленные на организацию профессионального обучения, дополнительного профессионального образования предпенсионеров, ситуация за последние годы на рынке труда не изменилась. Как представляется, обучение профессиям в рамках указанных мероприятий 11 не принесло желаемого эффекта по следующим причинам. Во-первых, перечни профессий включали рабочие профессии, для работы по которым требуется соответствующее состояние здоровья: охранник, электромонтер, монтер пути, арматурщик и т. п. С возрастом состояние здоровья, как правило, ухудшается, а условия труда для большинства профессий преимущественно вредные, что предполагало прохождение предварительного медицинского осмотра для оценки пригодности кандидата для выполнения указанных работ, поэтому большинство предпенсионеров, прошедших обучение, фактически не были трудоустроены. Во-вторых, указанные перечни предполагали обучение по профессиям, требующим навыков уверенного пользователя персонального компьютера, а также иных «цифровых» компетенций, которыми предпенсионеры, как правило, не обладают: специалист по закупкам, специалист по графическому дизайну, основы кибербезопасности и т. п.
Ныне реализуется федеральный проект «Содействие занятости»12, предполагающий обучение граждан в возрасте 50 лет и старше, одним из условий зачисления на обучение является владение навыками пользователя персонального компьютера. Полагаем, что ситуация кардинально не изменится, граждане указанной возрастной группы не будут активно пользоваться предоставленной возможностью по причине отсутствия необходимого для зачисления уровня владения компьютерной техникой.
Неформальная занятость наиболее распространена среди лиц до 30 лет в связи с отсутствием у них необходимых компетенций, что имеет негативный социальный эффект – формирует толерантное отношение к такой занятости и может оказывать существенное влияние на дальнейшее поведение работников, расширяя тем самым сферу распространения неформальной занятости.
По нашему мнению, с целью сокращения числа молодежи среди неформально занятых предпочтительна ориентация системы образования на актуальные потребности экономики с тем, чтобы граждане получали необходимый уровень образования и еще в процессе обучения приобретали необходимые компетенции и могли «нарабатывать» стаж, поскольку основной причиной, по которой молодежь не востребована работодателями – отсутствие опыта и стажа работы. Возможно и возрождение системы «ведомственных» вузов и ссузов с тем, чтобы подготовка будущих работников производилась с учетом потребностей конкретных производств. Государство также может возобновить опыт централизованного распределения выпускников13. В Государственную Думу неоднократно вносились законопроекты, которые предлагали закрепить обязанность студентов-бюджетников отработать после обучения либо возместить стоимость обучения в соответствующий бюджет14, однако введение подобной нормы невозможно, поскольку нарушит конституционное право граждан на получение бесплатного высшего образования, гарантированное ст. 43 Конституции РФ.
Таким образом, защитная (социальная) функция трудового права находит свою реализацию в вовлечении в правовое поле неурегулированных форм труда, а также в проведении государственной политики в сфере занятости населения с учетом типичных проявлений неформальной занятости и особенностей лиц ей охваченных. Полагаем, что дальнейшее правовое регулирование должно затронуть формы занятости, считающиеся неформальными, но фактически представляющие собой отношения, обладающие признаками трудовых. Этот «дефект» пытается нивелировать судебная практика15, формирующаяся как результат «расширительного толкования» доктрины единого трудового правоотношения, сформированного в прошлом веке16, что в условиях перехода к новым технологическим укладам может привести к сокращению числа необходимых и достаточных признаков для квалификации отношений в качестве трудовых17. Судебная практика, «становясь на защиту» экономически слабой стороны правоотношений, реализуя гуманистические, справедливые начала, фактически становится источником права18, закрывая пробел в законодательном регулировании трудовых отношений.
В Российской Федерации проблема неформальной занятости решается средствами не только трудового, но и предпринимательского, и налогового законодательства. Примером перевода неформальной занятости в формальную экономику, предполагающую налогообложение получаемых экономически активным населением доходов от занятости, служит введение в российское законодательство категории самозанятых граждан в качестве плательщиков налога на профессиональный доход19. Этот режим введен в качестве эксперимента до 31 декабря 2028 г. С одной стороны, регистрация в качестве самозанятого позволила людям легализовать свои доходы и «выйти из тени», с другой – работодатели стали активно использовать эту возможность в своих интересах, предлагая своим работникам оформить статус самозанятых и арендовать рабочее место на территории работодателя20. Конечно же, такой de jure самозанятый de faсto находится в полной организационной и имущественной зависимости от работодателя и мало чем отличается от работника, только не попадает под действие трудового законодательства и предусмотренных им гарантий и не подлежит обязательному социальному страхованию как наемный работник.
Следует отметить и стратегическую направленность законодательства о занятости на развитие предпринимательства и самозанятости. В настоящее время безработным гражданам центрами занятости оказывается услуга содействия началу осуществления предпринимательской деятельности21. Инструментом стимулирования регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (далее – ИП) или самозанятого либо создания и регистрации юридического лица выступает единовременная финансовая помощь на развитие собственного бизнеса, размер и порядок предоставления которой определяется законодательством субъектов Российской Федерации.
Далее рассмотрим, как тот или иной правовой статус экономически активного населения определяет уровень социальной защиты граждан.
Содействие права социального обеспечения переходу к формальной экономике
Неформальная занятость требует пересмотра подходов в организации социального обеспечения работников, которые были выработаны с учетом формальной занятости большей части экономически активного населения на производстве в течении полного рабочего дня. Изменения в структуре занятости населения, несомненно, влияют на право социального обеспечения, оно должно приспосабливаться к тому, что среди экономически активного населения сокращается доля наемных работников, растет число самозанятых, существует неполная и нелегальная занятость22.
Новые формы занятости требуют новых подходов к организации социального обеспечения. Векторы развития законодательства задают нормы международного права23, которые предусматривают вовлечение в круг субъектов социально-обеспечительных отношений лиц, занятых как в формальной, так и в неформальной экономике. На основе анализа международных актов исследователи приходят к выводу, что право на социальное обеспечение, включая социальное страхование, есть основополагающее право человека, которое не должно зависеть от того, в каком секторе экономики он работает24.
Экономическая природа социального обеспечения и его распределительный характер предопределяет способ его финансирования и правовую форму организации социального обеспечения определенной категории населения. В арсенале такой отрасли как право социального обеспечения есть две основные организационные формы – государственное социальное обеспечение и обязательное социальное страхование. Порассуждаем о возможности и целесообразности их применения к экономически активному населению.
- Обязательное социальное страхование как результат баланса интересов работодателей, работников и государства по общему правилу охватывает работников и лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, а также может распространяться на других лиц при уплате ими или за них страховых взносов. Наряду с работниками к застрахованным лицам законодатель относит физических лиц, работающих по гражданско-правовому договору; лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой (ИП, адвокатов и др.); плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых). Значит, первичные правовые статусы лиц в сфере занятости используются законодателем для целей обязательного социального страхования, а лица, не имеющие такого статуса, обязательным социальным страхованием не охвачены, что свидетельствует о значимости создания правового поля для решения проблемы неформальной занятости.
Вместе с тем в плоскости отраслевых правовых решений лежит ряд вопросов. Какими именно видами обязательного социального страхования будет охвачен занятый? Будет ли объем прав в области социального обеспечения соответствовать тому, которым наделен наемный работник, являющийся застрахованным лицом во всех видах обязательного социального страхования (пенсионном, медицинском, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством)? Допустимы ли вообще различия между ними?
Отвечая на вопрос о возможности дифференцированного подхода к охвату обязательным социальным страхованием занятых граждан, обратимся к Рекомендации МОТ от 12 мая 1944 г. № 67 «Об обеспечении дохода», которая говорит о двух категориях занятых – “persons employed for remuneration” и “self-employed persons”. Первая – наемные работники должны подлежать всем видам обязательного социального страхования. Второй категории по терминологии российского законодателя соответствуют ИП, которые на тех же условиях, что и наемные работники, должны страховаться на случай инвалидности, старости и смерти, а также могут охватываться страхованием на случай болезни и материнства. Следовательно, дифференциация допустима и осуществляется национальным законодателем.
Рассмотрим подробнее, как организовано вовлечение в обязательное социальное страхование различных категорий занятых.
Что касается физических лиц, выполняющих работы или оказывающих услуги на основании договоров гражданско-правового характера, то их статус в сфере обязательного социального страхования максимально сближается с наемными работниками. Еще недавно исполнители по договорам оказания услуг и подрядчики были охвачены только обязательным пенсионным и медицинским страхованием, что делало заключение таких договоров для заказчика более «выгодным», чем найм работника. Но законодатель обратил внимание на частую подмену одних правоотношений другими и свел к минимуму имеющиеся различия путем распространения на лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера, с 1 января 2023 г. обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством гражданско-правового характера25, обязав уплачивать страховые взносы заказчиков.
Законодательством предусмотрена обязанность ИП и приравненных к этой категории граждан платить взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование и право добровольного вступления в отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Таким образом, подход к вовлечению в обязательное социальное страхование ИП отличен от применяемого к наемному работнику, здесь правовое регулирование являет собой компромисс между необходимостью организовать социальную защиту этой категории граждан и учетом свободы хозяйственной деятельности.
Иначе обстоит дело с самозанятыми, правовой статус которых больше тяготеет к ИП, чем к наемным работникам. Хотя стоит отметить, неоднородность этой категории и разную степень (организационной и имущественной) зависимости самозанятого от заказчика, наличие которой может сближать эти отношения с трудовыми26. Правовой статус самозанятых в обязательном социальном страховании практически ничем не наполнен: они в обязательном порядке не формируют права в системе пенсионного страхования, могут делать это только добровольно; медицинскими услугами в системе обязательного медицинского страхования пользуются, по сути, как неработающие; пока лишены возможности добровольно вступать в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, но, судя по законодательным инициативам, скоро будут наделены этим правом. Возможность добровольно застраховаться на случай материнства, вступив в систему обязательного социального страхования, исключена. Таким образом, в правовом регулировании преобладает фискальный интерес государства – наполнение казны за счет налогов, но отсутствует какая-либо гарантированность предоставлений в системе обязательного социального страхования, если самозанятый добровольно не вступил в соответствующие правоотношения.
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что российский законодатель делает ставку на расширение круга застрахованных лиц в системе обязательного социального страхования, комбинируя как обязательное, так и добровольное участие в уже организованной системе, и в зависимости от правового статуса варьирует ставки страховых взносов. Вместе с тем обязательность уплаты страховых взносов в сочетании с их высокими размерами выступают причиной «теневых» процессов, когда декларируется не весь доход, а только его часть, попадающая в поле зрения фискальных органов, с которой исчисляются и уплачиваются налоги и страховые взносы. В свою очередь, уплата страховых взносов на добровольных началах либо вообще не производится, поскольку это уменьшает доход застрахованного, либо обуславливается предварительным сопоставлением суммы страховых взносов, подлежащих уплате, и размером ожидаемого к получению пособия, что в итоге влечет злоупотребление правом на социальное обеспечение.
Специалисты подчеркивают, что главная функция обязательного социального страхования – обеспечение достаточно высокого, привилегированного уровня социальной защиты застрахованных и их семей27. Традиционно уровень обеспечения в этой системе выше, чем в системе государственной социальной помощи, поскольку в ней страховые выплаты (пенсии, пособия и др.) замещают утраченный заработок и увеличиваются в зависимости от продолжительности страхового стажа работника.
Как же обстоит дело с охватом социальным обеспечением неформально занятых лиц, не имеющих легального статуса в сфере занятости? При том, что расширение охвата населения социальным обеспечением является одним из ключевых направлений развития социальной защиты в мире, разные государства по-разному решают проблемы охвата населения социальным обеспечением, определяя стратегические приоритеты28.
- Можно охватить занятых в неформальной экономике финансируемым из бюджетных средств социальным обеспечением, которое адресовано всем, как правило, вне связи с трудом. В последние годы в России увеличиваются масштабы предоставления адресной социальной помощи, которая предоставляется не только при наступлении определенного риска (старости, инвалидности и др.), а при условии низкого дохода потенциального получателя. Примерами адресной поддержки являются выплаты семьям с детьми, в которых размер дохода на человека не выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации29.
В рамках государственной социальной помощи охват, как правило, осуществляется не за счет предоставления социального обеспечения занятому в неформальной экономике, а косвенно – через других членов семьи. Получение выплат обусловлено подтверждением доходов либо определенного правового статуса (например, безработного), это требование так же способствует легализации занятости. При этом выплаты не замешают утраченный заработок (доход), получателям гарантируется только минимальный уровень обеспечения, как правило, в размере прожиточного минимума.
Не умаляя значимость мер социальной помощи для малоимущих граждан, полагаем для экономически активного населения их нужно рассматривать как дополнение к социальному страхованию в случае низких размеров дохода или страхового возмещения. Зарубежные исследователи приводят доводы, подтверждающие, что вовлекать в социальное обеспечение нужно, в первую очередь, тех работников неформальной экономики, кто может внести свой вклад в собственное страхование30.
Некоторые государства, столкнувшиеся с проблемой неформальной занятости, стали легализовывать новые формы занятости и организовывать социальное обеспечение новыми способами31. Например, в Индии предполагается создание фондов социального обеспечения, которые будут наполняться центральным правительством, правительствами штатов и платформами. Взнос платформы устанавливается правительством в пределах 1–2% от годового оборота платформы, и не должен превышать 5% от выплат работникам платформ32.
Заключение
Переход от неформальной экономики, одним из проявлений которой является неформальная занятость, к формальной является стратегическим ориентиром государственной политики.
Пытаясь решить проблему неформальной занятости, законодатель вовлекает в сферу действия трудового законодательства ранее неурегулированные формы труда. Не менее важно проведение государственной политики в сфере занятости населения с учетом типичных проявлений неформальной занятости и особенностей лиц ей охваченных. Полагаем, что дальнейшее правовое регулирование должно затронуть формы занятости, считающиеся неформальными, но фактически представляющие собой отношения, обладающие признаками трудовых, в частности, платформенную занятость.
Для организации социального обеспечения занятых в неформальной экономике законодатель использует механизмы – обязательного социального страхования и государственного социального обеспечения, в частности государственной социальной помощи. При этом законодательство об обязательном социальном страховании опирается на первичные правовые статусы лица в сфере занятости и делает ставку на расширение круга застрахованных лиц в системе обязательного социального страхования, комбинируя как обязательное, так и добровольное участие в уже организованной системе, и в зависимости от правового статуса варьирует ставки страховых взносов. Неформально занятые лица, не имеющие легального статуса в сфере занятости, как правило, могут рассчитывать только на помощь в связи с малообеспеченностью, что не компенсирует утраченный доход, поэтому законодателю необходимо вовлекать таких лиц в систему социального страхования либо искать иные способы социальной защиты, в частности, в отношении занятых на онлайн-платформах.
1 Переход от неформальной экономики к формальной: теория изменений. Geneva, 2021.
2 Для обозначения видов деятельности, которые воспринимаются как часть неформальной экономики, в литературе используются следующие термины: «“нетипичный”, “наличные в кассе”, “скрытый”, “нерегулярный”, “невидимый”, “теневой”, “необъявленный”, “подпольный” и “нерегулируемый”» (см.: Williams C. C., Martinez A. Do small business start-ups test-trade in the informal economy? Evidence from a UK survey // International Journal of Entrepreneurship and Small Business. 2014. Vol. 22. No. 1. Pp. 21–26).
3 См.: Combating poverty and inequality: Structural change, social policy and politics. Geneva, 2010. URL: https://www.bristol.ac.uk/poverty/downloads/keyofficialdocuments/UNRISD%20Combating%20Poverty.pdf; Всемирный банк: Доклад о мировом развитии: Занятость. Вашингтон, ОК, 2013.
4 См.: Савенков А. Н. Государство и право в период кризиса современной цивилизации. М., 2020. С. 320.
5 См.: Hussmanns R. Measuring the Informal Economy: From Employment in the Informal Sector to Informal Employment // Bureau of Statistics Working Paper. 2004. No. 53.Geneva: International Labour Office.
6 См.: Пашенцев Д. А., Залоило М. В., Дорская А. А. Смена технологических укладов и правовое развитие России. М., 2022. С. 21, 22.
7 См.: Нуреев Р. М., Ахмадеев Д. Р. Классификация неформальной занятости и методы ее оценки // Пространство экономики. 2015. № 1. С. 14–29.
8 См.: Лушников А. М. Юридическая конструкция «гибкобильности» трудовых отношений как ответ на вызовы XXI века // Юрид. техника. 2013. № 7–2. С. 427–431.
9 См.: Чуча С. Ю. Теория трудовых правоотношений в сфере трансформации парадигмы трудового права // Трансформация парадигмы трудового права в постиндустриальном информационном обществе: сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф. (10–11 марта 2022 г.) / отв. ред. С. Ю. Чуча. М., 2022. С. 207, 208.
10 См.: Women and men in the informal economy: a statistical picture. 3rd ed. Geneva, 2018.
11 См.: письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.02.2019 № 16-2/10/П-770 «О направлении Типовых рекомендаций по реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года, составлению перечней наиболее востребованных и приоритетных профессий на региональных рынках труда для обучения граждан предпенсионного возраста» // В официальных источниках опубликовано не было.
12 См.: постановление Правительства РФ от 27.05.2021 № 800 «О реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года» // СЗ РФ. 2021. № 23, ст. 4049.
13 См.: Сафонов А. А. Плюсы и минусы обязательного государственного распределения выпускников-бюджетников на работу по специальности: дискуссия экспертов // Экономика труда. 2015. № 2 (3). С. 167–182.
14 См., напр.: Принудительного распределения выпускников не будет. URL: https://www.pnp.ru/social/prinuditelnogoraspredeleniya-vypusknikov-vuzov-ne-budet.html?ysclid=lhkhu7f 9su946750078 (дата обращения: 12.05.2023).
15 См.: Чуча С. Ю. Правовое регулирование дистанционной (удаленной) работы: вопросы теории и практики // Государство и право. 2021. № 4. С. 155–160.
16 См., напр.: Александров Н. Г. Трудовое правоотношение. М., 1948; Гинзбург Л. Я. Социалистическое трудовое правоотношение. М., 1977; Смирнов О. В. Концепция единого трудового правоотношения // Вопросы теории государства и права и трудового права: сб. науч. тр. ВЮЗИ. М., 1988. C. 60–68.
17 См.: Чуча С. Ю. Правоприменение в условиях трансформации сферы труда и модернизации теории трудовых правоотношений // Правоприменение. 2022. Т. 6. № 4. С. 308.
18 См.: Загоруйко К. Ф. 98.04.006–010. Судебная практика как источник права / Лившиц Р. З., Жуйков В. М., Иванов С. А. и др. М., 1997 (Сер.: Новое в юридической науке и практике / отв. ред. Б. Н. Топорнин) (сводный реферат) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4: Государство и право. М., 1998. С. 27, 28.
19 См.: Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима “Налог на профессиональный доход”» // СЗ РФ. 2018. № 49 (ч. I), ст. 7494.
20 См.: Богушевский Р. Работодатели начали оформлять сотрудников как самозанятых // Daily Storm. 2019. January 9.
21 См.: приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.04.2022 № 275н «Об утверждении Стандарта деятельности осуществлению полномочия в сфере занятости населения по оказанию государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход» // В официальных источниках опубликован не был.
22 См.: Васильева Ю. В., Шуралева С. В. К вопросу о становлении и современном состоянии парадигм российского трудового права и права социального обеспечения // Вестник Пермского ун-та. Юридические науки. 2018. Вып. 41. C. 454–477. DOI: 10.17072/1995-4190-2018-41-454-477
23 См.: Рекомендация МОТ от 12.06.2015 № 204 «О переходе от неформальной экономики к формальной»; Рекомендация МОТ от 14.06.2012 № 202 «О минимальных уровнях социальной защиты».
24 См.: Smit N., Mpedi L. G. Social protection for developing countries: Can social insurance be more relevant for those working in the informal economy? // Law, Democracy & Development. Vol. 14 (2010). Р. 171. DOI:10.4314/ldd.v14i1.4
25 См.: Федеральный закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с. 9) // СЗ РФ. 2022. № 29 (ч. I), ст. 5204.
26 См.: Информация ФНС России «Гражданско-правовые договоры между работодателями и самозанятыми могут быть переквалифицированы в трудовые» // В официальных источниках опубликована не была.
27 См.: Захаров М. Л. Социальное страхование в России: прошлое, настоящее и перспективы развития (трудовые пенсии, пособия, выплаты пострадавшим на производстве). М., 2013. С. 46.
28 См.: Guseva T., Klepalova J. Harnessing the Power of Labour Law and Social Security Law to Achieve the Goal of Formalizing Labour Markets in the BRICS Countries // BRICS Law Journal. 2022. No. 9 (2). Рp. 94–120.
29 См.: Федеральный закон от 21.11.2022 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственных пособиях гражданам, имеющим детей”» // СЗ РФ. 2022. № 48, ст. 8322.
30 См.: Van Ginneken W. Extending social security: Policies for developing countries // ESS Paper. 2003. No. 13.
31 См. об этом, напр.: Галузо В. Н. От экономического анализа социальных явлений в зарубежных государствах к «экономике права» в Российской Федерации // Право и государство: теория и практика. 2016. № 12. С. 81–85.
32 См.: Shekhar D. Why the Code on Social Security, 2020, misses the real issues gig workers face // Forbes India. 2020. URL: https://www.forbe-sindia.com/article/take-one-big-story-of-the-day/ why-the-code-on-social-security-2020-misses-the-real-issues-gigworkers-face/63457/1
Авторлар туралы
Tatiana Guseva
Тhe North-West Branch of Russian state University of justice
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: tanya1931@rambler.ru
PhD in Law, Professor of the Department of Civil Law
Ресей, Saint-PetersburgYuliya Klepalova
Тhe North-West Branch of Russian state University of justice
Email: klepalova.yulia@yandex.ru
PhD in Law, Associate Professor of the Department of Civil Law
Ресей, Saint-PetersburgӘдебиет тізімі
- Aleksandrov N. G. Labor relations. M., 1948 (in Russ.).
- Bogushevsky R. Employers began to register employees as self-employed // Daily Storm. 2019. January 9 (in Russ.).
- Vasilyeva Yu. V., Shuraleva S. V. On the question of the formation and current state of the paradigms of Russian Labor Law and Social Security Law // Herald of the Perm University. Legal sciences. 2018. Iss. 41. Pp. 454–477. doi: 10.17072/1995-4190-2018-41-454-477 (in Russ.).
- World Bank: World Development Report: Busyness. Washington, OK, 2013 (in Russ.).
- Galuzo V. N. From the economic analysis of social phenomena in foreign countries to the “economics of law” in the Russian Federation // Law and the State: Theory and Practice. 2016. No. 12. Pp. 81–85 (in Russ.).
- Ginzburg L.Ya. Socialist labor relations. M., 1977 (in Russ.).
- Zagoruiko K. F. 98.04.006–010. Judicial practice as a source of law / Livshits R. Z., Zhuikov V. M., Ivanov S. A. et al. M., 1997 (Ser.: New in legal science and practice / ed. by B. N. Topornin) (summary abstract) // Social and Humani-tarian Sciences. Domestic and foreign literature. Ser. 4: State and Law. M., 1998. Pp. 27, 28 (in Russ.).
- Zakharov M. L. Social insurance in Russia: past, present and development prospects (labor pensions, benefits, payments to victims at work). M., 2013. P. 46 (in Russ.).
- Lushnikov A. M. The legal construction of the “flexibility” of labor relations as a response to the challenges of the XXI century. 2013. No. 7–2. Pp. 427–431 (in Russ.).
- Nureyev R. M., Akhmadeev D. R. Classification of informal employment and methods of its assessment // Space of economics. 2015. No. 1. Pp. 14–29 (in Russ.).
- Pashentsev D. A., Zaloilo M. V., Dorskaya A. A. Change of technological patterns and legal development of Russia. M., 2022. Pp. 21, 22 (in Russ.).
- Transition from informal economy to formal: theory of change. Geneva, 2021 (in Russ.).
- There will be no compulsory distribution of graduates. URL: https://www.pnp.ru/social/prinuditelnogo-raspredeleniya-vypusknikov-vuzov-ne-budet.html?ysclid= lhkhu7f9su946750078 (accessed: 12.05.2023) (in Russ.).
- Savenkov A. N. State and law in the period of crisis of modern civilization. M., 2020. P. 320 (in Russ.).
- Safonov A. A. Pros and cons of compulsory state distribution of state graduates to work in the specialty: expert discussion // Labor economics. 2015. No. 2 (3). Pp. 167–182 (in Russ.).
- Smirnov O. V. The concept of a single labor relationship // Questions of the theory of state and law and Labor Law: collection of scientific works. VYUZI. M., 1988. Pp. 60–68 (in Russ.).
- Chucha S. Yu. Legal regulation of remote (remote) work: issues of theory and practice // State and Law. 2021. No. 4. Pp. 155–160 (in Russ.).
- Chucha S. Yu. Law enforcement in the conditions of transformation of the sphere of labor and modernization of the theory of labor relations // Law enforcement. 2022. Vol. 6. No. 4. P. 308 (in Russ.).
- Chucha S. Yu. Theory of labor relations in the field of transformation of the paradigm of Labor Law // Transformation of the paradigm of Labor Law in the post-industrial information society: collection of scientific works. International Scientific and Practical Conference (March 10–11, 2022) / res. ed. S. Yu. Chucha. M., 2022. Pp. 207, 208 (in Russ.).
- Combating poverty and inequality: Structural change, social policy and politics. Geneva, 2010. URL: https://www.bristol.ac.uk/poverty/downloads/keyofficialdocuments/UNRISD%20Combating%20Poverty.pdf
- Guseva T., Klepalova J. Harnessing the Power of Labour Law and Social Security Law to Achieve the Goal of Formalizing Labour Markets in the BRICS Countries // BRICS Law Journal. 2022. No. 9 (2). Рp. 94–120.
- Hussmanns R. Measuring the Informal Economy: From Employment in the Informal Sector to Informal Employment // Bureau of Statistics Working Paper. 2004. No. 53. Geneva: International Labour Office.
- Shekhar D. Why the Code on Social Security, 2020, misses the real issues gig workers face // Forbes India. 2020. URL: https://www.forbe-sindia.com/article/take-one-big-story-of-the-day/why-the-code-on-social-security-2020-misses-the-real-issues-gig-workers-face/63457/1
- Smit N., Mpedi L.G. Social protection for developing countries: Can social insurance be more relevant for those working in the informal economy? // Law, Democracy & Development. Vol. 14 (2010). Р. 171. doi: 10.4314/ldd.v14i1.4
- Van Ginneken W. Extending social security: Policies for developing countries // ESS Paper. 2003. No. 13.
- Williams C. C., Martinez A. Do small business start-ups test-trade in the informal economy? Evidence from a UK survey // International Journal of Entrepreneurship and Small Business. 2014. Vol. 22. No. 1. Pp. 21–26.
- Women and men in the informal economy: a statistical picture. 3rd ed. Geneva, 2018.
Қосымша файлдар