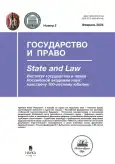Features and limits of delinquency of minors in relations of a diversified type
- Авторлар: Letova N.V.1
-
Мекемелер:
- Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences
- Шығарылым: № 2 (2024)
- Беттер: 169-177
- Бөлім: Family, marriage, law
- URL: https://journal-vniispk.ru/1026-9452/article/view/259457
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1026945224020176
- ID: 259457
Дәйексөз келтіру
Толық мәтін
Аннотация
In the article, the author examines the features of one of the elements of the legal personality of minors, their delictability, and determines its specificity in relations of a diverse type (civil, family, procedural, labor, criminal) with their participation. The author identifies the sectoral features of his delictability, due to the essential influence of his individual criteria, physical and social maturity, belonging to a special subject of responsibility and the content of industry norms defining the basis and conditions of his responsibility. The author proves that at the present stage of development of the legislation of the Russian Federation, the norms defining the responsibility of minors require regularity and systemic changes, in particular the theoretical and practical need for the allocation of so-called special torts. The article argues the conclusion about the need to take into account in tort obligations the responsibility not only of minors and their legal representatives in cases of their lack of proper performance of rights and obligations towards a minor, but also to take into account current trends in the development of legislation that allow considering the issue of reciprocal responsibility of legal representatives to minors.
Толық мәтін
Системное развитие законодательства позволяет признать, что несовершеннолетние стали активными участниками самых разных общественных отношений (гражданских, семейных, процессуальных, трудовых), что потребовало изменения их правового положения и решения сугубо теоретических проблем, связанных с определением сущности их правосубъектности, выявления особенностей ее структурных элементов, возникающих в процессе реализации разноотраслевых норм с их участием.
Традиционно правосубъектность несовершеннолетнего выражается в его правоспособности, дееспособности и деликтоспособности, практическая конкретизация содержания которых наглядно проявляется в процессе реализации норм разного вида с его участием. В самом общем представлении специфика несовершеннолетних обусловлена фактом их принадлежности к особой категории субъектов права, относимость к которой определена сущностным влиянием таких критериев, как возраст, физическое, интеллектуальное развитие, социальная зрелость, определяющие особенности их правового положения и возможности участия в разных отношениях. Данные критерии определяют специфику правосубъектности несовершеннолетних, отдельные элементы которой «несут на себе» их воздействие, функциональное назначение которых наглядно проявляется при определении особенностей их деликтоспособности.
Сложности, связанные с правоприменением норм, направленных на регулирование отношений с участием несовершеннолетних, нередко возникают в связи с острой потребностью определения точных границ и условий применения к ним норм об ответственности, которые, в свою очередь, требуют упорядоченности на практике, что позволит точнее выявить специфику деликтоспособности несовершеннолетних1.
Проблемы определения деликтоспособности несовершеннолетних не утрачивают актуальности, поскольку требуют концептуально новых решений, направленных на соблюдение баланса публичных и частных интересов, определяющих взаимосвязь потребностей государства и личности на практике, что позволит создать реальные механизмы их взаимной ответственности по отношению друг к другу.
Известно, что деликтоспособность представляет собой способность лица самостоятельно нести ответственность за свои действия или бездействие, в результате совершения или несовершения которых был причинен вред. Деликтоспособность, являясь одним из элементов правосубъектности несовершеннолетнего, напрямую взаимосвязана с другим ее элементом – дееспособностью2. Практически это означает, что возможность участия несовершеннолетнего в отношениях в качестве полноценного субъекта зависит от уровня его физической, интеллектуальной, социальной зрелости, которая позволяет определить виды действий, поступков, которые он имеет право совершать по закону и, самое главное, осознавать порождаемые ими последствия. Важно, что «степень осознанности» своего поведения в полной мере распространяется на ситуации, когда действия несовершеннолетнего квалифицируются как противоправные, не отвечающие требованиям закона, и, как следствие, свидетельствуют о возможности наступления для него ответственности.
Принимая во внимание особенности правового положения несовершеннолетнего, дееспособность которого ограничена законом и зависит от его принадлежности к той или иной возрастной группе (малолетние, несовершеннолетние), это необходимо учитывать и в процессе реализации разноотраслевых норм с их участием (гражданские, семейные, трудовые3, процессуальные, административные4, уголовные).
Полагаем, что своеобразие деликтоспособности несовершеннолетнего проявляется с учетом отраслевого влияния норм с его участием на ее содержание. Например, гражданская деликтоспособность отличается от семейной или уголовной, а такой видовой критерий, как возраст несовершеннолетнего, может рассматриваться как межотраслевой, сущностное влияние которого проявляется в процессе реализации разноотраслевых норм, определяющих специфику его деликтоспособности. В этой связи, несмотря на то что термин «деликтоспособность» является единым применительно ко всем субъектам права, в отношении несовершеннолетних его можно признать специальным, поскольку особенность субъекта, «деликвента», привлекаемого к ответственности, наглядно проявляется в том числе и в специфике его противоправного поведения, наименование и сущность которого определяется отраслевыми нормами (гражданско-правовой деликт, семейная ответственность, административное правонарушение, преступление).
Теоретические и практические сложности, связанные с определением сущности деликтоспособности несовершеннолетнего обусловлены, с одной стороны, законодательным признанием за ним частичной, неполной дееспособности, а значит, формальными ограничениями его деликтоспособности и объективной невозможности применения к нему мер ответственности наравне с полностью дееспособными субъектами. С другой – государство не может занимать индифферентное положение по отношению к случаям противоправного поведения несовершеннолетних, оставив вне пределов правового регулирования вопросы их ответственности перед гражданами и обществом. В этом смысле перед законодателем стоит непростая задача одновременно учесть специфику самого субъекта, его возраст и, как следствие, отсутствие у него полноценной физической, интеллектуальной, социальной зрелости, которая, соответственно, не может быть сопоставима с совершеннолетним, и не допустить ситуаций, связанных с исключением его ответственности только по формальным основаниям5. Так, практике известны случаи причинения несовершеннолетними не только вреда в рамках гражданских отношений, но и совершения ими преступлений, жестоких по своей сути и тяжких по последствиям, когда принадлежность таких «малолетних преступников» к определенной возрастной группе, недостижение ими определенного возраста, не позволяет на практике привлечь их к уголовной ответственности. Вместе с тем известны и другие случаи, когда взрослые умышленно вовлекают несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ), в совершение антиобщественных действий (ст. 151-1 УК РФ), заставляют их совершать преступления, пользуясь тем, что несовершеннолетний избежит ответственности в силу своего возраста. Очевидно, что законодатель должен учитывать особенности правового положения лица, совершившего преступление, равно как и права, интересы лиц, которые пострадали в результате действий несовершеннолетнего, допуская в целях защиты их прав «отступление» от формальных оснований в исключительных случаях.
Особенность деликтоспособности несовершеннолетних в современных условиях предполагает оценку не только отраслевых их прав, но и точного определения объема и пределов ответственности за совершаемые ими правонарушения, с одновременной конкретизацией и дифференциацией условий и оснований их ответственности. Так, например, в сфере гражданских отношений, нормы Гражданского кодекса РФ, направленные на определение ответственности несовершеннолетних, реализуются через «призму» их правосубъектности, определяемой в зависимости от возраста (ст. 26, 28, 1073, 1074) и именуемой в литературе как «дефекты правосубъектности». На наш взгляд, в таких случаях точнее говорить о нормативных ограничениях, что указывает на неполную деликтоспособность по аналогии с неполной дееспособностью несовершеннолетнего, взаимосвязь и взаимообусловленность которых неопровержима и доказывает практическую потребность в выделении специальной или отраслевой деликтоспособности наряду с общей по аналогии со специальной правосубъектностью несовершеннолетнего в содержании его правового статуса.
Существующие ограничения деликтоспособности отраслевого вида являются дополнительным аргументом в пользу данного вывода, поскольку в одних отношениях несовершеннолетний может быть полностью деликтоспособен, в других – частично, но при этом он может быть одного и того же возраста и относиться к одной возрастной группе (например, права несовершеннолетних родителей, предусмотренные ст. 62 СК РФ, совпадают с отдельными правами совершеннолетних родителей, в частности права по воспитанию, защите прав и интересов ребенка (ст. 63, 64 СК РФ), при этом ст. 26 ГК РФ содержит достаточно широкий перечень сделок с участием лиц такого же возраста). Нормы Гражданского кодекса РФ и Семейного кодекса РФ также предусматривают субсидиарную ответственность во внедоговорных обязательствах, возникающих в силу закона (например, ст. 45 СК РФ, ст. 1074 ГК РФ), определяют условия ее наступления, а именно при недостаточности либо отсутствии средств у основного должника для погашения долга и, как правило, связана с виной должников (например, родителей и их несовершеннолетних детей – ст. 1074 ГК РФ).
Определение сущности деликтоспособности несовершеннолетнего в гражданских отношениях связано с деликтными обязательствами (от лат. delictum – правонарушение), обязательствами, возникающими вследствие причинения вреда, нередко отождествляемыми с деликтной ответственностью. Такие обязательства свидетельствуют о причинении вреда личности или имуществу гражданина, в результате совершенного им противоправного поведения и наличия причинной связи между действиями (бездействием) причинителя вреда и наступившими неблагоприятными последствиями. Такое поведение, как правило, является виновным, совершается в форме умысла, грубой или простой неосторожности. В случае причинения вреда несовершеннолетними оценка деликтного обязательства и условий наступления ответственности имеет свои особенности.
Своеобразие деликтов, возникающих в сфере гражданских отношений, зависит не столько от действий самого несовершеннолетнего, сколько обусловлено деятельностью (действием или бездействием) его законных представителей (родителей, опекунов, попечителей), например, когда в результате их недобросовестных действий или бездействия ребенок причинил вред. Конечно, вред причиняет сам несовершеннолетний, но предпосылкой совершения им деликта является поведение его законных представителей, в зависимости от того, насколько добросовестно они исполняли свои права и обязанности по отношению к нему. В этом смысле указанные признаки, характерные для деликтных обязательств, применяются в отношении несовершеннолетнего весьма условно, поскольку фактически причинение им вреда во многом зависит от поведения его законных представителей. В случае, если законные представители действовали умышленно, т. е. не совершали тех действий, которые они были обязаны совершать по закону (проявлять заботу о ребенке, воспитывать его, содержать – ст. 63, 64, 80 СК РФ и др.), тогда ставить вопрос о виновном поведении несовершеннолетнего представляется весьма спорным, поскольку можно говорить лишь о присутствии косвенной причинно-следственной связи между его действиями и наступившими вредоносными последствиями.
Кроме того, на практике имеет место весьма нетипичная ситуация, когда вред причинен несовершеннолетним, но отвечают его законные представители за его ненадлежащее воспитание, фактически отвечая не только за его действия, но и за несовершение тех действий, которые они обязаны были совершить в силу требований закона (ст. 65 СК РФ). Можно признать, что в качестве «ответственного субъекта» в деликтных обязательствах выступает не только несовершеннолетний, но и его законные представители (родители (усыновители), опекуны (попечители), приемные родители, патронатные воспитатели), т. е. все те лица, на попечении которых на момент причинения вреда находился несовершеннолетний.
Иными словами, можно признать, что на стороне причинителя вреда есть как минимум два субъекта (несовершеннолетний и его законный представитель), которые, по сути, выступают в деликтных обязательствах одновременно, при этом один из них восполняет недостающую дееспособность и как следствие, деликтоспособность другого в соответствующих обязательствах. В данном случае практически мы имеем дело с определенным условным «замещением» надлежащего субъекта ответственности, когда фактически законные представители, восполняя недостающий объем дееспособности и деликтоспособности, становятся ответственными лицами за причинение вреда, которое было осуществлено действиями самого несовершеннолетнего. Применение общего правила о том, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, в данном случае имеет изъятия, когда обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда, в частности на родителей несовершеннолетнего (п. 1 ст. 1064, п. 1 ст. 1073, п. 2 ст. 1074 ГК РФ). Более того, даже в случаях когда причинителя вреда и его законного представителя не связывает юридическое основание, например, его родители лишены родительских прав, они могут быть привлечены к обязанности по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним, в течение трех лет после лишения их родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления ими родительских обязанностей (ст. 1075 ГК РФ, п/п. «г» п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1)6.
Как отмечалось, в деликтных обязательствах наглядно проявляется влияние такого индивидуального критерия причинителя вреда, как его возраст, учитываемый законодателем в отраслевых нормах. Так, за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если с их стороны имело место безответственное отношение к его воспитанию и неосуществление должного надзора за ним, отсутствие к нему внимания и др. (п. 1 ст. 1073 ГК РФ; п/п. «а» п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1).
Кроме того, обязанность по возмещению вреда, причиненного малолетним (в том числе и самому себе), несут организации или лица, под присмотром которых малолетний временно находился. К таким организациям относятся образовательные, медицинские, осуществляющие надлежащий надзор за малолетним в течение всего периода его нахождения в соответствующей организации, в том числе и на закрепленной за ней территории7. В этой связи принципиально важно, что законодатель устанавливает четкие условия, при наличии которых законные представители освобождаются от ответственности, а именно если они докажут, что вред причинен не по их вине (п. 1, 3 ст. 1073 ГК РФ).
По общему правилу, ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, подлежит возмещению в полном объеме на общих основаниях самим несовершеннолетним (п. 1 ст. 1074 ГК РФ). Обязанность по возмещению вреда может быть субсидиарно возложена на его родителей (усыновителей), попечителей полностью или частично, если они не докажут, что вред возник не по их вине, – в случае отсутствия у такого несовершеннолетнего дохода или имущества, достаточного для возмещения вреда (п. 2 ст. 1074 ГК РФ; п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1). Так, вред подлежит возмещению родителями (усыновителями), попечителями, если с их стороны имело место безответственное отношение к воспитанию несовершеннолетнего и неосуществление должного надзора за ним.
Вместе с тем необходимо учитывать и иной возможный обратный «разворот» на практике, когда сам несовершеннолетний может злоупотреблять своим специальным правовым положением в ущерб интересам законных представителей, причиняя вред умышленно, осознавая, что ответственность за его действия будет возложена на его законных представителей, как лиц, допустивших упущения и просчеты в его воспитании8. Представляется, что пока такая проблема исследована недостаточно с точки зрения обеспечения защиты интересов добросовестных законных представителей несовершеннолетнего, не окажутся ли, например, родители, которые надлежащим образом исполняли свои права и обязанности по отношению к несовершеннолетнему, в более уязвимом положении в ситуации, когда несовершеннолетний систематически причиняет вред, заведомо злоупотребляя своими правами в ущерб интересам законных представителей. Иными словами, не допускает ли законодатель в соответствующих нормах некоторого «дисбаланса» в смысле возложения ответственности только на законных представителей несовершеннолетнего, что не оспаривается в целом, но не возникает ли в таких случаях нивелирования ответственности самого причинителя вреда.
В этой связи представляется, что нормы Гражданского кодекса РФ, определяющие условия и порядок ответственности несовершеннолетних, должны применяться на практике синхронно с нормами, формирующими институт родительских правоотношений, в том числе учитывая практику применения аналогичных норм в сфере международного права. Так, в отношении возмещения вреда, причиненного несовершеннолетним, на мой взгляд, целесообразно учитывать и принимать во внимание само основание, т.е. юридический факт, который связывает причинителя вреда со статусом лица, на воспитании или попечении которого он находится в момент совершения деликта (например, такое поведение родителей может стать причиной в дальнейшем для лишения родителей родительских прав (ст. 69 СК РФ), отмены усыновления (ст. 141 СК РФ), отстранения от исполнения обязанностей опекунов (попечителей), приемных родителей и др.
Такой подход позволил бы на практике точнее дифференцировать деликты, причиненные несовершеннолетним и деликты в отношении несовершеннолетних, причиненные их законными представителями. Кроме того, акцентирование внимания на отношениях, связывающих причинителя вреда и его законных представителей, позволит выявить не только их отраслевую принадлежность, но и вычленить специфику ответственности несовершеннолетнего. В этом смысле весьма привлекательной выглядит идея, предложенная отдельными авторами о выделении в качестве специального деликта в гл. 59 ГК РФ отдельной статьи, предусматривающей причинение вреда здоровью ребенка его законными представителями9.
Очевидно, что присутствие такого специального деликта в нормах гражданского права позволит выделить «особенного» субъекта ответственности, конкретизировать основания и условия деликтной ответственности несовершеннолетнего, обеспечить комплексность применения норм, направленных на обеспечение приоритетной защиты его прав.
Полагаем, что проблемы определения оснований и пределов деликтоспособности несовершеннолетних относятся к неоднозначным вопросам для теории и практики, поскольку в основном ответственность «сфокусирована» и направлена на его законных представителей. Не добавляет определенности и случаи причинения вреда малолетними, которые и вовсе не несут ответственности за свои действия (п. 3 ст. 28, 1073 ГК РФ), несмотря на то что такой ребенок может причинить вред другому лицу, например повредить чужое имущество, причинить вред здоровью другого лица, а значит, перспективы реформирования законодательства и таких норм вполне реальны. Так же, как нельзя не учитывать формирующиеся тенденции о возможном признании за детьми права привлекать своих родителей к деликтной ответственности, например, за причиненный вред здоровью, в частности, за отсутствие или недостаточность эмоциональной заботы, внимания. Очевидно, что законодательное закрепление такой обратной, т. н. «зеркальной» ответственности родителей по отношению к ребенку потребует синхронного применения и уточнения норм процессуального права10.
Наглядное проявление взаимодействия и взаимного влияния норм материального и процессуального вида – нормы, направленные на правовое регулирование причинения вреда несовершеннолетнему родителями в результате несовершения ими действий, которые они обязаны совершать по закону, в результате злоупотребления своими правами, вследствие чего ребенку был причинен вред (например, это и случаи семейного психологического насилия, повлекшего повреждение его ментального здоровья, морального состояния и др.). Как правило, такие действия или бездействие со стороны законных представителей несовершеннолетнего влекут за собой применение не только семейно-правовой ответственности в виде лишения родительских прав, отмены усыновления или отстранения опекуна от исполнения своих обязанностей, но и одновременно принятие процессуальных решений, направленных на выделение в отдельное производство и возбуждение уголовного дела в отношении таких законных представителей ребенка11. Кроме того, специфика причинения вреда несовершеннолетнему в сфере семейных отношений состоит в том, что негативные последствия могут проявляться не только в наличии т. н. прямого или реального ущерба, например непоправимый вред здоровью, но и косвенного, не столь очевидного на первый взгляд, но порождающего негативные последствия, которые могут иметь место в будущем, например, психологическое насилие в отношении ребенка повлечет за собой моральные страдания, нанесет ущерб нравственному, психологическому его развитию и пр.
Другое дело, что на практике, конечно, возникает вопрос: каким образом и на основании каких критериев можно определить размер такого вреда? Полагаем, что сложности возникают в связи с тем, что такой вред не всегда очевиден, вредоносные последствия могут проявиться не сразу, а спустя определенное время и соответственно установить между неправомерными действиями и наступившими последствиями причинно-следственную связь будет непросто, а значит, вопрос о надлежащей защите прав несовершеннолетнего остается открытым.
Принимая во внимание особенности отношений, связывающих законных представителей и несовершеннолетнего, закрепление презумпции вреда, причиненного несовершеннолетнему в нормах законодательства, будет означать его обязательную компенсацию во всех случаях, когда речь идет о совершении неправомерных действий в отношении несовершеннолетнего со стороны его законных представителей12. Так же, как необходимо исходить из презумпции виновного поведения законных представителей по отношению к несовершеннолетнему, за исключением случаев, подтверждающих причинение вреда в неадекватном состоянии, состоянии психического расстройства, иных душевных заболеваний.
Теоретическое осмысление таких решений должно сопровождаться одновременным исследованием такого субъективного основания, как вина законных представителей несовершеннолетнего, определяемая как их противоправное поведение по отношению к несовершеннолетнему13, их психическое отношение к своему противоправному поведению, неисполнение (ненадлежащее исполнение) ими своих обязанностей и причинение вреда здоровью ребенка14, т. е. должно опираться на весь комплекс их прав и обязанностей.
* * *
Изложенное позволяет сделать вывод о целесообразности изменения гл. 59 ГК РФ в части выделения специального деликта, устанавливающего ответственность законных представителей несовершеннолетнего, что позволит точнее определить пределы его деликтоспособности. Такое решение будет направлено на усиление ответственности не только лиц, ответственных за воспитание несовершеннолетнего, но и обеспечит нормативную основу для применения норм, позволяющих «дифференцировать» основания, условия, пределы ответственности и самого несовершеннолетнего.
Полагаем, что системные изменения, направленные на упорядочивание норм, устанавливающих ответственность указанных лиц, напрямую зависят от ограничений, определяющих степень разумного вмешательства государства в дела семьи, его участия в родительских отношениях с одновременным обеспечением их автономности.
В качестве базового ориентира для законодательных решений должно стать обеспечение баланса интересов не только законных представителей и несовершеннолетнего в вопросах их ответственности по отношению друг к другу, но и достижение необходимого паритета в части защиты законных прав и интересов граждан в случае причинения им вреда.
1 См.: Рузанова В. Д., Рузанова Е. В. Причинение родителями (лицами, их заменяющими) вреда здоровью их детей как самостоятельный деликт // Законы России: опыт, анализ, практика. 2022. № 4. С. 36–39; Тарасова А. Е. Правосубъектность граждан. Особенности правосубъектности несовершеннолетних, их проявления в гражданских правоотношениях. М., 2008. С. 274, 275; Илларионова Т. И. Структурные особенности некоторых деликтных обязательств. Екатеринбург, 2005. С. 17; и др.
2 Исторически нормы российского законодательства предусматривали положения об ответственности несовершеннолетних. Так, Свод законов Российской империи предусматривал гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный преступлением или проступком малолетних (ст. 653, 654), общая гражданская дееспособность в полном объеме возникала только с 17 лет (см.: Корнев И. В. Историческое развитие российского законодательства о возмещении вреда, причиненного несовершеннолетними // Журнал росс. права. 2006. № 1).
3 Так, в сфере трудового права вопрос ответственности актуален в отношении творческих работников-детей, минимальный возраст осуществления которыми трудовой деятельности не установлен. Особого внимания требуют вопросы об условиях участия в трудовой деятельности лиц в возрасте от 14 лет, совмещающих работу с обучением (ч. 3 ст. 63 ТК РФ), заключение трудового договора со спортсменом, не достигшим возраста 14 лет (ст. 3488 ТК РФ) и др. (см.: Забрамная Е. Ю. Актуальные вопросы правового регулирования труда несовершеннолетних работников // Трудовое право в России и за рубежом. 2018. № 1. С. 40–43).
4 В последнее время с завидным постоянством появляются предложения о понижении минимального возрастного порога субъекта юридической ответственности. Так, одним из проектов предлагалось привлечение к ответственности с 14-летнего возраста в «исключительных случаях» (см.: URL: http://old.duma.gov.ru/systems/law/?name=+®istration-period=82200049®istration-start).
5 В сфере уголовного права, когда речь идет об ответственности несовершеннолетних за совершенные ими преступления по общему правилу она наступает с 16 лет, хотя согласно ст. 20 УК РФ существуют преступления, ответственность за которые наступает в 14 лет (против личности, собственности и т. п.) (см.: Андрюхин Н. Г. Проблемные аспекты реализации уголовной политики в отношении несовершеннолетних // Уголовное право. 2017. № 4. С. 9).
6 См.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // Бюллетень ВС РФ. 2010. № 3.
7 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2019), утв. Президиумом Суда РФ 27.11.2019; Апелляционное определение Московского городского суда от 28.08.2015 № 3331054/2015; Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 31.01.2022 № 47КГПР2116-К6 // В официальных источниках опубликованы не были.
8 См.: Летова Н. В. Новые направления практики, направленные на реализацию прав ребенка в случае лишения, ограничения родительских прав или в случае немедленного отобрания ребенка // Права ребенка в РФ: законодательство, правоприменительная деятельность, российская наука: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Ю. Ф. Беспалов. М., 2018. С. 112.
9 См.: Рузанова В. Д., Рузанова Е. В. Гражданско-правовые и семейно-правовые механизмы защиты имущественных прав детей // Власть Закона. 2018. № 3. С. 69–77; Беспалов Ю. Ф. Некоторые проблемы осуществления, охраны и защиты прав ребенка в Российской Федерации // Права ребенка в РФ: законодательство, правоприменительная деятельность, российская наука: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Ю. Ф. Беспалов. С. 17; Артеменко Н. В., Шимбарева Н. Г. Дети – жертвы семейного насилия: ответственность за «родительские» преступления // Росс. юстиция. 2020. № 12. С. 47–51; и др.
10 Так, если при рассмотрении дела о лишении родительских прав суд обнаружит в действиях лиц признаки преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетнего, он сообщает об этом в органы дознания или предварительного следствия (см.: п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 «О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав»).
11 В семье вред является следствием систематического негативного физического и психического воздействия на ребенка. Так, «жестокое обращение с ребенком, особенно психическое насилие, характеризуется отсроченными последствиями и может проявиться во взрослой жизни» (см.: Ерохина Е. В., Филиппова Е. О. Проблемы жестокого обращения с детьми // Росс. юстиция. 2021. № 3. С. 23–25; Ильина О. Ю., Туманова Л. В. Материальные основания и процессуальные условия обеспечения интересов ребенка при рассмотрении судами дел об установлении его происхождения // Вестник Тверского гос. ун-та. Сер.: Право. 2017. № 1. С. 68).
12 Так, по одному из дел суд, несмотря на установление факта покушения ответчиком на половую неприкосновенность дочери и возбуждения в связи с этим уголовного дела, ограничился только лишением его родительских прав, оставив без внимания нравственные страдания ребенка (см.: Решение Волжского районного суда Самарской области от 23.07.2021 по делу № 2-2060/2021 // В официальных источниках опубликовано не было).
13 См.: Белякова А. М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда. М., 1986. С. 98; Илларионова Т. И. Соотношение субъективных и объективных оснований гражданско-правовой ответственности // Илларионова Т. И. Избр. труды. Екатеринбург, 2005. С. 29; Корнев И. В. Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними в зарубежном и российском праве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 14; Ершова Н. М. Вопросы семьи в гражданском праве. М., 1977. С. 150, 151; и др.
14 Отдельные авторы предлагают привлекать к ответственности родителей за вред, причиненный ребенку, рожденному в результате использования вспомогательных репродуктивных технологий (см., напр.: Богданова Е. Е. Проблемы деликтной ответственности родителей за вред, причиненный ребенку, рожденному в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ): опыт России и США // Гражданское право. 2020. № 3. С. 39–43; Karpin I. A. Choosing Disability: Preimplantation Genetic Diagnosis and Negative Enhancement // Journal of Law and Medicine. 2007. Vol. 15. No. 1. Pp. 89–103; Savulescu J. Deaf Lesbians, “Designer Disability” and the Future of Medicine (2002) 325 BMJ 771; Merle Spriggs. Lesbian Couple Create a Child Who Is Deaf Like Them // 28 J. MED. ETHICS. 2002. No. 283; Smolensky K. R. Parental Tort Liability for Direct Preimplantation Genetic Interventions: Technological Harms, the Social Model of Disability, and Questions of Identity // Arizona Legal Studies Discussion Paper No. 08–27. Nov. 2008. P. 2).
Авторлар туралы
Natalia Letova
Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: letovanv@mail.ru
Doctor of Law, Chief Researcher of the Sector of Procedural Law
Ресей, MoscowӘдебиет тізімі
- Andriukhin N. G. Problematic aspects of the implementation of criminal policy in relation to minors // Criminal Law. 2017. No. 4. P. 9 (in Russ.).
- Artemenko N. V., Shimbareva N. G. Child victims of family violence: responsibility for “parental” crimes // Russ. Justice. 2020. No. 12. Pp. 47–51 (in Russ.).
- Belyakova A. M. Civil liability for causing harm. M., 1986. P. 98 (in Russ.).
- Bespalov Yu. F. Some problems of the implementation, protection and protection of the rights of the child in the Russian Federation // The rights of the child in the Russian Federation: legislation, law enforcement, Russian science: materials of the International Scientific and Practical Conference / res. ed. Yu. F. Bespalov. M., 2018 (in Russ.).
- Bogdanova E. E. Problems tort liability of parents for harm caused to a child born as a result of the use of assisted reproductive technologies (ART): the experience of Russia and the USA // Civil Law. 2020. No. 3. Pp. 39–43 (in Russ.).
- Erokhina E. V., Filippova E. O. Problems of child abuse // Russ. Justice. 2021. No. 3. Pp. 23–25 (in Russ.).
- Ershova N. M. Family issues in Civil Law. M., 1977. Pp. 150, 151 (in Russ.).
- Zabramnaya E. Yu. Actual issues of legal regulation of labor of minor workers // Labor Law in Russia and abroad. 2018. No. 1. Pp. 40–43 (in Russ.).
- Illarionova T. I. Correlation of subjective and objective grounds of civil liability // Illarionova T. I. Selected works. Yekaterinburg, 2005. P. 29 (in Russ.).
- Illarionova T. I. Structural features of some tort obligations. Yekaterinburg, 2005. P. 17 (in Russ.).
- Ilyina O. Yu., Tumanova L. V. Material grounds and procedural conditions for ensuring the interests of a child when considering cases by courts on establishing his origin // He-rald of the Tver State University. Ser.: Law. 2017. No. 1. P. 68 (in Russ.).
- Kornev I. V. Compensation for harm caused by minors in foreign and Russian law: dis. … PhD in Law. M., 2006. P. 14 (in Russ.).
- Kornev I. V. The historical development of Russian legislation on compensation for harm caused by minors // Journal of Russ. law. 2006. No. 1 (in Russ.).
- Letova N. V. New areas of practice aimed at realizing the rights of the child in case of deprivation, restriction of parental rights or in case of immediate withdrawal of the child // The rights of the child in the Russian Federation: legislation, law enforcement, Russian science: materials of the International Scientific and Practical Conference / res. ed. Yu. F. Bespalov. M., 2018. P. 112 (in Russ.).
- Ruzanova V. D., Ruzanova E. V. Civil legal and family legal mechanisms for the protection of property rights of children // The Rule of Law. 2018. No. 3. Pp. 69–77 (in Russ.).
- Ruzanova V. D., Ruzanova E. V. Causing harm to the health of their children by parents (persons replacing them) as an independent tort // Laws of Russia: experience, analysis, practice. 2022. No. 4. Pp. 36–39 (in Russ.).
- Tarasova A. E. Legal personality of citizens. Features of the legal personality of minors, their manifestations in civil relations. M., 2008. Pp. 274, 275 (in Russ.).
- Karpin I. A. Choosing Disability: Preimplantation Genetic Diagnosis and Negative Enhancement // Journal of Law and Medicine. 2007. Vol. 15. No. 1. Pp. 89–103.
- Merle Spriggs. Lesbian Couple Create a Child Who Is Deaf Like Them // 28 J. MED. ETHICS. 2002. No. 283.
- Savulescu J. Deaf Lesbians, “Designer Disability” and the Future of Medicine (2002) 325 BMJ 771.
- Smolensky K. R. Parental Tort Liability for Direct Preimplantation Genetic Interventions: Technological Harms, the Social Model of Disability, and Questions of Identity // Arizona Legal Studies Discussion Paper No. 08–27. Nov. 2008. P. 2.
Қосымша файлдар