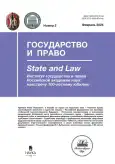«Право на смерть»? О добровольном уходе из жизни и связанных с ним обязательствах государства. Исследование на основании правоприменительной практики высших судебных инстанций ФРГ и ЕСПЧ
- Авторы: Сафоклов Ю.И.1
-
Учреждения:
- FernUniversität
- Выпуск: № 2 (2024)
- Страницы: 185-195
- Раздел: За рубежом
- URL: https://journal-vniispk.ru/1026-9452/article/view/259460
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1026945224020199
- ID: 259460
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассматривается проблематика «права на смерть» – конституционно-правовой гарантии, признающей право человека окончить собственную жизнь по своему усмотрению. Данный вопрос изначально рассматривался как оборотная сторона, своего рода негативное измерение права на жизнь (ч. 2 ст. 2 Основного закона ФРГ). Однако с течением времени акцент рассмотрения изменился; в настоящее время дискуссия ведется в контексте права на личностное самоопределение. В рамках данной статьи анализ проводится на основании правоприменительной практики высших судебных инстанций ФРГ и Европейского Суда по правам человека. Точкой соприкосновения немецких судов можно считать признание права на добровольный уход из жизни как акта индивидуального самовыражения, реализации личностного выбора. Юридическая конструкция права на личностное самоопределение предполагает установление тесной связи права на общую свободу действий (ч. 1 ст. 2 Основного закона ФРГ) с гарантией человеческого достоинства согласно ч. 1 ст. 1 Основного закона ФРГ. При этом не считается убедительным контраргумент, согласно которому признание «права на смерть» влечет за собой невозможность дальнейшей личностной самореализации и потому противоречит «жизнеутверждающему» духу Основного закона, выражающегося, в частности, в ч. 2 ст. 2, так как само осуществление желания окончить жизнь рассматривается как акт самореализации, который подпадает под конституционную защиту. Данная конституционно-правовая концепция, разработанная Конституционным судом ФРГ, разделяется и остальными высшими судебными инстанциями ФРГ, которые дополняют ее, в частности, установлением государственных обязательств по содействию лицам, желающим добровольно окончить собственную жизнь. Европейский Суд по правам человека еще не имел возможности выразить свою позицию по данной проблеме, однако тенденции развития его правоприменительной практики указывают на то, что он, скорее всего, рано или поздно присоединится к юридической линии немецких судов. Автор выявляет аргументационные недостатки основополагающих предпосылок обоснования права на добровольный уход из жизни, демонстрируя не только их внутреннюю противоречивость, но и недопустимость последствий, к которым приведет государственная поддержка суицидальных стремлений граждан.
Полный текст
Введение
«Моя жизнь принадлежит мне!» – именно под таким девизом участники одной из онлайн-петиций требовали закрепления права на добровольный уход из жизни в законодательстве ФРГ. Необходимость подобного новшества обосновывалась весьма разнообразно: страх перед мучительными заболеваниями, желание избавить родственников от обузы, стремление реализовать свое право на самоопределение1. Оживленное обсуждение темы суицида и государственного отношения к нему постепенно распространилось из общественного пространства и в правовую среду, а проблема «права на смерть» представляет собой один из наиболее спорных юридических вопросов2.
Исходным пунктом дискуссии является главенствовавшее до недавних пор представление о недопустимости самоубийства, которое могло повлечь за собой целую цепь последствий, вплоть до уголовного преследования3. Однако длительные дебаты в конце концов привели ко всеобщему признанию права человека окончить собственную жизнь4. Но хотя те препятствия, которые казались многим ограничениями личной свободы, были окончательно и бесповоротно ликвидированы, практическое осуществление желания умереть натолкнулось на определенные затруднения. Ведь в то время, как «бытовые» методы самоубийства, как правило, сопряжены с физическим дискомфортом или болью, средства получить безболезненную смерть нередко оказываются недоступными. Таким образом, в юридическом пространстве обсуждение феномена «хорошей смерти» (эвтаназии) превратилось в обсуждение вопроса об обоснованности требования оказать государственную поддержку личности, желающей собственной смерти. Государство тем самым оказывалось перед лицом движения, принципиально отрицающего физическое существование человека. Вследствие отсутствия однозначного законодательного решения вопроса взоры были устремлены в сторону судебной власти, на которую возлагались надежды по выработке юридически обоснованной и общественно приемлемой стратегии путем вынесения решений по отдельным запросам5. Суды ФРГ взялись за решение этой сложной задачи, причем наиболее бурную реакцию вызывали постановления Конституционного суда ФРГ (Bundesverfassungsgericht). Его значительная роль была в очередной раз продемонстрирована решением от 26 февраля 2020 г., в котором содержится основательный анализ проблематики права человека на добровольное оставление жизни и связанных с этим обязательств государственных органов. Не меньшим вниманием сопровождаются и решения ЕСПЧ, которому, впрочем, еще предстоит дать развернутый ответ по данному вопросу.
Целью данной статьи является выявление правовых позиций высших судебных инстанций ФРГ и ЕСПЧ в отношении права на добровольный уход из жизни. Особый интерес представляет набор используемых юридических аргументов, который выражает некоторые принципы конституционной антропологии, а также позволяет сделать ряд выводов о роли человека в системе государственного правопорядка и общегосударственных ценностей. Автор предпринимает критический анализ судебных решений по проблеме добровольного ухода из жизни и формулирует альтернативный подход к государственным обязательствам при реализации «права на самоубийство».
Анализ правоприменительной практики
1. Конституционный суд ФРГ: уход из жизни как конституционно-правовой вызов
Конституционный суд ФРГ подчеркивал высокую ценность человеческой жизни на протяжении всей своей истории, начиная с самой ранней фазы своей деятельности. Так, существование человека было объявлено им основой государственного единства, так как, по мнению Суда, государство Основного закона базируется на идее антропоцентричного миропорядка6. Отмена смертной казни в лаконично сформулированной ст. 102 Основного закона ФРГ также толковалась как основополагающее признание ценности человеческой жизни и отказ от тоталитарного использования человека для достижения «высших» целей общества, сформулированных властными элитами7. Однако данные выводы не содержали заключений о том, какое место в рамках Конституции ФРГ отведено праву на жизнь, а также как оно соотносится с другими основными правами.
Первым шагом в развитии правоприменительной практики стало решение о допустимости уголовного наказания за медицинское прерывание беременности. В ходе исследования конституционно-правовой гарантии по защите человеческой жизни Конституционный суд ФРГ постановил, что жизнь представляет собой «материальную основу человеческого достоинства и необходимое условие всех прочих основных прав»8. Таким образом, человеческая жизнь была поставлена в неразрывную связь с ч. 1 ст. 1 Основного закона ФРГ (гарантия неприкосновенности человеческого достоинства), что, как выяснилось впоследствии, имело далеко идущие последствия. С другой стороны, ч. 2 ст. 2 (право на жизнь) превратилась в базовую норму всех правовых гарантий, закрепленных в первой главе Конституции ФРГ. Постановление Конституционного суда ФРГ внесло весомый, хотя и небесспорный 9 вклад в толкование права на жизнь и послужило основой юридической аргументации в ходе последующих дискурсов о содержательном наполнении и рамках ч. 2 ст. 2. Другая формулировка из мотивировочной части постановления, которая заключала в себе значительный конфликтный потенциал уже в момент его вынесения и превратилась в настоящее «яблоко раздора» с наступлением эры всеобщей террористической угрозы и масштабной антитеррористической реакции государств, содержала запрет применения количественного метода по отношению к человеческим жизням. Этот подход имел своим частным выражением, в числе прочих, запрет жертвовать человеческими жизнями с целью спасти большее количество людей. Общий контекст постановления подразумевал недопустимость любой градации при оценке человеческих жизней10. В этой связи огромное значение имело и установление вечного действия данного запрета, который, согласно мнению судей, должен соблюдаться независимо от изменений общественного мнения11. В постановлении о несоответствии Конституции положений Закона о воздушной безопасности (Luftsicherheitsgesetz12), которые, в числе прочего, допускали уничтожение воздушно-транспортных средств, похищенных террористами, даже если в них находились мирные граждане, Конституционный суд ФРГ вновь подтвердил необходимость безусловного соблюдения права на жизнь, действие которого не зависит ни от личной ситуации правообладателя, ни от его психосоматического состояния. При этом ценность человеческой жизни была в очередной раз подкреплена ссылкой на гарантию человеческого достоинства согласно ч. 1 ст. 1 Основного закона ФРГ13.
Помимо определения ч. 2 ст. 2 как механизма по предотвращению государственных посягательств Суд также предпринял основательное исследование позитивных обязательств государства по защите человеческой жизни. По его мнению, государство должно способствовать реализации права на жизнь и защищать его от нарушений со стороны третьих лиц14. При этом в ходе конструирования конституционно-правового фундамента этих обязательств была вновь использована ссылка на гарантию человеческого достоинства15, а их выполнение было названо conditio sine qua non государственного строя16. Согласно этой точке зрения, государство не должно (и не имеет права) ждать возникновения конкретного ущерба, но обязано предпринимать профилактические меры, препятствующие возникновению рисков17. Это включает в себя, в числе прочих, обязанность создавать механизмы раннего реагирования, которые задействуются в случае даже самых абстрактных опасностей для жизни, при которых возникновение реального ущерба маловероятно или представляется вопросом отдаленного будущего18. И хотя решения Конституционного суда ФРГ в этой области касались нарушений права на физическую неприкосновенность, выводы Суда вполне применимы и в отношении права на жизнь в силу систематической и содержательной близости данных конституционно-правовых гарантий. В отдельных случаях может быть оправдано и применение защитных мер против воли находящегося в опасности человека, если он, например, не способен распознать опасность в силу каких-либо психических недостатков19. В остальном же Суд признал за государством обширную свободу усмотрения при выполнении своих защитных обязательств. Впрочем, при определенных обстоятельствах эта свобода может ограничиваться настолько, что превращается в весьма конкретную обязанность использовать наиболее действенное законодательное средство – уголовное право20.
В течение долгого времени Суду не представлялась возможность сформулировать конституционно-правовой подход к проблематике суицида. В его правоприменительной практике содержались лишь разрозненные намеки, очерчивающие каркас правовых позиций по данному вопросу. Так, в постановлении о конституционности предписания об обязательном ношении мотоциклетных шлемов Суд заключил, что ограничения конституционно гарантированной свободы действий могут быть допустимы в тех случаях, когда они имеют своей целью сохранение жизни человека, халатные действия которого превращают его в источник опасности не только для самого себя, но и для общества21. Тем самым была выражена готовность защищать жизнь даже против воли ее обладателя, если его действия могут иметь негативные последствия для окружающих. Наряду с этим выводом обнаружилась и тенденция рассматривать вопросы распоряжения человеческой жизнью и его ограничений не в рамках ч. 2 ст. 2, но в контексте права на личностное самоопределение согласно ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 1, а также права на общую свободу действий согласно ч. 1 ст. 2 Основного закона ФРГ. Данное решение Конституционного суда ФРГ послужило сигналом к выработке собственных позиций и для других немецких высших судов, которые также базируются на праве личности на самоопределение.
Постановление о закрепленном в ч. 1 ст. 217 УК ФРГ запрете профессионального содействия лицам, желающим добровольно окончить свою жизнь22, является своего рода кульминацией правоприменительной практики Конституционного суда ФРГ. Отличительной особенностью этого решения является тот факт, что вопрос о праве распоряжаться собственной жизнью затрагивает не какой-либо второстепенный аспект рассматриваемого дела, как это часто бывало в других рассмотренных Судом случаях, но представляет собой центральную проблему всего разбирательства. Позиция Суда была ясно объявлена уже в первом пункте резолютивной части решения, в котором право на добровольный уход из жизни была классифицировано как выражение права на личностное самоопределение согласно ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 1 Основного закона ФРГ. Таким образом, вопрос о вычленении тематического комплекса добровольного оставления жизни из контекста права на жизнь, по крайней мере с точки зрения Конституционного суда ФРГ, можно считать решенным. Право на самоопределение личности, которое Суд считает своего рода вспомогательным конституционно-правовым элементом, находит свое выражение в том числе в том, что человек имеет возможность распоряжаться собственным существованием в любой жизненной ситуации. Исходя из этой юридической аргументации, вывод о том, что рамки этого распорядительного права должны включать в себя и право на распоряжение собственной жизнью, представляется логически необходимым23. Решение о продолжении либо окончании собственной жизни возносится в ранг сущностного элемента человеческой идентичности и индивидуальности, одним из аспектов которого, по мнению Суда, является право на принятие решения умереть. Согласно этой концепции, право на добровольный уход из жизни выступает гарантией всеобъемлющей защиты личностного самоопределения и индивидуальной реализации24. Суд постановил, что ни состояние здоровья правообладателя, ни ожидания или убеждения третьих лиц не должны влиять на сугубо личное решение о распоряжении жизнью25. Контраргумент о том, что признание права окончить собственную жизнь противоречит гарантии человеческого достоинства, так как разрушает его «материальную основу», Суд парировал утверждением о том, что аспект личной автономии, содержащийся в тематическом комплексе человеческого достоинства, как раз и находит свое выражение в решении об окончании жизни. Таким образом, в данном случае следует говорить не о нарушении, но об активации человеческого достоинства в конкретном решении прекратить свое существование26. Понятно, что в шкале ценностей, выстроенной Судом, возможность принятия автономного решения как выражение человеческого достоинства находится выше физического существования его обладателя. Именно поэтому к государственным мерам, ограничивающим реализацию права на добровольный уход из жизни, предъявляются строгие требования27. Ограничения признаются допустимыми лишь в том случае, если они защищают индивидуальное самоопределение личности28. Напротив, государственные меры, защищающие человеческую жизнь, но препятствующие осуществлению добровольного желания умереть, не могут быть оправданы29.
2. Высший административный суд: суицид как акт самоопределения, влекущий за собой государственные обязательства
В 2017 г. Высший административный суд ФРГ (Bundesverwaltungsgericht, далее – ВАС) воспользовался жалобой на отказ от предоставления больной женщине доступа к смертельно действующему препарату, для того чтобы сформулировать собственную конституционно-правовую позицию по вопросу суицида. Мотивировка данного решения зиждется на предпосылке признания за каждой личностью права на автономное решение об окончании собственной жизни30. Смена угла рассмотрения проблемы, которая наметилась еще в правоприменительной практике Конституционного суда ФРГ и согласно которой вопрос добровольного ухода из жизни должен рассматриваться в рамках права на самоопределение согласно ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 1 Основного закона ФРГ, была последовательно претворена в жизнь. Взяв за основу уже признанное немецкими судами право на отказ от медицинского лечения, ВАС пришел к выводу, что неизлечимо больной человек имеет право самостоятельно определить время собственной смерти, опираясь на право на самоопределение, а государство не имеет права препятствовать ему в исполнении этого решения. Данная аргументация сопровождалась конкретизирующим прибавлением, согласно которому активация права на самоопределение не зависит от наступления непосредственной летальной фазы31. Необходимо отметить, что решение ВАС хотя и вызвало значительный общественный резонанс, но по сути стало лишь судебной манифестацией мнения, которое разделялось большинством экспертов по данному вопросу32.
Напротив, требования, сформулированные ВАС по отношению к государственным органам, в задачи которых входила обработка заявлений граждан на получение смертельно действующих препаратов, стали поистине революционными. Исходным пунктом аргументации стало признание отказа в предоставлении доступа нарушением, которое затрагивает сферу самоопределения пациента33. Тем самым спектр государственных обязательств 34 был расширен обязательством предоставлять требуемые препараты людям, желающим окончить свою жизнь. По примеру правоприменительной практики Конституционного суда ФРГ обоснование этой правовой позиции было укреплено с помощью привлечения конституционно-правового «супертяжеловеса» – гарантии человеческого достоинства. По мнению ВАС, из права на личностное самоопределение согласно ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 1 Основного закона ФРГ в его связи с гарантией человеческого достоинства вытекает обязанность государства уважать желание человека окончить свою жизнь, которое представляет собой выражение права на самоопределение. В случае больных и испытывающих значительную физическую боль заявителей происходит интенсификация данного обязательства, а именно замещение обязательства уважать желание умереть конкретным обязательством предоставить необходимые препараты для осуществления суицида35.
Следует отметить, что ВАС принял во внимание и конституционно-правовое обязательство государства защищать человеческую жизнь. Оно несколько раз упоминается в тексте решения и учитывается при исследовании баланса интересов в рамках анализа конституционной допустимости отказа в удовлетворении заявления на предоставление смертельно действующего препарата36. Однако судьи сочли особо значимым право на самоопределение в отношении личностей, находящихся в условиях чрезвычайной ситуации, такой как, например смертельная болезнь, вследствие чего оно превалирует над интересами по защите человеческой жизни37. Таким образом, ВАС заостряет внимание на высокой ценности свободного волеизъявления неизлечимо больных, страдающих пациентов, отвергая гипотезу об индивидуальной конституционно-правовой обязанности продолжать свою жизнь. Однако уже в кратком, но содержательно весьма интересном отступлении он отказывается от условия наличия чрезвычайной ситуации, установленного им самим несколькими абзацами ранее, и расширяет государственное обязательство по защите «права на смерть» на иные жизненные ситуации, которые им, впрочем, детально не регламентируются38. Здесь же происходит и ужесточение только что установленного государственного обязательства, так как ВАС запрещает государственным органам отказывать в удовлетворении заявлений на предоставление доступа к смертельно действующим препаратам под предлогом того, что желание заявителя может быть осуществлено в иной европейской стране, легализовавшей эвтаназию. Недопустимым признается и продолжение медицинского лечения в случае, если желание пациента окончить собственную жизнь может быть исполнено путем прекращения лечения без негативных последствий для его здоровья39.
3. Верховный суд ФРГ: желание собственной смерти как декриминализующий фактор
Палаты Верховного суда ФРГ (Bundesgerichtshof), в юрисдикцию которых входит рассмотрение уголовных дел, дали подробное толкование вопроса о не подлежащих уголовному наказанию действиях, направленных на поддержку суицида. Постановления от 3 июля 2019 г.40 представляют своего рода итог юридического анализа феномена самоубийства, осуществлявшегося в уголовно-правовой практике в течение многих лет. Принимая во внимание специфику данной материи, в качестве основополагающей предпосылки была взята идея о ненаказуемости самоубийств, следствием которой был вывод о ненаказуемости пособнических действий, направленных на умерщвление желающего собственной смерти41. В этой связи центральным фактором решения об уголовной ответственности стала воля человека, реализующего замысел о добровольном оставлении жизни, так как его самостоятельное решение («владение ситуацией» в терминологии уголовного права) имеет своим следствием ненаказуемость всех участников процесса42. Однако в случае, если человек используется как своего рода орудие для собственного уничтожения путем применения физического или психологического давления, обмана или манипуляции умственными недостатками, уголовная ответственность ложится на того, в чьих руках находятся инструменты влияния и чьими действиями в конечном счете и было вызвано самоубийство43. Тем самым достигается сопряжение правоприменительной практики Верховного суда ФРГ с Конституционным судом ФРГ и ВАС ФРГ, так как и эти высшие судебные инстанции придают определяющее значение волеизъявлению человека относительно его жизни. По мнению Верховного суда ФРГ, решение о добровольном уходе из жизни должно учитываться и в тех случаях, когда физическое и психическое состояние здоровья человека подорвано длительным заболеванием, сопровождающимся депрессиями44. Фокусировка на личном решении подкрепляется указанием на категориальное отличие действий, направленных на достижение собственной смерти, и случаев добровольного членовредительства, целью которых является лишь привлечение внимания к собственной персоне, но которые вопреки изначальному плану оканчиваются случайной смертью пострадавшего45. Так, согласно ст. 323с УК ФРГ, лица, находящиеся в непосредственной близости человека с видимыми последствиями несчастного случая, за который может быть принята попытка самоубийства, обязаны предпринять все возможные действия для оказания помощи пострадавшему46. Однако если самоубийца однозначно выражает желание окончить свою жизнь, то действие данной гражданской обязанности прекращается47.
4. Европейский Суд по правам человека: уважение общественно-культурного многообразия
Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) разъяснил свое понимание содержания и границ права на жизнь в решениях по ряду индивидуальных жалоб. Отправным пунктом изначально служила ст. 2 Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), согласно которой государства – участники Конвенции обязаны законодательно обеспечить защиту человеческой жизни. В этой связи перед ЕСПЧ несколько раз вставал вопрос о том, вытекает ли из этой статьи право граждан определять время окончания собственной жизни и как государствам-участникам следует относиться к подобным решениям. Необходимо отметить, что все без исключения решения по данной проблематике касаются случаев из сферы паллиативной медицины. Это значит, что правоприменительная практика ЕСПЧ хотя и косвенно затрагивает тематический комплекс суицида, однако, непосредственно разрешает споры из более специфической области эвтаназии.
Основа правоприменительной практики Суда была заложена решением по делу Претти против Великобритании[48]. Оно касалось заявительницы, страдающей боковым амиотрофическим склерозом, который повлек за собой практически полный паралич. Ввиду тяжелых физических ограничений и страданий она выразила желание уйти из жизни, что в ее положении, впрочем, предполагало содействие другого лица. Муж пациентки изъявил готовность способствовать осуществлению желания своей супруги, однако опасался уголовной ответственности за пособничество убийству в соответствии с уголовным законодательством Соединенного Королевства. Его заявление на предоставление иммунитета от уголовного преследования было отклонено. В ходе разбирательства обжалования отказа государственных органов ЕСПЧ постановил, что ч. 1 ст. 2 ЕКПЧ не гарантирует «право на смерть»49. Концепция «негативных свобод», которая представляет один из основополагающих элементов немецкой конституционно-правовой доктрины и применяется также и при толковании ЕКПЧ, не была задействована в отношении случаев добровольного ухода из жизни. Причиной такому подходу явилось то обстоятельство, что содержание гарантии права на жизнь было истолковано буквально, со значительным упором на текст ч. 1 ст. 2, вследствие чего ЕСПЧ не пришел к выводу о существовании индивидуальных правовых позиций, но сконцентрировался исключительно на государственном обязательстве по защите человеческой жизни50. По его мнению, в рамках индивидуальной жалобы заявитель может требовать лишь соблюдения этого обязательства, но не содействия государственных органов по прекращению собственной жизни. ЕСПЧ не предпринял шага к провозглашению «права на смерть», которое могло бы быть истолковано как выражение права на самоопределение, хотя такой вариант был вполне возможен, например, при соответствующей интерпретации права на уважение личной жизни согласно ч. 1 ст. 8 ЕКПЧ51.
В решении по делу Хаас против Швейцарии [52] обстоятельства несколько отличались, поскольку заявитель страдал не физическим, а психическим заболеванием (биполярное аффективное расстройство). После пребывания в нескольких лечебных учреждениях он принял решение прекратить собственную жизнь. Согласно его замыслу, смерть должна была быть вызвана путем принятия смертельной дозы пентобарбитала. Однако его заявление на выдачу препарата было отклонено. В обоснование своей жалобы в ЕСПЧ заявитель сослался – и именно это было новшеством по сравнению с решением по делу Претти против Великобритании – на т. н. право на достойную смерть, которое, по его мнению, содержалось в Конвенции53. После ссылки на гарантию человеческого достоинства рассмотрение дела сместилось из ст. 2 (право на жизнь) в ст. 8 (право на уважение и защиту частной жизни). При этом само понятие частной жизни толкуется расширительно и включает в себя различные аспекты физической и общественной идентификации, такие, как определение половой принадлежности, сексуальной ориентации и половой жизни54. Следуя данному подходу экстенсивной интерпретации, право на добровольный уход из жизни было квалифицировано как выражение личностной самореализации согласно ст. 8 ЕКПЧ55. Несмотря на то что пространство ст. 2 ЕКПЧ было исключено из перспективы юридического исследования дела, ЕСПЧ вернулся к ней для того, чтобы сформулировать исключение из общего правила уважать личностное волеизъявление, которое касается невменяемых и ограниченно вменяемых лиц, опираясь при этом на государственное обязательство по защите граждан от самопроизвольного членовредительства56. Из этого заключения можно было сделать вывод о принципиальной готовности ЕСПЧ признать «право на смерть», которое включало бы в себя по крайней мере обязательство уважать, если не активно поддерживать, реализацию желания уйти из жизни. Вместе с тем стремлению абсолютизировать защиту частной жизни был поставлен заслон. В решении по делу Хаас против Швейцарии, в котором вменяемость заявителя представлялась по крайней мере сомнительной, ЕСПЧ, руководствуясь принципом in dubio pro vita, отдал предпочтение интересу государственных органов по защите своих граждан от последствий скоропалительного желания умереть, вследствие чего стремлению заявителя свести счеты с жизнью надлежало остаться нереализованным57. Развивая данную правовую позицию, ЕСПЧ в решении по делу Кох против Германии установил обязанность органов государств – участников ЕКПЧ учитывать акты личностного самоопределения, которые представляют собой реализацию права на защиту частной жизни. В противном случае сам факт игнорирования индивидуального волеизъявления будет квалифицироваться как нарушение ст. 8 ЕКПЧ58.
Предметом рассмотрения в деле Ламберт и др. против Франции была обратная ситуация59. Заявители – родственники пациента, находящегося в коме, – требовали продления медицинских процедур, в то время как лечащий врач настаивал на прекращении искусственного питания в виду бесперспективности дальнейшего лечения. Таким образом, перед ЕСПЧ стояла задача принять решение по вопросу, обязаны ли государственные служащие принимать меры по сохранению жизни во всех возможных случаях или же государственное обязательство по защите человеческой жизни может при определенных условиях прекращать свое действие. Ответ был дан на основании предпосылки о значительной мере усмотрения государственных органов при выполнении ими своих обязательств. Так, в отношении сложных научных, юридических или этических проблем, касающихся вопроса окончания человеческой жизни, Конвенция не предписывает какого-либо единственно возможного решения, но допускает многообразие подходов, обусловленных культурными, общественными и этическими особенностями60. Суд установил отсутствие общеевропейского консенсуса по вопросу допустимости прекращения лечения и заключил, что каждое государство-участник Конвенции вправе как законодательно закрепить безусловную обязанность сохранять человеческую жизнь, так и отказаться от нее61. В случае, если государство допускает прерывание лечения, ЕСПЧ оставляет за собой право проверять определенность законодательных критериев, предъявляемых к принятию такого решения62. В то же время было особо подчеркнуто определяющее значение волеизъявления пациента63, вследствие чего прерывание терапии против однозначно выраженного желания пациента было объявлено абсолютно недопустимым.
Анализ мнений экспертного сообщества
Анализ решений показывает, что признание права на добровольный уход из жизни основывается на общесудебном консенсусе, причем эта точка зрения разделяется инстанциями всех правовых отраслей. Учитывая религиозно-этический фон, господствующий в обществах западноевропейских государств в настоящий момент, данная позиция скорее всего не будет подвержена пересмотру в обозримой перспективе. Высказываемое в некоторых исследованиях более раннего периода мнение о том, что суицид не заслуживает конституционно-правовой защиты и должен быть законодательно запрещен по философским, этическим и государственно-теоретическим соображениям64, считается окончательно устаревшим. Однако в юридическом сообществе проблематика добровольного ухода из жизни продолжает активно обсуждаться, причем предметом дискуссии служат не только теоретические аспекты, но и вопросы практического правоприменения. В центре научно-исследовательского интереса стоит вопрос о том, как государство должно относиться к своим гражданам, желающим собственной смерти.
1. Самоубийство как использование «негативной свободы»
Как кажется, при рассмотрении проблематики суицида в конституционно-правовом поле ч. 2 ст. 2 Основного закона ФРГ может быть легко установлена связь с т. н. «негативными свободами». Аналогии со свободой вероисповедания, свободой мнений, свободой объединений, свободой собраний и многими другими основными правами практически вынуждают признать негативное пространство свободы и в рамках права на жизнь65. Развивая эту аргументационную логику, следует признать, что если право на жизнь может быть нарушено одним единственным способом – убийством, то и в случае с его оборотной, негативной стороной возможна лишь одна опция ее реализации – отказ от жизни через добровольную смерть. Обоснование представляется столь же понятным, сколь и неопровержимым: непризнание права на самоубийство представляет собой поведенческое ограничение и, таким образом, противоречит задаче основных прав по максимальной защите и способствованию реализации личных свобод66. Следовательно, «обязанность жить» оказывается противоречащей гарантии человеческого достоинства, пронизывающей все без исключения области права. Навязывание каких-либо правовых позиций, таких как, например обязательство продолжать жизнь, в этой связи представляется действием, низводящим личность до роли объекта государственной политики, что противоречит гарантии человеческого достоинства и потому является недопустимым67.
Следует отметить, что данное мнение основывается на предположении о пересечении защитных сфер ч. 2 ст. 2 и ч. 1. ст. 1 Основного закона ФРГ. Оно коренным образом зависит от признания коррелятивной связи человеческой жизни с человеческим достоинством, которая переводит юридический анализ в плоскость ч. 1 ст. 1. Однако если последовательно придерживаться данной точки зрения, то необходимо будет сделать вывод о недопустимости любых ограничений права на жизнь. Принимая во внимание установленное «душевное родство» ч. 2 ст. 2 и ч. 1 ст. 1, с одной стороны, и неотчуждаемость человеческого достоинства – с другой, провозглашение абсолютной неприкосновенности человеческой жизни представляется логически неотвратимым68. Заключительным аккордом этого умозаключения должен стать вывод о том, что ч. 2. ст. 2 не содержит права на добровольный уход из жизни по причине ее неотчуждаемости. Тем самым, однако, достигается прямая противоположность изначально сформулированной задачи. Противоречивость данной модели выявляется и при рассмотрении «побочного эффекта» смешения конституционно-правового содержания ч. 1 ст. 1 и ч. 2 ст. 2. Если считать человеческую жизнь лишь материальным воплощением человеческого достоинства, то каждое нарушение этого права должно быть квалифицировано как опосредованное ограничение человеческого достоинства, которое, однако, не может быть признано допустимым ни при каких обстоятельствах в силу абсолютного действия ч. 1 ст. 169. О подобной «сакрализации» жизни вряд ли могут мечтать даже представители самых консервативных кругов.
Кроме того, следует подчеркнуть, что ч. 2 ст. 2 защищает человеческую жизнь лишь от сторонних посягательств, но не гарантирует свободу распоряжаться этой конституционно-правовой ценностью по своему усмотрению. Именно поэтому государственные органы не вправе выносить суждений о полезности либо бесполезности конкретных человеческих жизней со всеми вытекающими негативными последствиями70. Правовой характер права на жизнь, которое по своему изначальному смыслу является защитным механизмом от нарушений со стороны государства, не позволяет интерпретировать его содержание ни как гарантию «права жить», ни как гарантию «права умереть»71. Вопреки опасениям, данная точка зрения не превращает объект конституционно-правовой защиты в неопределенную абстракцию и не отдает человеческую жизнь в безраздельное распоряжение государственных органов. Жизнь каждого человека по-прежнему находится под защитой Конституции, однако, эта защита распространяется лишь на ее существование. При непременном желании сконструировать некое негативное пространство права на жизнь его содержание исчерпывалось бы отказом от конституционной защиты – решение, которое государственные органы должны уважать независимо от личных предпочтений их сотрудников. Однако действия, которые выражают отношение личности к собственной жизни вовне, не являются объектом защиты ч. 2 ст. 272. В частности, право на жизнь не предоставляет желающему собственной смерти возможности требовать от государства какой-либо поддержки73.
Оппоненты данного мнения могут возразить, что в этом случае человек частично лишается своего права на жизнь, так как он оказывается не в состоянии выбирать между несколькими альтернативами жизнеустройства, т. е. не может распоряжаться жизнью по своему усмотрению74. Этот аргумент может быть количественно представлен следующим образом: органическая целостность ч. 2 ст. 2 складывается из двух равнозначных элементов: вопросом о том, как распоряжаться собственной жизнью и решением о том, распоряжаться ли ею вообще. Изъятие хотя бы одного из этих элементов нарушает полноту личностного самоопределения. Однако ч. 2 ст. 2 по своей природе не предоставляет право выбора. Как и гарантия человеческого достоинства, она не открывает человеку множество различных возможностей, но защищает только само существование человеческой жизни75. Таким образом, попытка установить некий содержательный параллелизм права на жизнь с другими основными правами, такими, как ч. 1 ст. 5 (право на выражение множества различных мнений) или ч. 1 ст. 9 (право основывать множество различных объединений), представляется ошибочной как с исторической, так и с телеологической точки зрения.
2. Отсутствие корреляции самоубийства и самоопределения
Попытка альтернативного обоснования права на добровольный уход из жизни зиждется на праве личностной самореализации согласно ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 1 Основного закона ФРГ. Приверженцы этой модели считают решение окончить собственную жизнь актом самоопределения, следствием которого является обязательство государственных органов не только уважать сделанный человеком выбор, но и активно способствовать осуществлению замысла. В основе данной позиции лежит тезис о том, что государство не может довольствоваться лишь отказом от нарушения основных прав, но обязано создать условия для их эффективной реализации76. Однако так как желание умереть зачастую предполагает санкционирование доступа к смертельно действующим препаратам, то закрепленное в Конституции ФРГ право на уважение личностного самоопределения эволюционирует до уровня права на получение желаемого медикамента77.
Однако в этом случае сама основополагающая предпосылка рассуждений может быть поставлена под сомнение. Самоопределение предполагает жизненную активность субъекта самоопределения, без «материальной основы» невозможна не только личностная реализация, но и личностное существование. Государство, которое признает личностную реализацию высшей ценностью и обязуется всемерно способствовать самоопределению своих граждан, оказывается перед лицом системного противоречия, если от него требуют поддержки усилий по прекращению жизни, с которым неразрывно связано и окончание всякого самоопределения. Носитель конституционных прав и свобод находится под защитой Основного закона до тех пор, пока осознает себя и действует как активный, неоконченный и стремящийся к какому-либо завершению личностный проект. При такой самооценке он имеет право требовать от государственных органов того содействия, какое они могут оказать, исходя из своих возможностей. Однако в случае, когда проект объявляется завершенным, государство может лишь принять это решение к сведению, но не должно содействовать его сворачиванию.
3. Общностность индивидуума
С тех пор, как Аристотель определил человека как «существо политическое»78, межличностное общение и взаимодействие признаются основными потребностями человеческой природы. Это значит, что человек реализует себя по преимуществу посредством контактов с окружающим миром, с которым он делится своими внутренними ощущениями и от которого получает импульсы для дальнейших действий. Лишь через такие взаимодействия человек осознает свои индивидуальные свободы и обустраивает свою жизнь с целью наиболее полной личностной реализации79. Практически дословно цитируя антропологические воззрения Аристотеля, Конституционный суд ФРГ описывает образ носителя конституционных прав и свобод такими характеристиками, как общностность и коллективность80. И хотя Основной закон ФРГ не выражает предпочтений относительно способов личностной реализации и теоретически включает в сферу своей защиты даже действия в полной изоляции от общества, вряд ли можно оспаривать тот факт, что личностная реализация в условиях глобализации и цифровизации в подавляющем большинстве случаев осуществляется путем интеракции с себе подобными81. Но если личностная реализация отличается своим общественным вектором, то эта направленность должна отражаться и на основных правах, которые обеспечивают самореализацию человека. Так, каждое основное право предполагает существование определенного коллектива, в котором оно получает содержательное наполнение и ограничение: общество дает свободе ее действенность, активирует ее82. Таким образом, смерть также приобретает общественное и юридическое значение, вследствие чего тезис «каждый умирает в одиночку» в рамках проблематики добровольного ухода из жизни не может быть признан действительным. Человеческие отношения и возникающие из них межличностные связи создают фундамент общности, функциональность которой зависит от вклада каждого из ее членов. Следовательно, под сомнение может быть поставлена сама модель обоснования права на добровольный уход из жизни, выстроенная на постулате личностной автономии, выражением которой является решение завершить собственную жизнь83. В рамках конституционно-правового порядка, имеющего своим основополагающим элементом внутреннюю связь его членов, эта позиция должна быть по меньшей мере скорректирована. Кроме того, необходимо учитывать, что решение окончить свою жизнь, которое влечет за собой сокращение арсенала общественных связей, может представлять собой значительную опасность для существования общности в целом. Следовательно, стремление нейтрализовать конфликтный потенциал путем отказа от государственного содействия суициду следует признать вполне обоснованным84.
Из установленной общности индивидуума следует, что и жизнь, и смерть человека включают в себя общественную компоненту. Суицид, без сомнения, оказывает значительное негативное воздействие на родственников и знакомых самоубийцы, так как процесс переработки этого трагического события занимает подчас весьма длительное время. Кроме того, подобный шаг влияет и на сообщество граждан, юридическое оформление которого содержится в Основном законе ФРГ. Закрепленный в ч. 2 ст. 2 посыл в пользу человеческой жизни 85 теряет свою убедительность, если индивидуальное стремление лишить себя жизни получает государственную поддержку, так как тем самым подрывается доверие государственным органам в целом. Заключенный в этой статье сигнал адресован отчаявшимся людям, он предлагает им получить от государства материальное либо нематериальное вспомоществование в тяжелых жизненных ситуациях. Государственная поддержка самоубийств нивелирует обязательство по защите человеческой жизни, которое действует независимо от того, как относится к своей жизни тот или иной индивидуум86. При законодательном закреплении случаев государственной поддержки суицида, даже если эти случаи являются абсолютными исключениями, вероятно коренное изменение конституционно-правовой парадигмы в среднесрочной перспективе, так как подобные изменения законодательства внедряют в сознание мысль о принципиальной приемлемости суицида и обладают потенциалом стимулировать общественное принятие самоубийства как допустимой поведенческой опции87. При таком развитии событий лавинообразное увеличение заявлений на получение государственной поддержки прекращения собственной жизни могут оказаться вовсе не отвлеченными фантазиями88, но логическим завершением запущенной законодателем реакции89.
Следует подчеркнуть, что ссылка на связь индивидуума с обществом не влечет за собой нивелирования конституционных прав из-за чрезмерного акцентирования их объективной компоненты. Верным представляется утверждение о том, что защита основных прав не может быть устранена общей ссылкой на объективный порядок ценностей, содержащийся в совокупности конституционно-правовых позиций. В противном случае весьма реальной становится опасность предоставления личности в распоряжение общества, а в конце концов – государства90. Защитная компонента основных прав противостоит инструменталистскому подходу, при котором правовые гарантии поворачиваются против самих себя и используются для оправдания нарушений других правовых гарантий. Отказываясь от поддержки суицида, государство не преследует никаких абстрактно-сверхиндивидуальных целей. Ни общественное благо, ни закон морали, ни тем более само государство не являются ценностью, равнозначной ценности индивидуума. Следовательно, вклад в закрепление какого бы то ни было «общественного принципа» может быть не более чем побочным эффектом. Первичной целью является защита конкретной личности в том ее образе, какой ее видит Конституция. Как было установлено ранее, «личность Основного закона» не представляет собой отдельной, изолированной единицы, но отличается своей вовлеченностью в общественные процессы, трансформируя импульсы других членов общества в «топливо» для собственной личностной реализации. Таким образом, члены сообщества автономно действующих индивидуумов объединены взаимной ответственностью, причем добросовестное выполнение своих обязанностей гарантирует сохранность этого сообщества. Таким образом, государство, принимающее на себя обязательства по обеспечению и защиты членов сообщества, оказывается лишь выразителем коллективных интересов своих граждан91.
Заключение
По результатам рассмотрения правоприменительной практики высших судебных инстанций ФРГ и ЕСПЧ было выяснено, что признание права на добровольный уход из жизни имеет своей аргументационной базой определенное толкование гарантии самореализации личности. Суды установили, что гарантия человеческого достоинства обеспечивает, в числе прочего, возможность самореализации путем принятия автономного решения о сохранении либо прекращении собственной жизни. Согласно этому мнению, подобное решение имеет сугубо личный характер и представляет собой видимую манифестацию человеческого достоинства, из чего следует, что государство обязано не только уважать соответствующее волеизъявление, но и всемерно способствовать его осуществлению. Таким образом, на государственные органы налагается обязательство предоставить средства для ухода из жизни при получении заявлений граждан. Отказ в предоставлении этих средств должен расцениваться как нарушение конституционных прав и может быть обжалован в судебном порядке. При этом государственное обязательство прямо противоположной направленности – защищать жизнь и здоровье своих граждан – также сохраняет свое действие, что неминуемо приводит к неразрешимому противоречию: государство обязано охранять жизнь и в то же время должно способствовать ее добровольному прекращению.
Однако конфликт между гарантией личностного самоопределения, которая используется для обоснования права на самоубийство, и государственным обязательством по защите человеческой жизни на поверку оказывается лишь иллюзией. Причина ее возникновения заключается в ошибочной трактовке основополагающих юридических предпосылок. Государство не принуждает человека, желающего умереть, к продолжению жизни, отказывая ему в доступе к смертельно действующим препаратам. Следовательно, о нарушении конституционных прав путем «принуждения к жизни» не может быть и речи. Необходимо помнить, что Основной закон ФРГ предписывает оказание поддержки лишь тем действиям, которые способствуют достижению общественного блага, так как содержащаяся интерпретация антропологического профиля Конституции ФРГ основывается на постулате общностности индивидуума. Напротив, эгоцентричные действия, имеющие своим следствием разрушение общественных связей, не могут получить опосредованное одобрение государства путем обеспечения государственной поддержки суицида. Вместе с тем Конституция ФРГ обязывает государство признавать допустимость и прямо противоположных воззрений подобно тому, как оно должно уважать мнение мирно выступающих оппонентов действующей Конституции. Следовательно, ни мнения, ни общественные инициативы сторонников законодательного закрепления «права на смерть» не могут подвергаться каким-либо государственным рестрикциям; напротив, Основной закон ФРГ обеспечивает всеобъемлющую защиту их взглядов и действий посредством гарантии свободы мнений, свободы собраний, свободы объединений и других основных прав и свобод. Тем не менее отстаиваемая ими мировоззренческая позиция не может повлиять на конституционно-этическую максиму реакции государства на решение индивидуума окончить собственную жизнь, которая может быть вполне исчерпывающе описана формулировкой «безоценочное уважение».
1 См.: URL: https://www.change.org/p/mein-ende-geh%C3%B6rt-mir-deshalb-fordern-wir-rechtsanspruch-auf-professionelle-sterbehilfe
2 См. об этом, напр.: Полянко Н. И., Галузо В. Н. Допустимо ли «право на смерть» в Российской Федерации? (медико-правовые аспекты) // Право и государство: теория и практика. 2017. № 10. С. 90–97; Галузо В. Н. Летальность (медико-правовое исследование). М., 2023. С. 67–79.
3 См.: Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen (BGHSt). Band 6. S. 147; Band 46. S. 279.
4 См.: Jarass H. D. // Jarass H. D., Bodo P. (Hrsg.). Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: GG, 15. Auflage 2018. Art. 2 Rn. 34.
5 О правоприменительной практике в Великобритании и США см.: Лушникова А. И. Право на эвтаназию: анализ судебной практики Великобритании и США // Сравнительное конституционное обозрение. 2017. № 117. С. 106–120.
6 См.: Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE) 2, 1 (12).
7 См.: BVerfGE18, 112 (117).
8 См.: BVerfGE39, 1 (42).
9 См.: Fink U. Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit // Merten D., Papier H.-J. (Hrsg.). Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa. Band IV 2011, § 88 Rn. 17 ff.
10 См.: BVerfGE39, 1 (59).
11 См.: ibid, 67.
12 См.: Bundesgesetzblatt vom 14.01.2005, Teil I, Nr. 3. S. 78.
13 См.: BVerfGE115, 118 (139, 153 ff.).
14 См.: BVerfGE46, 160 (164).
15 См.: ibid; BVerfGE88, 203 (251).
16 См.: BVerfGE88, 203 (251 f.).
17 См.: BVerfGE56, 54 (78).
18 См.: BVerfGE90, 145 (184).
19 См.: BVerfGE58, 208 (225).
20 См.: BVerfGE39, 1 (47 f.).
21 См.: BVerfGE59, 275 (279).
22 См.: BVerfGE153, 182.
23 См.: ibid, Rn. 203, 209.
24 См.: ibid, Rn. 209.
25 См.: ibid, Rn. 210 со ссылкой на BVerfGE52, 131, 175. Неясным, однако, остается вопрос о том, как данная позиция соотносится с выводами Конституционного суда о признании Конституцией общественной природы индивидуума, которая особо подчеркивается в решении (Rn. 301).
26 См.: ibid, Rn. 211.
27 См.: ibid, Rn. 221.
28 См.: ibid, Rn. 275.
29 См.: ibid, Rn. 277.
30 См.: Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwGE) 158, 142 (153).
31 См.: ibid, 152 f.
32 См.: Jarass H. D. // Jarass H. D., Bodo P. (Hrsg.). Op. cit. Art. 2 Rn. 81.
33 См.: BVerwGE158, 142 (154).
34 См.: Воскобитова М. Р. Позитивные обязательства государства как гарантия обеспечения прав человека и основных свобод // Междунар. правосудие. 2011. № 1. С. 78–86.
35 См.: BVerwGE, 154 f.
36 См.: ibid, 155 ff.
37 См.: ibid, 156.
38 См.: ibid, 157.
39 См.: ibid, 157 f.
40 См.: 5 StR132/18, 5 StR393/18.
41 См.: Kindhäuser U., Neumann U., Paeffgen H.-U. (Hrsg.). Strafgesetzbuch, 5. Auflage 2017, Vorbemerkungen zu § 211 Rn. 37, 47.
42 См.: BGH, Urteil vom 3. Juli 2019–5 StR132/18. Rn. 17, 21.
43 См.: Lackner / Kühl, StGB, 29. Auflage 2018, Vorbemerkung zu § 211–222. Rn. 13 ff.
44 См.: BGH, Urteil vom 3. Juli 2019–5 StR393/18. Rn. 19 f.
45 См.: BGH, Urteil vom 3. Juli 2019–5 StR132/18. Rn. 25, 42.
46 См.: ibid, Rn. 45 f.
47 См.: ibid, Rn. 47.
48 См.: Application no. 2346/02, Pretty v. Great Britain, Judgement of 29 April 2001.
49 См.: Pretty / Great Britain, para 39.
50 См.: ibid.
51 Ссылка на данное постановление ЕСПЧ в решении Конституционного суда ФРГ от 26.02.2020 г. (см. выше), которая была призвана придать дополнительной убедительности аргументации последнего, на поверку выявляет лишь ошибочное понимание решения страсбургского Суда. Во-первых, ЕСПЧ в отличие от Конституционного суда ФРГ намеренно отказался от рассмотрения вопроса о праве на самоубийство в контексте Конвенции. Во-вторых, он не сформулировал запрет на продление лечения против воли пациента, но лишь процитировал опасения пациентов преклонного возраста (п. 65 мотивировочной части, который приводится в п. 304 решения Конституционного суда ФРГ).
52 См.: Application no. 31322/07, Haas v. Switzerland, Judgement of 20 January 2011.
53 См.: ibid, para 33.
54 См.: Meyer-Ladewig J., Nettesheim M., Raumer S. von (Hrsg.). Europäische Menschenrechtskonvention, 4. Auflage 2017. Art. 8. Rn. 7.
55 См.: Haas v. Switzerland, para 50, 51.
56 См.: ibid, para 54, 58.
57 См.: Haas v. Switzerland, para 56.
58 См.: Application no. 497/09, Koch v. Germany, Judgement of 19 July 2012, para 66 et seq.
59 См.: Application no. 46043/14, Lambert a. o. v. France, Judgement of 5 June 2015; об этом решении см.: Ковлер А.И. Право на жизнь и «автономия личности» // Междунар. правосудие. 2015. № 3 (15). С. 52–55.
60 См.: Lambert a. o. v. France, para 144.
61 См.: ibid, para 147, 148; см. также: Application no. 39793/17, Gard a. o. v. Great Britain, Judgement of 27 June 2017, para 122, 123.
62 См.: Lambert a. o. v. France, para 159, 160.
63 См.: ibid, para 147.
64 См.: Lorenz D. Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit // Isensee J., Kirchhof P. (Hrsg.). Handbuch des Staatrechts, Band VI, 1. Auflage 1989, § 128 Rn. 62.
65 См.: Fink U. Selbstbestimmung und Selbsttötung. 1992. S. 98.
66 См.: ibid. S. 107.
67 См.: Herdegen M. // Maunz Th., Dürig G. (Hrsg.). Grundgesetz. Kommentar, 88. Ergänzungslieferung (Stand: August 2019), Art. 1 Abs. 1 Rn. 89.
68 См.: Udo di Fabio // Ibid. Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 Rn. 47.
69 См. также: Lorenz D. // Kahl W., Waldhoff Ch., Walter Ch. (Hrsg.). Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Band 2, Stand: Juni 2012, Art. 2 Abs. 2 Satz 1 Rn. 417.
70 См.: Roellecke G. Gibt es ein “Recht auf den Tod”? // Eser A. (Hrsg.). Suizid und Euthanasie als humanund sozialwissenschaftliches Problem, 1976. S. 338; Wassermann R. Das Recht auf den eigenen Tod // Deutsche Richterzeitung. 1986. S. 292.
71 Schwabe J. Der Schutz des Menschen vor sich selbst // Juristenzeitung. 1998. S. 69.
72 См. также: Wiedemann R. // Umbach D. C., Clemens T. (Hrsg.). Grundgesetz. Mitarbeiterkommentar und Handbuch, Band I, 2002, Art. 2 II Rn. 293.
73 См.: Lorenz D. // Kahl W., Waldhoff Ch., Walter Ch. (Hrsg.). Op. cit. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 Rn. 420.
74 См., напр.: Duttge G. Lebensschutz und Selbstbestimmung am Lebensende // Zeitschrift für Lebensrecht. 2/2004. S. 32 f.
75 См.: Hillgruber Ch. Die Bedeutung der staatlichen Schutzflicht für das menschliche Leben bezüglich einer gesetzlichen Regelung zur Suizidbeihilfe // Zeitschrift für Lebensrecht 3/2013. S. 70.
76 См.: Hufen F. Selbstbestimmtes Sterben – Das verweigerte Grundrecht // Neue Juristische Wochenschrift (NJW). 2018. S. 1525.
77 См.: Brade A. // Tänzer B. “Der Tod auf Rezept”? Neue Zeitschrift für Verwaltungsrechte (NVwZ). 2017. S. 1438.
78 Аристотель. Политика // Аристотель. Соч. / пер. С. А. Жебелева). М., 1983. Т. 4. С. 377.
79 См.: Depenheuer O. Solidarität und Freiheit // Isensee J., Kirchhof P. Op. cit. Band IX, 3. Aufl. 2011, § 194 Rn. 5.
80 См.: BVerfGE4, 7 (15 f.); 12, 45 (51); 33, 303 (334); см. также: Depenheuer O. Op. cit. Rn. 31: «априорная общностность личности».
81 См.: Erichsen H.-U. Allgemeine Handlungsfreiheit // Isensee J., Kirchhof P. Op. cit. Band VI, 2. Aufl. 1998, § 152 Rn. 8.
82 См.: Volkmann U. // Merten D., Papier H.-J. (Hrsg.). Op. cit. Band II, 2006, § 32 Rn. 2.
83 См., напр.: Deutscher Ethikrat, Suizidprävention statt Suizidunterstützung. Erinnerung an eine Forderung des Deutschen Ethikrates anlässlich einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Ad-hoc-Empfehlung, 2017. S. 1.
84 См.: Roellecke G. Op. cit. S. 336 (340).
85 См.: BVerfGE22, 180 (219); 58, 208 (225); 60, 123 (133) sowie Udo di Fabio. Zur Theorie eines grundrechtlichen Wertesystems // Merten D., Papier H.-J. (Hrsg.). Op. cit. Band II, 2006, § 46 Rn. 51.
86 См.: Hillgruber Ch. Die Erlaubnis zum Erwerb eines Betäubungsmittels in tödlicher Dosis für Sterbenskranke – grundrechtlich gebotener Zugang zu einer Therapie “im weiteren Sinne”? Besprechung von BVerwG, Urteil v. 2.3.2017–3 C19.15 // Juristenzeitung. 2017. S. 780.
87 Данное предположение уже подтверждается рядом событий, таких как, например заявления лиц, находящихся в местах лишения свободы, о предоставлении им государственной поддержки для окончания собственной жизни (см.: BVerfG, Beschluss vom 3. November 2021–2 BvR828/21).
88 См.: Hufen F. Op. cit. S. 1526.
89 См.: Nationaler Ethikrat, Selbstbestimmung und Fürsorge am Lebensende. Stellungnahme, 2006. S. 31 sowie BT-Drs. 18/5373. S. 11; см. также: Eibach U. Aktive Euthanasie und Beihilfe zur Selbsttötung: Ein Menschenrecht? // Zeitschrift für Lebensrecht. 2/2004. S. 38–47.
90 См.: Fink U. Selbstbestimmung und Selbsttötung. S. 118; см. также: BVerfGE50, 290 (337).
91 См.: Volkmann U. Op. cit. Rn. 32.
Об авторах
Юрий Игоревич Сафоклов
FernUniversität
Автор, ответственный за переписку.
Email: jurisafoklov@yandex.ru
Dr. iur., старший научный сотрудник кафедры немецкого конституционного и административного права, европейского конституционного и административного права и международного права
Германия, ХагенСписок литературы
- Аристотель. Политика // Аристотель. Соч. / пер. С. А. Жебелева. М., 1983. Т. 4. С. 377.
- Воскобитова М. Р. Позитивные обязательства государства как гарантия обеспечения прав человека и основных свобод // Междунар. правосудие. 2011. № 1. С. 78–86.
- Галузо В. Н. Летальность (медико-правовое исследование). М., 2023. С. 67–79.
- Ковлер А. И. Право на жизнь и «автономия личности» // Междунар. правосудие. 2015. № 3 (15). С. 52–55.
- Лушникова А. И. Право на эвтаназию: анализ судебной практики Великобритании и США // Сравнительное конституционное обозрение. 2017. № 117. С. 106–120.
- Полянко Н. И., Галузо В. Н. Допустимо ли «право на смерть» в Российской Федерации? (медико-правовые аспекты) // Право и государство: теория и практика. 2017. № 10. С. 90–97.
- Brade A. // Tänzer B. “Der Tod auf Rezept”? Neue Zeitschrift für Verwaltungsrechte (NVwZ). 2017. S. 1438.
- Depenheuer O. Solidarität und Freiheit // Isensee J., Kirchhof P. Handbuch des Staatrechts. Band IX, 3. Aufl. 2011, § 194 Rn. 5, Rn 31.
- Deutscher Ethikrat, Suizidprävention statt Suizidunterstützung. Erinnerung an eine Forderung des Deutschen Ethikrates anlässlich einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Ad-hoc-Empfehlung, 2017. S. 1.
- Duttge G. Lebensschutz und Selbstbestimmung am Lebensende // Zeitschrift für Lebensrecht. 2/2004. S. 32 f.
- Eibach U. Aktive Euthanasie und Beihilfe zur Selbsttötung: Ein Menschenrecht? // Zeitschrift für Lebensrecht. 2/2004. S. 38–47.
- Erichsen H.-U. Allgemeine Handlungsfreiheit // Isensee J., Kirchhof P. Handbuch des Staatrechts. Band VI, 2. Aufl. 1998, § 152 Rn. 8.
- Fink U. Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit // Merten D., Papier H.-J. (Hrsg.). Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa. Band IV 2011, § 88 Rn. 17 ff.
- Fink U. Selbstbestimmung und Selbsttötung. 1992. S. 98, 107, 118.
- Herdegen M. // Maunz Th., Dürig G. (Hrsg.). Grundgesetz. Kommentar, 88. Ergänzungslieferung (Stand: August 2019), Art. 1 Abs. 1 Rn. 89.
- Hillgruber Ch. Die Bedeutung der staatlichen Schutzflicht für das menschliche Leben bezüglich einer gesetzlichen Regelung zur Suizidbeihilfe // Zeitschrift für Lebensrecht 3/2013. S. 70.
- Hillgruber Ch. Die Erlaubnis zum Erwerb eines Betäubungsmittels in tödlicher Dosis für Sterbenskranke – grundrechtlich gebotener Zugang zu einer Therapie “im weiteren Sinne”? Besprechung von BVerwG, Urteil v. 2.3.2017–3 C19.15 // Juristenzeitung. 2017. S. 780.
- Hufen F. Selbstbestimmtes Sterben – Das verweigerte Grundrecht // Neue Juristische Wochenschrift (NJW). 2018. S. 1525, 1526.
- Jarass H. D. // Jarass H. D., Bodo P. (Hrsg.). Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: GG, 15. Auflage 2018. Art. 2 Rn. 34, 81.
- Kindhäuser U., Neumann U., Paeffgen H.-U. (Hrsg.). Strafgesetzbuch, 5. Auflage 2017, Vorbemerkungen zu § 211 Rn. 37, 47.
- Lorenz D. // Kahl W., Waldhoff Ch., Walter Ch. (Hrsg.). Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Band 2, Stand: Juni 2012, Art. 2 Abs. 2 Satz 1 Rn. 417, 420.
- Lorenz D. Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit // Isensee J., Kirchhof P. (Hrsg.). Handbuch des Staatrechts, Band VI, 1. Auflage 1989, § 128 Rn. 62.
- Meyer-Ladewig J., Nettesheim M., Raumer S. von (Hrsg.). Europäische Menschenrechtskonvention, 4. Auflage 2017. Art. 8. Rn. 7.
- Roellecke G. Gibt es ein “Recht auf den Tod”? // Eser A. (Hrsg.). Suizid und Euthanasie als humanund sozialwissenschaftliches Problem, 1976. S. 336, 338.
- Schwabe J. Der Schutz des Menschen vor sich selbst // Juristenzeitung. 1998. S. 69.
- Udo di Fabio // Maunz Th., Dürig G. (Hrsg.). Grundgesetz. Kommentar, 88. Ergänzungslieferung (Stand: August 2019), Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 Rn. 47.
- Udo di Fabio. Zur Theorie eines grundrechtlichen Wertesystems // Merten D., Papier H.-J. (Hrsg.). Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa. Band II, 2006, § 46 Rn. 51.
- Volkmann U. // Merten D., Papier H.-J. (Hrsg.). Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa. Op. Band II, 2006, § 32 Rn. 2, 32.
- Wassermann R. Das Recht auf den eigenen Tod // Deutsche Richterzeitung. 1986. S. 292.
- Wiedemann R. // Umbach D. C., Clemens T. (Hrsg.). Grundgesetz. Mitarbeiterkommentar und Handbuch, Band I, 2002, Art. 2 II Rn. 293.
Дополнительные файлы