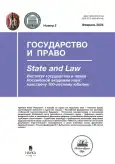The use of categories and methods of natural sciences in jurisprudence and political science
- Authors: Drobyshevskiy S.A.1, Protopopova T.V.1
-
Affiliations:
- Siberian Federal University
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 202-206
- Section: Scientific reports
- URL: https://journal-vniispk.ru/1026-9452/article/view/259462
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1026945224020218
- ID: 259462
Cite item
Full Text
Abstract
The authors of the present article demonstrate the inaccuracy of the idea proposed by the Vienna Circle positivists that it is necessary to extend the terminology and methods of natural sciences to political and legal studies in order for these studies to produce truly scientific knowledge, which, as suggested by these positivists, should present a set of statements formalized through the usage of mathematics. The authors contend that this theoretical approach opposes natural sciences to jurisprudence and political science and therefore are incorrect. It is the authors’ stance that social sciences, including jurisprudence and political science, as well as other areas of scientific research, explore the nature. Thus, jurisprudence and political science belong to natural sciences. Accordingly, in every area of scientific research the qualities of its results are controlled by the specifics of the sphere of nature under examination. It is this sphere that dictates a choice of categories and methods employed for this examination. These categories and methods are determined by the aforesaid specifics and, as a result, are also specific. For example, this is true not only for mathematics and physics but also for jurisprudence and political science. It is worth noting that every area of research has its own, distinctive findings or scientific results produced by means of the unique system of notions and methods, utilized in the course of the research. Spheres of nature examined within separate areas of research overlap with each other. Consequently, a given area of research may adopt categories and methods of cognition that were initially devised within another area of research. However, such an adoption should be undertaken only if it leads to the achievement of original scientific results.
Full Text
Иногда естественные науки противопоставляют политологии и юриспруденции, как, например, это делали участники Венского кружка позитивистов третьего-четвертого десятилетий ХХ в .1 Причем присутствует разделяемая ими идея, что политология и юриспруденция будут результативны лишь в одном случае. На политологическое и юридическое познание распространяются терминология и методы исследования естественных наук. К ним относятся, в частности, математика, физика, биология и химия, но никак не общественные науки. Пока же такого распространения нет, о результативности политологии и юриспруденции говорить нельзя, ибо знание, достигаемое этими отраслями познания с помощью их понятий и методов, к науке не относится2.
Приверженцы указанного противопоставления политологии и юриспруденции естественным наукам считают правильным воззрение на «идеальный продукт» 3научного исследования, разработанное участниками упомянутого Венского кружка4. Имеется в виду трактовка отмеченного итога в виде базирующейся на аксиомах суммы суждений5, которая выступает результатом «объективных наблюдений»6, а также формализована с помощью языка математики7.
На такой теоретической основе отмеченные приверженцы в США ХХ в. полагали, что методы изучения, применяемые в естественных науках, подходят для исследования политико-юридических явлений8. Причем усилия указанных ученых привели здесь к тому, что, например, везде в политологии, где соответствующим исследователям представлялось возможным, предпринималось «определение количества» 9и обсуждаемая сфера познания оказалась наполненной математическими формулами10. Политологи же стали применять большое число «сложных эмпирических технических приемов»11. Подразумевается обращение в целях исследования к использованию анкет, интервьюированию, «отбору образцов, анализу движущих сил и возвращения в прежнее положение»12, равно как и к созданию моделей в соответствии с задачами изучения, которые поставлены13. Впрочем, то же самое случилось в США ХХ века в науке, изучающей право14.
Такого рода воззрения и соответствующая им научная практика широко распространены среди ученых и в XXI в. Скажем, сциентизм, а именно теоретический подход, согласно которому обществоведение вообще и правоведение в частности в состоянии установить закономерности функционирования общества теми же методами, какие применяют естественные науки к физическому миру, преобладает в науке наших дней. Сциентизм наиболее очевиден в т. н. формалистских традициях общественной науки и юриспруденции, которые господствуют в отмеченных отраслях знания благодаря обращению соответствующих ученых к дедуктивной, иногда математизированной, логике, созданной на основе аксиоматической системы геометрии Евклида15.
Если оценивать приведенное теоретическое представление о противопоставлении естественных наук, с одной стороны, и политологии, а также юриспруденции – с другой, то оно едва ли обоснованно. Причина очевидна. Все обществоведение изучает природу.
Эта идея, например, сформулирована Э. А. Хобелем. Как он выразился, «право существует» 16в культуре. Культура же выступает частью природы. Поэтому все изучающие культуру отрасли познания, включая обществоведение, относятся к естественным наукам. К ним принадлежит и правоведение17.
В этой ситуации полагать, что продукт любой отрасли научного познания неизменно должен быть совокупностью утверждений, которая формализована через использование математики, значит ошибаться. Верные же суждения таковы.
В каждой отрасли научного познания характер этого продукта определяется спецификой исследуемой природной области. Именно последняя диктует применяемые в ней людьми категории и методы для изучения. Они вытекают из упомянутой специфики и поэтому сами специфичны.
Скажем, указанным образом обстоят дела как в математике и физике, так и в юриспруденции и политологии. Причем каждая из названных отраслей познания имеет свой собственный, специфичный именно для нее результат познания или научный продукт, достигаемый с помощью уникальной для нее системы понятий и методов, применяемых в исследовании.
Области природы, изучаемые отдельными такими отраслями познания, частично совпадают. Отсюда вытекает то, что каждая из последних для исследования собственного предмета может прибегать к категориям и способам изучения, выработанным иными науками.
Работающим в отрасли познания ученым следует так поступать лишь тогда, когда в итоге оказывается налицо вполне определенный результат. Он выступает обязательным условием для этого рода обращения. Имеется в виду то, что применяемые в науке понятия и методы иных отраслей познания приводят к появлению в ней нового научного знания.
Можно привести сколько угодно подобных примеров. Так, отмеченным образом обстоят дела с обращением политологии и юриспруденции к методу рационального моделирования, созданному вне них. В этом случае, в частности, подразумевается «применение подхода разумного деятеля в области избирательного поведения»18.
Не случайно такое обращение в немалой степени способствовало изучению политической наукой и юриспруденцией человеческих ценностей в соотношении их с политикой и правом19. Например, упомянутый концептуальный подход разумного деятеля стал существенной частью методологии при конструировании «теорий о равенстве, свободе»20, а также «справедливости»21. В частности, имеются в виду идеи в правоведении, сформулированные Дж. Финнисом22.
Указанное обязательное условие для обращения всякой науки вообще и политологии, равно как и юриспруденции, в частности к категориям и методам иных отраслей познания иногда не соблюдается. Между прочим, такой факт несоблюдения скорее всего имеет место относительно идеи Д. Истона о повиновении людей властям в политически организованном обществе.
Скажем, он написал, что для выживания общества подчинение его членов органам управления всем этим социальным организмом должно «меняться в пределах континуума. Вероятность принятия всех таких постановлений в качестве обязательных обычно меньше 1, по крайней мере в любом значительном историческом промежутке времени. Все же, несомненно, она должна быть выше 0,5… Отношение непринятия к принятию должно опускаться внутри ограниченного диапазона значительно больше, чем пропорция, характерная для случайности»23. Если бы дела обстояли не так, то общество оказалось бы дезорганизованным.
В самом деле, еще в XIX в. то же самое утверждал Дж. Остин, когда отмечал, что такое сообщество разрушается, если в нем предписаниям юридических норм добровольно не подчиняется большинство живущих здесь людей24. Д. Истон с помощью категорий, взятых им за пределами традиционных политологии и юриспруденции, едва ли добавил к указанной идее Дж. Остина что-либо новое.
Ясно, что относительно подобного рода использования в политологии и юриспруденции категорий и методов иных наук верен следующий вывод: оно неуместно.
Сформулированная логика авторов настоящей статьи подтверждается практикой функционирования общественных наук, включая политологию и юриспруденцию. В частности, это демонстрируют приведенные Д. Истоном сведения о том, как в ХХ в. после истечения его первой половины общественные науки в США производили научный продукт, отличающийся от того, который выступает идеальным для позитивистов Венского кружка и их последователей. Причем Д. Истон связал эту информацию с данными, накопленными в указанный период в иных отраслях познания.
Как он писал, в это время в США начался процесс отказа ученых от принятия в качестве верного указанного позитивистского представления об идеальном продукте научных усилий. Такова, по словам Д. Истона, «наиболее драматичная вещь из происходивших» 25тогда в политологии.
Правда, упомянутый «эталон»26, по крайней мере в девятом десятилетии ХХ в. еще являлся целью в научной работе для «многих» 27исследователей. «Это особенно верно» 28относительно представителей политической науки, трудившихся в сферах познания, в которых его возможно было достичь как итог изысканий29. Скажем, имеется в виду отмеченное «рациональное моделирование» 30разных видов.
В политологических исследованиях, продолжал свое изложение упомянутых сведений Д. Истон, есть области, где отмеченный идеальный продукт не вырабатывается31. Притом они формируют «преобладающую часть» 32предмета политологических изысканий. Например, такова ситуация при классификации политических феноменов на виды, которая выступает составным элементом теоретических представлений об этих явлениях33.
По наблюдениям Д. Истона, в областях, не характеризующихся производством рассматриваемого идеального продукта, исследователи прилагают все свои силы, чтобы получить ранее неизвестные научные результаты. С этой целью «отмеченные сферы» 34объекта изучения политологии изучались с помощью применения норм обыкновенной формальной логики, сбора сведений в соответствии с давно известными научными методиками и всестороннего анализа собранной информации35.
Полученные в указанных областях знания зачастую рассматривались не на основе критериев, присутствующих в ранее изложенной трактовке идеального научного продукта, данной участниками Венского кружка позитивистов. Отмеченные итоги познания, отличающиеся от изложенного позитивистского представления об их идеале36, в ряде случаев трактовались как обязательный составной элемент научного знания в его совершенном облике37.
Как указал Д. Истон, в анализируемый период в ходе развития естествознания 38 было установлено следующее обстоятельство. Нет какого-то единственного непременного продукта научных усилий39, выступающего обязательным итогом постижения любого познаваемого объекта40. Такой же вывод был сделан и применительно к истории «научной деятельности» 41целиком, а именно обнаружено «разнообразие результатов изыскания»42, оцениваемых учеными «как полезные и нужные»43, а не один результат, диктуемый «позитивистским толкованием» 44участников Венского кружка.
Приведенные сведения из истории находятся в гармонии с заключениями «философии науки»45. Согласно последним есть немало разновидностей итога изысканий в науке, которыми занятые ею лица являются удовлетворенными46, в том числе и тогда, когда соответствующие результаты исследований не отвечают критериям, присущим отмеченному позитивистскому идеальному продукту научных усилий47. Например, подразумеваются разнообразие классификаций и совокупностей понятий в ботанической и биологической отраслях познания48, а также подобного рода вещи в политологии49, к которым, скажем, относится сложное построение категорий, созданное Д. Истоном в ходе реализации системного теоретического подхода к рассмотрению политических явлений. Указанные разновидности выступают результатом научной работы, соответствующим необходимым качествам такого итога не в меньшей мере, чем отражающая реальность формула математики50.
Подтверждение фактами из функционирования обществоведения и иных наук ранее логически обоснованной альтернативы отмеченным идеям позитивистов Венского кружка и их последователей позволяет сделать только один вывод. Ее нужно брать «на вооружение» исследователям всех общественных наук, включая политологию и юриспруденцию. Это принесет пользу любой научной дисциплине из них.
Смысл двух предыдущих суждений можно выразить и иначе. Если сравнивать упомянутую альтернативу изложенным взглядам позитивистов Венского кружка и их последователей и идеи их самих, т. е. смысл вспомнить то, что Г. Алмонд, используя слова из Библии, писал о борьбе между различными теоретическими построениями в науке.
Как он выразился, при их соперничестве «будут плач и скрежетание зубами, ибо… немногие [из этих концептуальных конструкций] избираются» 51большей частью научных работников для использования в их изысканиях. Авторы данной работы питают надежду, что окажутся избранными именно их представления.
1 См.: Easton D. Political Science in the United States: Past and Pre-sent // International Political Science Review. 1985. No. 1. Pp. 137, 138, 150; Huang Philip C. C., Yuan Gao. Should Social Science and Jurisprudence Imitate Natural Science? // Modern China. 2015. Vol. 41 (2). Pp. 131–135.
2 См.: Easton D. Op. cit. Pp. 138, 148.
3 Ibid. P. 148.
4 См.: ibid. P. 138.
5 См.: ibid. P. 148.
6 Ibid.
7 См.: ibid.
8 См.: ibid. Р. 137.
9 Ibid. P. 138.
10 См.: Midlarsky M. I. The Disintegration of Political Systems. War and Revolution in Comparative Perspective. Columbia, 1986. Pp. 141–210.
11 Easton D. Op. cit. P. 138; см. также: Bayley D. H. Social Control and Political Change. Princeton, 1985. Pp. 86, 128.
12 Easton D. Op. cit. P. 138.
13 См.: ibid.
14 См.: Tuori K. American Legal Realism and Anthropology // Law and Social Inquiry. 2017. No. 3. P. 815; Hoebel E. A. The Law of Primitive Man: A Study in Comparative Legal Dynamics. Cambridge, Massachusetts, 1954. Pp. 29–45, 139; Pound R. Social Control through Law. New Haven, 1942. Pp. 112–118, 133, 134; Pound R. Ideal Element in Law. Indianapolis, 2002. Pp. 99, 111, 113.
15 См.: Huang Philip C. C., Yuan Gao. Op. cit. P. 131; см. также: Blackburn Simon. The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford, 2005. Pp. 331, 332.
16 Hoebel E. A. Op. cit. Р. 46.
17 См.: Hoebel E. A. Op. cit. Р. 9.
18 Easton D. Op. cit. Р. 147.
19 См.: ibid. Р. 146.
20 Ibid. Р. 147.
21 Ibid.
22 См.: Финнис Дж. Естественное право и естественные права. М., 2012. С. 163, 348, 349.
23 Easton D. A Framework for Political Analysis. Chicago, 1979. P. 97.
24 См.: Austin J. Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of Positive Law: in 2 vols. L., 1869. Vol. I. Pp. 89, 90.
25 Easton D. Political Science in the United States: Past and Present. P. 148.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 См.: ibid.
30 Ibid.
31 См.: ibid.
32 Ibid.
33 См.: Easton D. Political Science in the United States: Past and Present. Р. 150.
34 Ibid. Р. 149.
35 См.: ibid.
36 См.: ibid.
37 См.: ibid.
38 См.: ibid. Р. 150.
39 См.: ibid. Р. 159.
40 См.: ibid. Р. 150.
41 Ibid.
42 Ibid.
43 Ibid.
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Ibid. Р. 149.
47 См.: ibid. Р. 150.
48 См.: ibid.
49 См.: ibid.
50 См.: ibid.
51 Almond G. A. Comparative Political Systems // Journal of Politics. 1956. No. 3. P. 409.
About the authors
Sergey A. Drobyshevskiy
Siberian Federal University
Author for correspondence.
Email: ktigp@yandex.ru
Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Theory and History of State and Law of the Law Institute
Russian Federation, KrasnoyarskTatiana V. Protopopova
Siberian Federal University
Email: ktigp@ya.ru
PhD in Law, Associate Professor of the Department of Theory and History of State and Law of the Law Institute
Russian Federation, KrasnoyarskReferences
- Finnis J. Natural law and natural rights. M., 2012. Pp. 163, 348, 349 (in Russ.).
- Almond G. A. Comparative Political Systems // Journal of Politics. 1956. No. 3. P. 409.
- Austin J. Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of Positive Law: in 2 vols. L., 1869. Vol. I. Pp. 89, 90.
- Bayley D. H. Social Control and Political Change. Princeton, 1985. Pp. 86, 128.
- Blackburn Simon. The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford, 2005. Pp. 331, 332.
- Easton D. A Framework for Political Analysis. Chicago, 1979. P. 97.
- Easton D. Political Science in the United States: Past and Present // International Political Science Review. 1985. No. 1. Pp. 137, 138, 146–150, 159.
- Hoebel E. A. The Law of Primitive Man: A Study in Comparative Legal Dynamics. Cambridge, Massachusetts, 1954. Pp. 9, 29–46, 139.
- Huang Philip C. C., Yuan Gao. Should Social Science and Jurisprudence Imitate Natural Science? // Modern China. 2015. Vol. 41 (2). Pp. 131–135.
- Midlarsky M. I. The Disintegration of Political Systems. War and Revolution in Comparative Perspective. Columbia, 1986. Pp. 141–210.
- Pound R. Ideal Element in Law. Indianapolis, 2002. Pp. 99, 111, 113.
- Pound R. Social Control through Law. New Haven, 1942. Pp. 112– 118, 133, 134.
- Tuori K. American Legal Realism and Anthropology // Law and Social Inquiry. 2017. No. 3. P. 815.
Supplementary files