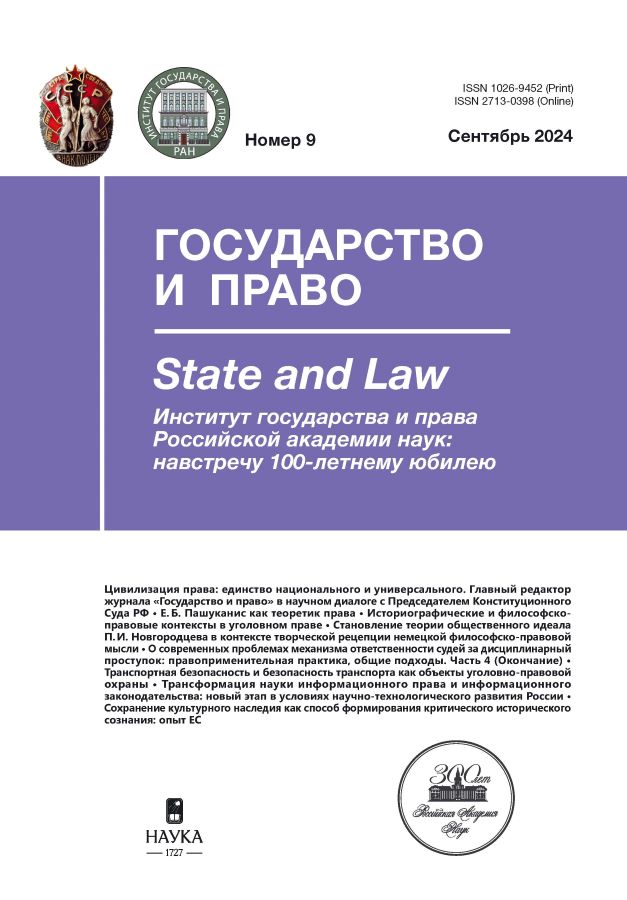European historical consciousness and the “culture of memory” as a reflection of “Pan-European” values
- Autores: Kartashkin V.A.1
-
Afiliações:
- Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences
- Edição: Nº 9 (2024)
- Páginas: 190-198
- Seção: Abroad
- URL: https://journal-vniispk.ru/1026-9452/article/view/270710
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1026945224090176
- ID: 270710
Citar
Texto integral
Resumo
The article presents an analysis of the Resolution of the European Parliament “On European Historical Consciousness” (2024). Increased attention is paid to the so-called “common European” values, which in this international document are positioned as the basis for interpreting the past of Europe, as well as key guidelines for the formation of a European “culture of memory” and “critical” historical consciousness. The author comes to the conclusion that the attempts of the European Parliament (through strengthening self-reflexive public discourse) to promote mutual understanding and reconciliation within and between individual social groups, nations and states are doomed to failure in advance, since the proposed algorithm has a pronounced artificial character.
Texto integral
В январе 2024 г. Европейским парламентом была принята Резолюция «О европейском историческом сознании» (2023/2112(INI) (далее – Резолюция) 1.
Европейское историческое сознание в рассматриваемом документе трактуется в качестве индивидуальной, а также коллективной способности и навыка понимать, критически оценивать и рефлексивно извлекать уроки из истории, что, по мнению его создателей, способствует признанию неразрывной связи и взаимозависимости между прошлым, настоящим и будущим (п/п. «K» Преамбулы).
В подтексте Преамбулы Резолюции речь идет о том, что «критическое историческое сознание» спонтанно не возникает: его необходимо «воспитывать». Поэтому сам процесс воспитания «критического исторического сознания через границы с помощью образовательных и других средств имеет решающее значение для того, чтобы европейцы могли понять и примириться со своим прошлым, уверенно относиться к настоящему и работать во имя общего будущего» (п/п. «J» Преамбулы).
Следует особо подчеркнуть, что в тексте Резолюции 13 раз употребляется понятие «критический», а также производные от него, а понятие «факты» (и производные от него) используется шесть раз, причем в различных контекстах и коннотациях: «“исторические факты”, основанные на профессиональной исторической работе» (данное словосочетание специально заключено в кавычки составителями Резолюции) (п/п. «H» Преамбулы); «основанный на фактах» (п. 3); «непредвзятых и основанных на фактических данных знаний» (п. 11); «беспристрастные факты» (п. 13); «критической оценки исторических фактов» (п. 16); «на основе фактов» (п. 21).
Нетрудно заметить, что налицо явное противоречие формулировок целого ряда пунктов Резолюции, в которых употребляется родовое понятие «факты» и его производные. Так, например, в п. 11 рассматриваемого документа речь идет о «непредвзятых и основанных на фактических данных знаниях», которые должны быть получены и распространены «в демократических обществах и, в частности, для критического отношения к истории». В этой связи возникает вполне логичный вопрос: как могут быть использованы «фактические данные» для «критического отношения к истории»?
Ответ на данный вопрос содержится в п. 16 Резолюции, в котором говорится о «критической оценки исторических фактов».
Таким образом, контент-анализ п. 3 Резолюции позволяет прийти к выводу о том, что он содержит, по сути, противоречивую формулировку, согласно которой Европарламент выступает за т. н. ответственный подход к истории, понимая под ним «основанный на фактах» и одновременно «критический» подход.
Европейская «культура памяти». Поскольку, с точки зрения создателей Резолюции, «историческая память включает в себя в разной степени субъективности» (п/п. «G» Преамбулы), она должна быть в максимальной степени «окультуренной», иными словами, культивируемо-формируемой, и стремиться к такому идеалу «культуры памяти» и исторического сознания, которые «основаны на общих европейских ценностях и практике обращения к прошлому» (п. 25).
Что касается дефиниции столь специфической социально-исторической категории, как «культура памяти», то надо заметить, что, например, с точки зрения В. Г. Шадурского, под культурой памяти следует понимать принципы, стандарты и приемы в осмыслении и освещении процессов, событий и деятельности персонажей прошлого. Каждое государство, каждая нация имеет свою уникальную коллективную память и культуру памяти 2.
В частности, Я. Ассман в своем известном научном труде «Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности» детальным образом рассматривает два основных вида памяти: коммуникативную и культурную. С точки зрения указанного ученого, коммуникативная память охватывает воспоминания, которые связаны с недавним прошлым. Это те воспоминания, которые человек разделяет со своими современниками. Типичный случай – память поколения. Ее группа приобретает исторически. Эта память возникает во времени и проходит вместе с ним, точнее со своими носителями. Когда носители, воплощавшие ее, умирают, она уступает место новой памяти 3.
Характеризуя культурную память, Я. Ассман замечает, что «в отличие от коммуникативной, есть дело мнемотехники, для которой в обществе существуют специальные институты. Культурная память направлена на фиксированные моменты в прошлом. В ней прошлое также не может сохраняться как таковое. Прошлое скорее сворачивается здесь в символические фигуры, к которым прикрепляется воспоминание. <…> Через воспоминание история становится мифом. Это не делает ее нереальной, напротив – только так она становится реальностью в смысле постоянной нормативной и формирующей силы» 4.
Как особо подчеркивает названный автор, «причастность к культурной памяти не является общераспространенной еще и в другом смысле. В противоположность коммуникативной памяти культурная не распространяется сама собою, а нуждается для этого в специальной заботе. Тем самым возникает контроль за распространением, который, с одной стороны, обязывает к участию, с другой стороны, отказывает в праве на участие. Культурная память всегда окружена более или менее строго охраняемыми границами (курсив наш. – В.К.)» 5.
На наш взгляд, выдвинутые Я. Ассманом тезисы относительно природы и сущности культурной памяти (а по сути, «культивируемо-формируемой»!) проливают свет на стратегическую цель Резолюции – внести в систему формирования европейской «культуры памяти» осязаемые элементы управления.
В частности, отмечается «важность перехода от европейской “культуры памяти”, которая ориентирована преимущественно сверху вниз и связана с определением того, что должны помнить европейцы, к “культуре памяти”, ориентированной снизу вверх, на граждан, основанной на общеевропейских принципах и ценностях, сосредоточив внимание на развитии потенциала для критической переработки существующего прошлого на местном, региональном, национальном и европейском уровнях с привлечением организаций гражданского общества» (п. 9).
Следует заметить, что в последние три десятилетия понятия «культура памяти», «историческая память», «культура истории», «практики памяти и коммеморации» включаются в популярные темы междисциплинарных исследований. Увлечение мемориальными изысканиями и коммеморативными практиками приобрело настолько широкий и публичный характер, что нашло свое отражение в учебных планах и программах школ, а также университетов. Подготовка историков данного направления осуществляется во многих крупных учебных заведениях Европы, Северной Америки и Австралии 6.
Говоря о ключевом понятии «культура памяти», надо особо подчеркнуть, что в научном сообществе наблюдается тенденция к усилению интереса к данному понятию. Это подтверждается целым рядом научных публикаций и исследований 7, проблематика которых является в достаточной мере разно образной и многоплановой: от «культуры памяти Холокоста» до «“немецко-фашистского рабства” в советской культуре памяти (1945–1991 гг.)» и др.
Так, например, в научной литературе уделяется повышенное внимание месту и роли событий Холокоста в культуре памяти современного германского общества в рамках политики денацификации. В частности, в статье Д. И. Колесова и О. К. Шиманской акцент делается на анализе развития преподавания темы Холокоста и его составляющих. Рассматриваются актуальные вызовы для немецкой модели культуры памяти о причинах, ходе, итогах Второй мировой войны и Холокоста – кульминации расовых чисток Третьего рейха, в эволюции образовательной политики ФРГ 8.
В свою очередь, А. М. Ермаков проанализировал отражение подневольного труда советских людей на территории гитлеровской Германии и оккупированных ею стран в официальном дискурсе, школьных учебниках истории, историографии, научно-популярной, публицистической и художественной литературе, а также в кинематографе СССР. Названный автор выявил особенности исторической памяти об угоне в Германию, условиях труда и жизни, Сопротивлении советских граждан, привлеченных к принудительному труду 9.
Разнообразные подходы к исследованию культуры памяти в ХХ–XXI вв. являются отражением происходящих изменений в общественной жизни и мышлении. Традиционные представления об исторической памяти и коммеморации во многих аспектах обновляются, эволюционируют. Образы коллективной памяти того или иного общества о героических и трагических событиях минувшего зачастую могут значительно изменяться. Исследования в сфере Memory Studies позволяют больше узнать о менталитете и духовной культуре различных народов, лучше понять их. Таким образом, в современной действительности изучение культуры памяти в целом и взглядов на коммеморацию в частности имеет несомненную практическую направленность 10.
«Общеевропейские ценности». В п. 10 рассматриваемой Резолюции Европарламента говорится о том, что последний признает исключительную важность рассмотрения прошлого Европы на базе основных европейских ценностей, закрепленных в ст. 2 Договора о Европейском Союзе 11, и этических и философских традиций, лежащих в основе этих ценностей.
Принимая во внимание изложенное, целесообразно заметить, что в последние 10–15 лет проблематика, непосредственно связанная с т.н. европейскими ценностями, привлекает к себе внимание российских и зарубежных ученых. Данный факт подтверждается целым рядом научных публикаций и работ, авторы которых занимают различные позиции относительно предмета исследования 12. По этой причине вполне возможно констатировать дискуссионный характер указанной проблематики.
Так, одни исследователи считают, что «наличие определенных ценностей Европейского союза, артикулируемых как на уровне нормативно-правовых документов, так и на уровне европейского общества, сомнений не вызывает» 13, другие – изучают историю формирования европейских ценностей 14. Более того, отдельные авторы ратуют за то, чтобы указанные ценности были интегрированы в процесс совершенствования образования в России 15.
Иные ученые не разделяют вышеприведенные научные позиции, полагая, что существуют только два основных вида культурно-исторических ценностей, а именно национальные (традиционные) ценности и универсальные (общечеловеческие) ценности 16.
Целесообразно подчеркнуть, что отдельные зарубежные исследователи (например, К. Вельцель, Дж. Донелли, М. Игнатьефф) являются сторонниками идеи разделения общечеловеческих ценностей на «западные» и «незападные». При этом они руководствуются тем, что именно представители «незападного» мира выступили в свое время инициаторами признания «европейского» происхождения концепции прав человека и, соответственно, существования «европейских» ценностей.
Более того, ряд ученых и государственных деятелей высказывают мнение, что Всеобщая декларация прав человека 1948 г. базируется в основном на «европейских» ценностях и не является всеобщей, поскольку содержит права и свободы, возникшие и развивающиеся, главным образом, на европейском континенте. Следует особо отметить, что эта позиция не имеет ничего общего с реальностью, поскольку ценности и права, содержащиеся в Декларации, представляют собой вклад различных цивилизаций и культур. Дело в том, что разработка Всеобщей декларации прав человека была поручена Комиссии ООН по правам человека в составе 18 экспертов в 1946 г. В состав Комиссии были включены специалисты из всех региональных групп, представляющих все цивилизации мира, среди которых были ученые не только европейских стран и США, но и таких развивающихся государств, как Китай, Индия, Египет, Уругвай, Чили и др. Названные страны внесли существенный вклад в разработку Декларации 17.
Так, например, по мнению Г. Е. Шкалиной, проб лема ценностей важна на всех исторических этапах становления европейской культуры, начиная с античной и заканчивая современностью. Названный автор считает, что «наследие античности о мире как гармоничном целом, ее фундаментальные категории философии, этики и эстетики и основные формы государственного строя, римское право, христианство как важнейший духовный исток, величие творческого гения Ренессанса, рационализм эпохи Просвещения, мучительные поиски механизмов утверждения демократических прав и свобод человека последующих этапов европейской истории сформировали общее наследие Евросоюза» 18.
Обобщающий вывод, к которому приходит Г. Е. Шкалина, заключается в том, что «история формирования европейских ценностей – это многовековая летопись складывания такой аксиологической системы, которая служит основой идентичности жителей современной Европы. Ее фундамент определяют политико-экономические, правовые, культурные, этические, эстетические, религиозные и другие нормы, получившие фильтрацию многовековой историей европейской интеграции» 19.
Но действительно ли «аксиологическая система», о которой пишет Г. Е. Шкалина, выступает в качестве реальной «основы идентичности жителей современной Европы»? И действительно ли все ее жители стремятся к такой «идентичности», желая пожертвовать самобытной коллективной и индивидуальной идентичностью? И действительно ли все государства современной Европы в равной степени пользуются плодами европейской интеграции?
В частности, как отмечает Ю. А. Щербакова, еще задолго до того, как Чешская Республика в 2004 г. стала членом Европейского Союза, между сторонниками и противниками вступления в ЕС развернулась дискуссия о том, насколько сильно в связи с этим пострадает самобытная коллективная и индивидуальная идентичность граждан. В первое время в обществе преобладали оптимистические взгляды на процессы европейской интеграции. Однако вскоре европейский энтузиазм в чешском обществе сменился риторикой, выдвигающей на первый план возможные угрозы национальному суверенитету 20.
Известно, что после окончания холодной войны и целого ряда так называемых бархатных революций в социалистических странах Центральной и Восточной Европы, когда шел активный процесс евроинтеграции, когда был очень популярен лозунг «Назад, в Европу!», постсоциалистические государства континента попали в сферу влияния Евросоюза и их жители ощутили на себе непосредственное воздействие всего набора «европейских ценностей».
В связи с изложенным С. Уайт, исследователь из Университета Глазго (Великобритания), предлагает идею «империализма ценностей» в качестве способа концептуализации отношений между Европейским Союзом и государствами, попавшими в зону влияния ЕС по завершении холодной войны, в особенности его соседями из Восточной Европы. Как считает указанный ученый, «империализм ценностей» делает специальный акцент на «надстройке», включая нормы, законы и социальные практики. Главная цель ЕС – добиться того, чтобы представления о форме правления, государственного устройства и праве собственности, которые предпочитают доминирующие державы (ЕС и Запад в широком понимании), были воспроизведены подчиненными государствами 21.
С. Уайт делает вывод обобщающего характера о том, что при помощи политики «империализма ценностей» Евросоюз стремился увеличить свое влияние в странах Восточной Европы 22.
Аналогичной точки придерживается также И. Иванов, говоря о том, что европейские ценности, возникнув в качестве морально-нравственных понятий, все чаще начинают получать в Брюсселе уже и свое обязывающее оформление. На смену морали и убеждениям Лиссабонский договор вводит механизмы политического контроля, правоприменения и правопринуждения, причем под угрозой серьезных санкций. Обязательный характер приобретают и примыкают к Лиссабонскому договору также и положения Хартии основных прав Европейского Союза. Они сохраняют обязательность решения Суда ЕС и Суда Совета Европы по правам человека, а в сфере внешней политики все эти решения претендуют ныне даже на экстерриториальность. И. Иванов делает обобщающий вывод: «В итоге, ценности все более лишаются своих утопических и мистических граней, становятся аксиоматическими, априорными, рассчитанными не на убеждение, а на принуждение партнера» 23.
На наш взгляд, сама постановка вопроса о возможном разделении общечеловеческих ценностей на так называемые «западные» и «незападные» (в частности, «европейские», «азиатские», «африканские» и т. д.) по своей сути является не состоятельной в научном отношении, поскольку входит в острое противоречие с природой и сущностью общечеловеческих ценностей, принадлежащих всем людям планеты, независимо от каких-либо различий.
В качестве достаточно «свежего» исследования, автор которого является однозначным сторонником разделения ценностей на «западные» и «незападные», следует привести монографию под названием «Ценностные основания глобального социокультурного изменения» (2022) 24.
Общечеловеческие ценности принадлежат всему человечеству в целом, всем людям, независимо от принадлежности к какой-либо цивилизации, культуре, религии. Общечеловеческие ценности являются универсальными. Они стоят над цивилизационными, религиозными, культурными, гендерными, классовыми и даже языковыми различиями 25.
Конкретный перечень ценностей, приведенный в действующей редакции учредительного договора ЕС, во-первых, свидетельствовал об исчерпании возможностей концепции совместного достояния (acquis communautaire) и в первую очередь был рассчитан на дальнейшее внутреннее развитие интеграционного образования 26; во-вторых, ценности, которые обозначены во второй статье указанного договора, носят универсальный характер. Данное важное обстоятельство подтверждается тем фактом, что они были закреплены гораздо ранее в целом ряде международно-правовых документах универсального уровня (прежде всего речь идет о Всеобщей декларации прав человека и Международных пактах о правах человека).
Итак, как было уже отмечено, ст. 2 Договора о Европейском Союзе гласит, что Союз основан на ценностях:
уважения человеческого достоинства;
Следует отметить, что понятие «человеческое достоинство» («достоинство личности») содержится в следующих международно-правовых документах универсального уровня: Всеобщей декларации прав человека (далее – ВДПЧ); Международном пакте о гражданских и политических правах (далее – МПГПП); Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (далее – МПЭСК); Декларации тысячелетия ООН 27; «Глобальной повестке дня для диалога между цивилизациями» 2001 г. (далее – Глобальная повестка дня 2001 г.); и др.;
свободы;
«Свобода» («свобода личности») – содержится в ВДПЧ; МПГПП; МПЭСКП; Делийской декларации о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира 1986 г.; Декларации тысячелетия ООН; Конвенции о правах ребенка 1989 г.; Итоговом документе Всемирного саммита 2005 г.; и др.;
демократии;
«Демократия» – содержится в ВДПЧ; Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 61/39 «Верховенство права на национальном и международном уровнях» от 4 декабря 2006 г.; и др.;
равенства;
«Равенство» («недискриминация») – содержится в ВДПЧ; МПГПП; МПЭСКП; Декларации тысячелетия ООН; Глобальной повестке дня 2001 г.; Конвенции о правах ребенка 1989 г.; Итоговом документе Всемирного саммита 2005 г.
В ст. 2 Договора о ЕС уточняется, что эти ценности являются общими для государств-членов в рамках общества, характеризующегося
терпимостью;
«Терпимость» – содержится в Декларации тысячелетия ООН; Глобальной повестке дня 2001 г.; Конвенции о правах ребенка 1989 г.; Итоговом документе Всемирного саммита 2005 г.; и др.;
справедливостью;
«Справедливость» – содержится в ВДПЧ; МПГПП; МПЭСКП; Декларация тысячелетия ООН; Глобальной повестке дня 2001 г.; докладе Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам «Более безопасный мир: наша общая ответственность» 2004 г.; и др.;
солидарностью;
«Солидарность» – содержится в Декларации тысячелетия ООН;
и равенством женщин и мужчин.
«Равенство для мужчин и женщин» – содержится в ВДПЧ; МПГПП; МПЭСКП; Глобальной повестке дня 2001 г.
В данной связи следует отметить, что толкования этих понятий государствами не всегда совпадают и зачастую являются прямо противоположными.
* * *
Резолюция Европейского парламента «О европейском историческом сознании» была принята 17 января 2024 г., а уже по прошествии без малого четырех месяцев – 8 мая 2024 г. – Указом Президента РФ были утверждены «Основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения» (далее – Основы).
Думается, что такое своевременное появление Основ – событие отнюдь не случайное и, с нашей точки зрения, есть своеобразный ответ на рассматриваемую Резолюцию. Дело в том, что в текстах этих двух документов есть достаточное число фрагментов, сравнительный анализ содержания и тональности которых однозначно подтверждают данное предположение.
В качестве одной из стратегических целей Резолюции выступают «укрепление саморефлексивного общественного дискурса и содействие взаимопониманию и примирению внутри и между отдельными социальными группами, нациями и государствами (курсив наш. – В.К.)» (п. 3 Резолюции). Одной из главных целей государственной политики в области исторического просвещения в Основах обозначено «сохранение памяти о значимых событиях истории России, включая историю государствообразующего русского народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации, и историю других народов России, исходя из понимания преемственности в развитии Российского государства и его исторически сложившегося единства (курсив наш. – В.К.)» (п/п. «а» п. 8 Основ).
На наш взгляд, «исторически сложившееся единство» Российского государства является в п/п. «а» п. 8 Основ (наряду с другими важнейшими концептами) центральным понятием, раскрывающим самое главное отличие российской истории от истории Европы. Дело в том, что единство Российского государства носит естественный характер, поскольку оно сложилось в результате исторического естественного развития, прошло через определенные стадии исторического процесса, непростые, а порой драматические (трагические) моменты. Можно с уверенностью говорить о том, что единство Российского государства есть не что иное, как продукт естественного (объективного) хода его Истории.
Попытки Европарламента (через укрепление саморефлексивного общественного дискурса) содействовать взаимопониманию и примирению внутри и между отдельными социальными группами, нация ми и государствами, с нашей точки зрения, заранее обречены на провал, так как предлагаемый алгоритм имеет ярко выраженный искусственный характер.
Более того, надо сделать специальный акцент на том важном обстоятельстве, что Европа в Новое и Новейшее время (вплоть до начала 90-х годов (1993 г.)), по сути, никогда не была единой 28.
Принципиальные различия современных цивилизаций по рассматриваемым вопросам в решающей степени определяются не культурно-историческими ценностями, а враждебной внутренней и внешней политикой.
После окончания современного периода международной напряженности неизбежно наступит этап мирного сосуществования и взаимодействия различных культур и этнических групп. Именно благодаря взаимодействию, взаимному восприятию, обучению была создана нынешняя человеческая цивилизация. В процессе ее развития непрерывно осуществлялись взаимодействие, восприятие, заимствование и последующее усвоение достижений различных культур, устранение между ними барьеров и недопонимания. Такое взаимное восприятие культур различных цивилизаций и в дальнейшем будет способствовать поступательному развитию человеческого общества.
1 См.: European Parliament resolution of 17 January 2024 on European historical consciousness (2023/2112(INI)). P9_TA (2024) 0030. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0030_EN.html (дата обращения: 10.09.2024).
2 См.: Шадурский В. Г. От культуры памяти к культуре исторического диалога (на примере деятельности белорусско-польской исторической комиссии) // Беларусь между Востоком и Западом: современные тенденции: материалы международных круглых столов. 2017. С. 75.
3 См.: Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / пер. с нем. М. М. Сокольской. М., 2004. С. 52, 53.
4 Там же. С. 54, 55.
5 Там же. С. 57.
6 См.: Ходнев А. С. Культура памяти и публичная история // Ярославский педагогический вестник. 2015. № 6. С. 218. В данной связи следует отметить, что исследователи гуманитарного знания в прошлом веке от размышлений о теоретических проблемах пришли к практическим вопросам исторической памяти, а также ее передачи и сохранения. Колоссальную роль в данном процессе сыграли исторические катаклизмы столетия, прежде всего трагедии Первой и Второй мировых войн. В ХХ в. целые нации испытали массовый шок, требовавший рефлексии и осмысления. Это привело к зарождению и широкому распространению в гуманитарных науках междисциплинарного направления исследований культуры памяти на стыке истории и культурологии – Memory Studies. Основные вопросы, находящиеся в центре внимания исследователей: проблема взаимоотношений истории и памяти, коллективная память; теория и практика коммеморации, «места памяти»; соотношение традиций и новаций в культуре памяти; национальные особенности культуры памяти (см.: Лесин А. А. Философско-методологические основы культуры исторической памяти // Вестник Белорусского гос. ун-та культуры и искусства. 2022. № 1 (43). С. 13, 16).
7 См.: Ермаков А. М. «Немецко-фашистское рабство» в советской культуре памяти (1945–1991 гг.) // История. Общество. Политика. 2019. № 1 (9). С. 32–46; Колесов Д. И., Шиманская О. К. Культура памяти Холокоста в политике денацификации Германии // Современная Европа. 2019. № 4 (90). С. 164–174; Красильникова Е. В. Память культуры и культура памяти // IX Лазаревские чтения «Лики традиционной культуры в современном культурном пространстве: память культуры и культура памяти»: сб. материалов Междунар. науч. конф. Челябинск, 26 февр. – 2 марта 2020 / сост. Л. Н. Лазарева. Челябинск, 2020. С. 67–69; Лесин А. А. Указ. соч. С. 13–18; Ходнев А. С. Указ. соч. С. 218–221; Шадурский В. Г. Указ. соч. С. 75–85; и др.
8 См.: Колесов Д. И., Шиманская О. К. Указ. соч. С. 164.
9 См.: Ермаков А. М. Указ. соч. С. 32.
10 См.: Лесин А. А. Указ. соч. С. 17.
11 Союз основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности являются общими для государств-членов в рамках общества, характеризующегося плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством женщин и мужчин (см.: Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) (в ред. Лиссабонского договора 2007 г.)).
12 См.: Авилова М. А. Система европейских ценностей: миф или реальность // Общественные науки. 2012. № 4. С. 213–215; Иванов И. Анатомия европейских ценностей // Современная Европа. 2012. № 2 (50). С. 13–23; Миронов В. В. Европейские интересы и европейские ценности: общие перспективы анализа или ложная дихотомия? // Вестник Кемеровского гос. ун-та. 2022. Т. 24. № 3. С. 309–319; Шапаров А. Е., Чувашова Н. И. Миграционный кризис и общеевропейские ценности // Мировоззренческие основания культуры современной России: сб. материалов VIII Междунар. науч. конф. / под ред. В. А. Жилиной. Магнитогорск, 2017. С. 214–217; Шкалина Г. Е. Европейские ценности: история формирования // Вестник Марийского гос. ун-та. Сер. «Исторические науки. Юридические науки». 2020. Т. 6. № 1. С. 69–78; Щербакова Ю. А. Проблема европейских ценностей и национального государства в чешской дискуссии о европейской интеграции // Европеизм и национализм в странах Восточной Европы: сб. науч. тр. М., 2014. С. 107– 126; Уайт С. Европейский Союз, Восточная Европа и «империализм ценностей» // Вестник МГИМО-Университета. 2014. № 4 (37). С. 116–124; и др.
13 Миронов В. В. Указ. соч. С. 317.
14 См.: Шкалина Г. Е. Указ. соч. С. 69–78.
15 См., напр.: Троценко Е. Г. Общеевропейские ценности в процессе совершенствования образования в России // Евроазиатское сотрудничество: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Иркутск, 2017. С. 311–316.
16 См.: Иванов И. Указ. соч. С. 13–23; Карташкин В. А. Универсализация права человека и традиционные ценности человечества // Современное право. 2012. № 8. С. 3–9; Юсупов М. Р. Общечеловеческие ценности и права человека в глобализирующемся мире. М., 2016; и др.
17 См.: Всеобщая декларация прав человека и ее значение в современном мире. Интервью с Владимиром Алексеевичем Карташкиным, главным научным сотрудником Института государства и права Российской академии наук, доктором юридических наук, профессором, Заслуженным юристом Российской Федерации // Современное право. 2019. № 1. С. 126, 127.
18 Шкалина Г. Е. Указ. соч. С. 69.
19 Там же. С. 77.
20 См.: Щербакова Ю. А. Указ. соч. С. 107.
21 См.: Уайт С. Указ. соч. С. 116. Названный автор пишет о том, что основа отношений подчинения была установлена Соглашениями о партнерстве и сотрудничестве, которые ЕС стал заключать с 1994 г. В русле концепции «империализма ценностей» также были сформулированы Общие стратегии ЕС по России и Украине, принятые в 1999 г. Названный автор приводит ряд примеров, когда Евросоюз напрямую вмешивался во внутренние дела стран Восточной Европы в манере, которая не всегда была совместима с принципом государственного суверенитета, в частности: а) учрежденный в 2006 г. «Европейский инструмент в области демократии и прав человека»; б) вмешательство представителей ЕС в работу местных судов; в) организация экзитполов, которые могут быть использованы для дискредитации официальных результатов выборов и, таким образом, для подрыва позиций действующих органов власти указанных стран.
22 См.: там же.
23 Иванов И. Указ. соч. С. 15.
24 См: Атаян В. В. Ценностные основания глобального социокультурного изменения. Ростов н/Д., 2022. В частности, В. В. Атаян утверждает, что традиционные незападные ценности, несмотря на свои географические и этнорелигиозные отличия, по своему содержанию оказываются друг к другу гораздо более близкими, нежели по отношению к современной западной ценностной ориентации, репрезентирующей зачастую диаметрально противоположный аксиологический контент. Глобальная западная ценностная ориентация нередко предлагает другим народам ранее невиданную палитру ценностей и смыслов: отсутствие пола как социокультурного явления, отрицание семьи как ценности, по сути низвержение таких ценностей, как Родина и культурное наследие этносов и т.д. Безусловно, это обстоятельство также становится вызовом для многих социумов (см.: там же. С. 5).
25 См.: Предварительное исследование по вопросу о поощрении прав человека и основных свобод путем более глубокого понимания традиционных ценностей человечества, подготовленное проф. Владимиром Карташкиным, докладчиком редакционной группы Консультативного комитета Совета по правам человека // Doc. UN A/HRC/AC/8/4. – 8 December 2011.
26 См.: Миронов В. В. Указ. соч. С. 309.
27 См.: Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята Резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/ decl_conv/declarations/summitdecl.shtml (дата обращения: 10.07.2024).
28 Например, перед Первой мировой войной шесть крупнейших европейских государств были разделены на два военно-политических блока: «Тройственный союз» (Германия, Австро-Венгрия и Италия) и «Антанта» (Великобритания, Франция и Россия).
Sobre autores
Vladimir Kartashkin
Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences
Autor responsável pela correspondência
Email: v.kartashkin@mail.ru
Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Chief Researcher
Rússia, 10 Znamenka str., 119019 MoscowBibliografia
- Avilova M. A. The system of European values: myth or reality // Social Sciences. 2012. No. 4. Pp. 213–215 (in Russ.).
- Assman Ya. Cultural memory. Writing, memory of the past and political identity in the high cultures of antiquity / transl. from German by M. M. Sokolskaya. M., 2004. Pp. 52–55, 57 (in Russ.).
- Atayan V. V. Value foundations of global socio-cultural change. Rostov-on-Don, 2022. P. 5 (in Russ.).
- The Universal Declaration of Human Rights and its signifi cance in the modern world. Interview with Vladimir Alekseevich Kartashkin, Chief Researcher at the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation // Modern Law. 2019. No. 1. Pp. 126, 127 (in Russ.).
- Ermakov A. M. “German fascist slavery” in the Soviet culture of memory (1945–1991) // History. Society. Politics. 2019. No. 1 (9). Pp. 32–46 (in Russ.).
- Ivanov I. Anatomy of European values // Modern Europe. 2012. No. 2 (50). Pp. 13–23 (in Russ.).
- Kartashkin V. A. Universalization of human rights and traditional values of mankind // Modern Law. 2012. No. 8. Pp. 3–9 (in Russ.).
- Kolesov D. I., Shimanskaya O. K. Culture of Holocaust memory in the policy of denazification of Germany // Modern Europe. 2019. No. 4 (90). Pp. 164–174 (in Russ.).
- Krasilnikova E. V. Memory of culture and culture of memory // IX Lazarev readings “Faces of traditional culture in modern cultural space: memory of culture and culture of memory”: collection of materials of the International Scientific Conference. Chelyabinsk, February 26 – March 2, 2020 / comp. L. N. Lazareva. Chelyabinsk, 2020. Pp. 67–69 (in Russ.).
- Lesin A. A. Philosophical and methodological foundations of the culture of historical memory // Herald of the Belarusian State University of Culture and Art. 2022. No. 1 (43). Pp. 13–18 (in Russ.).
- Mironov V. V. European interests and European values: general perspectives of analysis or a false dichotomy? // Herald of the Kemerovo State University. 2022. Vol. 24. No. 3. Pp. 309–319 (in Russ.).
- Trotsenko E. G. Pan-European values in the process of improving education in Russia // Eurasian cooperation: materials of the International Scientific and Practical Conference. Irkutsk, 2017. Pp. 311–316 (in Russ.).
- White S. The European Union, Eastern Europe and “imperialism of values” // Herald of MGIMO University. 2014. No. 4 (37). Pp. 116–124 (in Russ.).
- Khodnev A. S. Culture of memory and public history // Yaroslavl Pedagogical Herald. 2015. No. 6. Pp. 218–221 (in Russ.).
- Shadursky V. G. From the culture of memory to the culture of historical dialogue (on the example of the activities of the Belarusian-Polish historical Commission) // Belarus between East and West: modern trends: materials of international round tables. 2017. Pp. 75–85 (in Russ.).
- Shaparov A. E., Chuvashova N. I. Migration crisis and pan-European values // Ideological foundations of the culture of modern Russia: collection of materials of the VIII International Scientific Conference / ed. by V. A. Zhilina. Magnitogorsk, 2017. Pp. 214–217 (in Russ.).
- Shkalina G. E. European values: the history of formation // Herald of the Mari State University. Ser. “Historical sciences. Legal sciences”. 2020. Vol. 6. No. 1. Pp. 69–78 (in Russ.).
- Shcherbakova Yu. A. The problem of European values and the national state in the Czech discussion on European integration // Europeism and nationalism in Eastern Europe: collection of scientific works. M., 2014. Pp. 107–126 (in Russ.).
- Yusupov M. R. Universal human values and human rights in a globalizing world. M., 2016 (in Russ.).
Arquivos suplementares