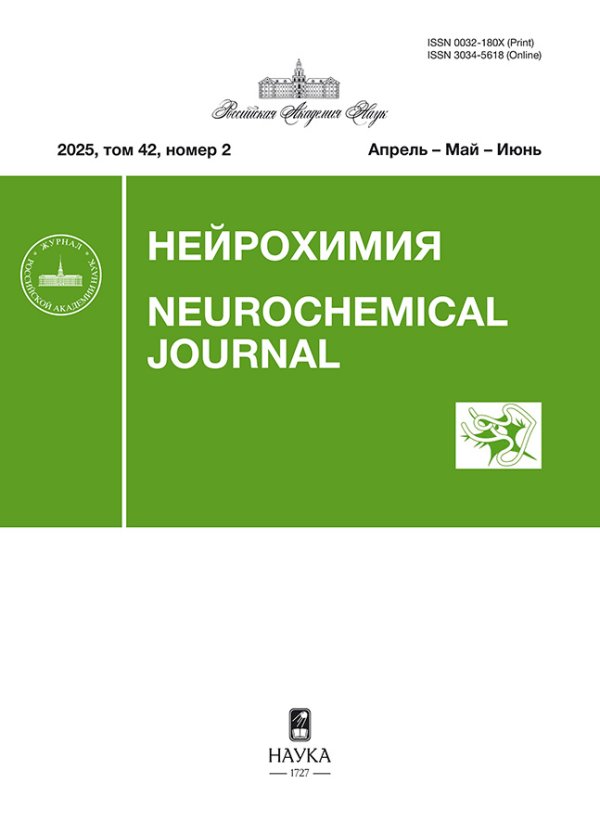Pilot study of the DRD3, GHRL, FTO, LEPR, INSIG2, GSTP1, ABCB1 genes expression in peripheral blood leukocytes in schizophrenic patients with metabolic syndrome
- Authors: Boiko A.S.1, Paderina D.Z.1, Mikhalitskaya E.V.1, Kornetova E.G.1,2, Bokhan N.A.1,3, Ivanova S.A.1,2
-
Affiliations:
- Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences
- Educational Institution of Higher Education “Siberian State Medical University” of the Ministry of Health of the Russian Federation
- National Research Tomsk State University
- Issue: Vol 41, No 1 (2024)
- Pages: 37-43
- Section: Clinical Neurochemistry
- URL: https://journal-vniispk.ru/1027-8133/article/view/259334
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1027813324010052
- EDN: https://elibrary.ru/GZDJUZ
- ID: 259334
Cite item
Full Text
Abstract
Many individuals with schizophrenia also suffer from metabolic syndrome (MetS), which is a major risk factor for the development of cardiovascular diseases associated with a heavy burden of disease, as well as with premature death of patients. This study investigated the expression of 7 genes potentially important for the development of metabolic syndrome. QuantiGene Plex 2.0 technology was used to measure how 7 studied genes (DRD3, GHRL, FTO, LEPR, INSIG2, GSTP1, ABCB1 (MDR1)) were expressed by leukocytes in 60 recently admitted patients with schizophrenia who had been on treatment with antipsychotic drugs. The preliminary results of our study show a change in the expression of the FTO gene in schizophrenia male with metabolic disorders, however, further studies are needed to determine the role of disturbances in the expression of this gene in the development of the metabolic syndrome in patients with schizophrenia.
Keywords
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Частота встречаемости метаболического синдрома (МС) у больных шизофренией, получающих антипсихотическую терапию, колеблется от 28 до 46% [1–3], а ожирения – от 16,4 до 48,9% [4, 5]. МС связан с сердечно-сосудистыми факторами, что увеличивает риск преждевременной смерти у пациентов с психическими расстройствами. Гормональные регуляторы метаболизма и кодирующие их гены могут давать информацию о патогенезе и рассматриваться как потенциальные биомаркеры предрасположенности к развитию метаболического синдрома и нарушений жирового обмена [6, 7].
Достаточно хорошо изучены гены дофаминовых рецепторов, кодирующие белки, которые обеспечивают адекватную передачу сигналов нейротрансмиттеров в восходящих дофаминергических путях из среднего мозга. Эти пути связывают области волокон, которые играют важную роль в мотивации, управляемом мышлении и системе вознаграждения, причем последняя также играет значимую роль в регуляции чувства насыщения и голода [8]. Антипсихотические препараты действуют в этих областях, в том числе блокируя D3-рецепторы, снижая уровень дофамина и, следовательно, уменьшая психотические симптомы. Однако они также могут приводить к когнитивному истощению и метаболическим изменениям [9]. Ген DRD3 кодирует белок, который в результате альтернативного сплайсинга имеет разные изоформы. Ген D2-рецепторов (DRD2) также может быть вовлечен в патогенез метаболических нарушений у больных шизофренией. Было показано, что функциональный полиморфизм rs1799732 гена DRD2 ассоциирован с лекарственно-индуцированным метаболическим синдромом у женщин [10]. Имеются данные также о влиянии гена DRD3 на изменение уровня триглицеридов, одного из компонентов метаболического синдрома, у больных с психическими расстройствами [11].
Грелин представляет собой пептидный гормон из 28 аминокислот, который вырабатывается в основном в желудке. Он является гормональным регулятором и оказывает множество биологических эффектов, наиболее известным из которых является усиление чувства голода [12–14]. Интересно, что грелин также участвует в циркадной регуляции гомеостатического питания [15], а периферически секретируемый гормон участвует в гедонически мотивированной тяге к еде [16]. Ген GHRL кодирует белок, который расщепляется с образованием двух пептидов (грелина и обестатина). Грелин секретируется в двух формах: менее 10% ацилируется и связывается с рецептором 1а, стимулирующим секрецию гормона роста (GHSR1a). Остаток не ацилируется и реагирует с неизвестным пока рецептором.
Белок, кодируемый геном FTO (ассоциированным с жировой массой и ожирением), можно считать одним из важнейших ферментов, удаляющих остатки N6-метиладенозина из молекулы РНК [17, 18]. Хотя ген FTO кодирует РНК-деметилазу, вероятно, это не является его основной ролью в возникновении ожирения. Изучена анимальная модель на мышах с дефицитом FTO: у мышей наблюдалась постнатальная задержка роста и снижение потребления пищи с уменьшением жировой ткани [19, 20]. В соответствии с этим, сверхэкспрессия FTO индуцирует увеличение жировой ткани [21].
В настоящее время существуют различные литературные данные, свидетельствующие об ассоциации полиморфизмов гена рецептора лептина (LEPR) с увеличением веса и лекарственно-индуцированным метаболическим синдромом [13, 22, 23]. Кроме того, LEPR ранее ассоциировался с увеличением веса и ИМТ (индекс массы тела) у пациентов с психическими расстройствами [24]. Было высказано предположение, что короткая изоформа LEPRa отвечает за транспорт лептина через ГЭБ (гематоэнцефалический барьер), а длинная изоформа LEPRb является рецептором, ответственным за передачу сигнала в нейронах гипоталамуса [25]. Лептин является одним из основных гормональных сигнализаторов от жировой ткани к другим тканям, включая центральную нервную систему [26]. В основном он продуцируется зрелыми адипоцитами белой жировой ткани на основе экспрессии гена LEP. Ранее мы исследовали 4 полиморфизма этого гена и обнаружили, что генотипы и аллели варианта rs3828942 имеют значимую связь с развитием МС [23].
Инсулин-индуцирующий ген (INSIG2) кодирует белок из 225 аминокислотных остатков, который играет важную роль в ингибировании синтеза холестерина и других липидов в адипоцитах [27]. INSIG2 играет важную регулирующую роль в дифференцировке адипоцитов, гомеостазе холестерина, липогенезе и метаболизме глюкозы [28].
Глутатион-S-трансфераза Р (GSTP) относится к суперсемейству ферментов, катализирующих реакцию конъюгации восстановленного глутатиона с различными ксенобиотиками, включая канцерогены, антибиотики, нейролептики и продукты окислительного процесса [29, 30]. Имеются данные о том, что дисбаланс между активными формами кислорода и антиоксидантами может быть связан с резистентностью к инсулину как у мышей, так и у людей [31, 32]. Было высказано предположение, что окислительный стресс также может быть связан с патогенезом МС [33]. Таким образом, функциональные полиморфизмы гена GSTP1 можно рассматривать как потенциальные генетические маркеры фактора риска развития ожирения и антипсихотик-индуцированного МС.
Транспортер P-гликопротеина (P-gp), кодируемый АТФ-связывающим геном (ABCB1), также известным как ген множественной лекарственной устойчивости (MDR1), представляет собой трансмембранный белок, экспрессируемый на гематоэнцефалическом барьере. Он транспортирует проникшие химические вещества обратно из головного мозга в кровоток, в связи с чем ABCB1 часто рассматривается как фармакогенетический маркер ответа на терапию и развития побочных эффектов [34–37].
Несмотря на то что ассоциативных исследований между генетическими полиморфизмами и метаболическим синдромом в литературе достаточно много, отсутствуют работы по изучению экспрессии генов, ассоциированных с развитием ожирения и метаболического синдрома при шизофрении. В связи с этим целью нашего пилотного исследования является оценка экспрессии генов в лейкоцитах периферической крови больных шизофренией с метаболическим синдромом и без него.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 60 больных шизофренией русской национальности, проживающие в регионе Сибири, которые были госпитализированы в клиники НИИ психического здоровья Томского НИМЦ. Основные критерии включения пациентов в исследование: верифицированный диагноз шизофрения (F20 согласно МКБ-10), возраст 18–60 лет, информированное согласие пациента, отсутствие органической патологии и тяжелых соматических нарушений, приводящих к органной недостаточности. Оценивалась антипсихотическая и сопутствующая терапия, получаемая на момент обследования, а также предшествующая терапия в течение предыдущих шести месяцев. Общая антипсихотическая нагрузка была приведена к единообразию в перерасчете на хлорпромазиновый эквивалент (ХПЭ). Все пациенты принимали антипсихотики второго поколения (рисперидон, оланзапин, кветиапин). Для постановки диагноза МС были выбраны критерии, предложенные Международной Федерацией сахарного диабета (IDF, 2005 г.).
У исследуемых лиц кровь брали утром натощак. Для выделения РНК использовали пробирки RNAgard Blood Tubes с реагентом RNAgard Blood (Biomatrica, США). Определение экспрессии 7 исследуемых генов (DRD3, GHRL, FTO, LEPR, INSIG2, GSTP1, ABCB1 (MDR)) и 3 генов “домашнего хозяйства” (GAPDH, POLR2A, RPS200) проводили с применением технологии QuantiGene Plex 2.0 (Thermo Fisher Scientific, США). Анализ QuantiGene Plex позволяет проводить мультиплексное измерение экспрессии генов путем комбинирования амплификации сигнала разветвленной ДНК с xMAP-технологией определения нескольких аналитов в небольшом количестве образца с использованием флуоресцирующих магнитных частиц. Результирующий сигнал флуоресценции зависит от индивидуальной окраски магнитных микросфер, которую мы детектировали на мультиплексных анализаторах Magpix и Luminex 200 (Luminex, США) (ЦКП “Медицинская геномика”, Томский НИМЦ). Сигнал регистрируется как средняя интенсивность флуоресценции (median fluorescence intensity – MFI) и пропорционален количеству молекул таргетной РНК, присутствующих в образце. Полученные результаты MFI нормализовали в соответствии с генами “домашнего хозяйства”, принятыми за эталонные. Гены “домашнего хозяйства” (housekeeping genes – HKG) – гены, которые экспрессируются практически во всех тканях и клетках на относительно постоянном уровне и функционируют повсеместно, на всех стадиях жизненного цикла организма. Нормализация проводилась путем вычитания среднего фонового сигнала для каждого гена, деления на среднее геометрическое сигнала, полученного для трех эталонных генов и умножения на 100%.
Статистическую обработку данных проводили с помощью SPSS Statistics (версия 23, для Windows). Данные проверяли на соответствие нормальному закону распределения с помощью критерия Шапиро – Уилка. Для независимых переменных, не соответствующих нормальному распределению, значимость различий определяли с помощью U-критерия Манна – Уитни с расчетом медианы и квартилей (Me [Q1; Q3]). Для данных, соответствующих закону нормального распределения, значимые различия определяли по t-критерию Стьюдента с вычислением среднего и стандартного отклонения (SD). Тест хи-квадрат был использован для анализа категориальных переменных. Различия считались статистически значимыми при уровне значимости р < 0.05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Было проведено комплексное клиническое и лабораторное обследование 60 больных параноидной шизофренией, длительно получавших антипсихотическое лечение. Пациенты были разделены на две группы: 45 человек без метаболических нарушений и 15 лиц с МС. В табл. 1 представлены основные демографические и клинические характеристики исследуемых групп пациентов.
Таблица 1. Демографические и клинические характеристики исследуемой выборки
Параметр | Пациенты без МС (n = 45) | Пациенты с МС (n = 15) | p-value |
Возраст, лет (Me [Q1; Q3]) | 35 [30.5; 40.5] | 43 [33; 49] | 0.045* |
Пол Мужчины, n, % Женщины, n, % | 25 (55.6%) 20 (44.4%) | 8 (53.33%) 7 (46.67%) | 0.829 |
Длительность шизофрении, лет (Me [Q1; Q3]) | 8 [3; 13.9] | Менее 0.001* | |
ХПЭ, мкг (Me [Q1; Q3]) | 325.65 [200.05; 520] | 451.9 [209.85; 755.75] | Менее 0.085 |
ИМТ, (Me [Q1; Q3]) | 24 [21.73; 28.25] | 31.15 [26.69; 35.795] | Менее 0.001* |
Обхват талии, см (M ± SD) | 85.8 ± 13.085 | 105.32 ± 11.986 | Менее 0.001** |
* Значимость различий согласно U-критерию Манна–Уитни.
** Значимость различий согласно t-критерию Стьюдента.
Примечание: МС – метаболический синдром; ХПЭ – хлорпромазиновый эквивалент; ИМТ – индекс массы тела; Me [Q1; Q3] – медиана и квартили (первый (верхний) и третий (нижний)); M ± SD – среднее и стандартное отклонение.
Пациенты с метаболическим синдромом значимо старше, длительнее болеют шизофренией и имеют более высокие значения индекса массы тела и окружности талии по сравнению с пациентами без МС.
При оценке экспрессии исследуемых генов у больных шизофренией с МС и без метаболических нарушений не было выявлено значимых различий (табл. 2).
Таблица 2. Экспрессия генов у больных шизофренией с МС и без него (Me [Q1; Q3])
Ген | Пациенты без МС (n = 45) | Пациенты с МС (n = 15) | p-value |
DRD3 | 8.26% [5.755; 13.535] | 5.99% [4.15; 22.49] | 0.980 |
GHRL | 2.7% [2.145; 3.68] | 2.25% [1.91; 2.95] | 0.094 |
FTO | 0.39% [0.305; 0.48] | 0.43% [0.22; 0.615] | 0.677 |
GSTP1 | 14.62% [13.08; 18.35] | 13.44% [11.18; 18.03] | 0.343 |
LEPR | 0.87% [0.54; 1.35] | 1.02% [0.75; 1.23] | 0.449 |
INSIG2 | 1.61% [1.145; 2.19] | 1.38% [0.93; 2.1] | 0.352 |
ABCB1 | 0.52% [0.21; 0.8] | 0.5% [0.26; 0.83] | 0.806 |
При дальнейшем анализе результатов исследуемая выборка была разделена в зависимости от пола пациентов (табл. 3 и табл. 4).
Таблица 3. Экспрессия генов у больных шизофренией женского пола с МС и без него (Me [Q1; Q3])
Ген | Женщины без МС (n = 20) | Женщины с МС (n = 7) | p-value |
DRD3 | 10.285% [6.085; 14.56] | 4.96% [3.87; 22.49] | 0.347 |
GHRL | 3.32% [2.14; 4.015] | 2.25% [1.98; 3.41] | 0.245 |
FTO | 0.4% [0.35; 0.49] | 0.22% [0.14; 0.45] | 0.088 |
GSTP1 | 15.375% [13.26; 18.82] | 15.15% [10.81; 18.18] | 0.472 |
LEPR | 0.96% [0.63; 1.415] | 0.995% [0.6975; 1.2275] | 0.976 |
INSIG2 | 1.645% [1.245; 2.09] | 1.1% [0.25; 2.17] | 0.268 |
ABCB1 | 0.46% [0.19; 0.8] | 0.495% [0.31; 0.628] | 0.968 |
Таблица 4. Экспрессия генов у больных шизофренией мужского пола с МС и без него (Me [Q1; Q3])
Ген | Мужчины без МС (n = 25) | Мужчины с МС (n = 8) | p-value |
DRD3 | 7.83% [5.32; 11.74] | 12.745% [4.61; 22.95] | 0.355 |
GHRL | 2.7% [2.1; 3.29] | 2.165% [1.798; 2.735] | 0.153 |
FTO | 0.37% [0.21; 0.48] | 0.61% [0.43; 0.64] | 0.041* |
GSTP1 | 14.31% [12.275; 17.82] | 13.27% [12.44; 17.885] | 0.674 |
LEPR | 0.7% [0.49; 1.35] | 1.025% [0.735; 1.485] | 0.425 |
INSIG2 | 1.51% [1.065; 2.29] | 1.45% [1.2; 2.09] | 0.862 |
ABCB1 | 0.545% [0.21; 0.858] | 0.5% [0.25; 0.9] | 0.725 |
* Статистически значимые различия согласно U-критерию Манна – Уитни.
У больных шизофренией женского пола не было выявлено значимых различий в уровнях экспрессии исследуемых генов, в то время как у пациентов мужского пола наблюдаются значимые изменения.
Мужчины с МС имеют более высокий уровень экспрессии гена FTO по сравнению с пациентами мужского пола без МС (р = 0.041) (см. табл. 4).
В данном пилотном исследовании была впервые проведена оценка экспрессии 7 генов, потенциально важных для развития метаболического синдрома, в лейкоцитах периферической крови у пациентов с шизофренией, длительно получавших антипсихотические препараты. Лейкоциты представляются доступной, адекватной и перспективной моделью и могут применяться для изучения таких процессов, как развитие метаболических нарушений или, например, процессов иммуновоспаления с возможностью оценки функций значимых в каждом случае экспрессируемых на периферии генов (а не только ассоциаций полиморфизмов). Ген FTO связан с жировой массой и ожирением. Увеличение экспрессии этого гена у пациентов мужского пола с метаболическим синдромом может представлять интерес и иметь значение в развитии метаболического дисбаланса при психических расстройствах.
Ген FTO представляет собой относительно недавно обнаруженный ген, связанный с ожирением и экспрессируемый в различных тканях человеческого тела, особенно с высокой экспрессией в головном мозге. FTO участвует в ряде биологических процессов, включая не только ожирение, но и функционирование мозга [38]. В частности, недавние исследования показали, что FTO, представляющий собой деметилазу N6-метиладенозина (m6A), может влиять на функции мозга посредством модификации m6A мРНК, что демонстрирует потенциальную роль гена FTO в шизофрении посредством регуляции модификации m6A генов, связанных с дофамином [39].
Пост-полногеномный функциональный анализ позволил обнаружить общие генетические пути между метаболическими и психическими расстройствами и выявил 86 дифференциально экспрессируемых генов, которые были расположены в разных областях мозга и периферической крови при диабете 2-го типа и психических расстройствах, при этом центральными генами выявленной перекрестной сети являлись гены FTO и TCF7L2 [38].
В наших предыдущих работах мы исследовали связь полиморфизмов генов, связанных с метаболическим синдромом и ожирением [7, 23, 40]. Так, было установлено, что полиморфные варианты (rs9939609, rs1421085, rs3751812, rs8050136) гена FTO обнаруживают достоверную ассоциацию с индексом массы тела у 517 больных шизофренией, получавших антипсихотические препараты и тенденции для связи с окружностью талии (отражающей центральное ожирение).
В проведенном нами исследовании была впервые выявлена гендерная специфичность экспрессии гена FTO клетками периферической крови у больных шизофренией с метаболическим синдромом. В ряде других исследований, выполненных на пациентах с непсихической патологией, были также продемонстрированы половые различия в носительстве полиморфизмов и экспрессии гена, например, была выявлена ассоциация rs1075440 гена FTO с уровнями лептина в плазме у мужчин [41], а также выявлены ассоциации полиморфизмов гена FTO с индексом массы тела у мужчин [42].
Ограничениями настоящего исследования является факт, что кровь для оценки экспрессии генов брали в первые дни поступления в клинику, но мы не учитывали влияние предшествующей поддерживающей антипсихотической терапии, которую пациенты получали на протяжении всей продолжительности болезни, а также комплаентность пациента. Кроме того, группы с и без МС отличаются по возрасту (риск МС повышается с возрастом) и длительности заболевания (вероятность развития МС выше по мере увеличения длительности приема антипсихотических средств). Полученные результаты являются предварительными и нуждаются в дальнейшей проверке в связи с имеющимися ограничениями, наиболее перспективным представляется проспективное исследование пациентов с первым эпизодом, получающих лечение одним и тем же антипсихотическим средством.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пилотные результаты оценки экспрессии генов в периферической крови больных шизофренией позволили выявить более высокий уровень экспрессии гена FTO, ассоциированного с жировой массой и ожирением, у пациентов мужского пола с метаболическими нарушениями по сравнению с мужчинами без МС. Необходимо дальнейшее изучение молекулярно-генетических факторов развития МС и механизмов влияния антипсихотиков на метаболические параметры в целях оценки риска метаболических нарушений и реализации персонализированного подхода к терапевтической тактике пациентов.
БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы выражают благодарность Медновой Ирине Андреевне за помощь в определении биохимических параметров, необходимых для критериев диагностики метаболического синдрома.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
Исследование выполнено в рамках государственного задания, тема НИР: “Биопсихосоциальные механизмы патогенеза и клинического полиморфизма, адаптационный потенциал и предикторы эффективности терапии у больных с психическими и поведенческими расстройствами в регионе Сибири”, номер госрегистрации 122020200054-8.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Этическое одобрение. Протокол исследования, согласно которому осуществлялся отбор пациентов, утвержден комитетом по Биомедицинской этике НИИ психического здоровья Томского НИМЦ (№ 101 от 13 июня 2017 г.).
Информированное согласие. Исследование проводилось с учетом этических норм и обязательным подписанием информированного согласия всех участников. Участники исследования могли в любой момент отказаться от участия по любой причине (согласно Хельсинкской декларации) или быть исключенными при наличии критерий исключений.
About the authors
A. S. Boiko
Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences
Email: ivanovaniipz@gmail.com
Russian Federation, Tomsk
D. Z. Paderina
Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences
Email: ivanovaniipz@gmail.com
Russian Federation, Tomsk
E. V. Mikhalitskaya
Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences
Email: ivanovaniipz@gmail.com
Russian Federation, Tomsk
E. G. Kornetova
Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences; Educational Institution of Higher Education “Siberian State Medical University” of the Ministry of Health of the Russian Federation
Email: ivanovaniipz@gmail.com
Russian Federation, Tomsk; Tomsk
N. A. Bokhan
Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences; National Research Tomsk State University
Email: ivanovaniipz@gmail.com
Russian Federation, Tomsk; Tomsk
S. A. Ivanova
Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences; Educational Institution of Higher Education “Siberian State Medical University” of the Ministry of Health of the Russian Federation
Author for correspondence.
Email: ivanovaniipz@gmail.com
Russian Federation, Tomsk; Tomsk
References
- Sugawara N., Yasui-Furukori N., Sato Y., Umeda T., Kishida I., Yamashita H., Saito M., Furukori H., Nakagami T., Hatakeyama M., Nakaji S., Kaneko S. // Schizophr. Res. 2010. V. 123 (2–3). P. 244–250.
- Lee J., Nurjono M., Wong A., Salim A. // Ann. Acad. Med. Singap. 2012. V. 41(10). P. 457–462.
- Kornetova E.G., Kornetov A.N., Mednova I.A., Goncharova A.A., Gerasimova V.I., Pozhidaev I.V., Boiko A.S., Semke A.V., Loonen A.J.M., Bokhan N.A., Ivanova S.A. // Front. Psychiatry. 2021. V. 12. P. 661174.
- Tian Y., Liu D., Wang D., Wang J., Xu H., Dai Q., Andriescue E.C., Wu H.E., Xiu M., Chen D., Wang L., Chen Y., Yang R., Wu A., Wei C.W., Zhang X. // Schizophr. Res. 2020. V. 215. P. 270–276.
- Sugai T., Suzuki Y., Yamazaki M., Shimoda K., Mori T., Ozeki Y., Matsuda H., Sugawara N., Yasui-Furukori N., Minami Y., Okamoto K., Sagae T., Someya T. // PLoS One. 2016. V. 11(11). e0166429.
- Sneller M.H., de Boer N., Everaars S., Schuurmans M., Guloksuz S., Cahn W., Luykx J.J. // Front. Psychiatry. 2021. V. 12. P. 625935.
- Boiko A.S., Mednova I.A., Kornetova E.G., Goncharova A.A., Semke A.V., Bokhan N.A., Ivanova S.A. // J. Pers. Med. 2022. V. 12. P. 1655.
- Pinto J.A.F., Freitas P.H.B., Nunes F.D.D., Granjeiro P.A., Santos L.L.D., Machado R.M. // Rev. Lat. Am. Enfermagem. 2018. V. 26. e2983.
- Kegeles L.S., Abi-Dargham A., Frankle W.G., Gil R., Cooper T.B., Slifstein M. // Arch. Gen. Psychiatry. 2010. V. 67(3). P. 231–239.
- Paderina D.Z., Boiko A.S., Pozhidaev I.V., Bocharova A.V., Mednova I.A., Fedorenko O.Y., Kornetova E.G., Loonen A.J.M., Semke A.V., Bokhan N.A., Ivanova S.A. // J. Pers. Med. 2021. V. 11(3). P. 181.
- Chang T.T., Chen S.L., Chang Y.H., Chen P.S., Chu C.H., Chen S.H., Huang S.Y., Tzeng N.S., Wang L.J., Wang T.Y., Li C.L., Chung Y.L., Hsieh T.H., Lee I.H., Chen K.C., Yang Y.K., Hong J.S., Lu R.B., Lee S.Y. // Medicine (Baltimore). 2016. V. 95(24). e3488.
- Lee J.H., Cho J. // Sleep Med. Clin. 2022. V. 17. P. 111–116.
- Jin H., Meyer J.M., Mudaliar S., Jeste D.V. // Schizophr. Res. 2008. V. 100. P. 70–85.
- Goetz R.L., Miller B.J. // Schizophr. Res. 2019. V. 206. P. 21–26.
- Koop S., Oster H. // The FEBS Journal. 2022. V. 289. P. 6543–6558.
- Davis J. // Brain Research. 2018. V. 1693 (B). P. 154–158.
- Zhou Y., Kong Y., Fan W., Tao T., Xiao Q., Li N., Zhu X. // Biomed. Pharmacother. 2020. V. 131. P. 110731.
- He P.C., He C. // EMBO J. 2021. V. 40(3). e105977.
- Fischer J., Koch L., Emmerling C., Vierkotten J., Peters T., Brüning J.C., Rüther U. // Nature. 2009. V. 458(7240). P. 894–898.
- Gao X., Shin Y.H., Li M., Wang F., Tong Q., Zhang P. // PLoS One. 2010. V. 5(11). e14005.
- Church C., Moir L., McMurray F., Girard C., Banks G.T., Teboul L., Wells S., Brüning J.C., Nolan P.M., Ashcroft F.M., Cox R.D. // Nat. Genet. 2010. V. 42(12). P. 1086–1092.
- Vasudev K., Choi Y.H., Norman R., Kim R.B., Schwarz U.I. // Can. J. Psychiatry. 2017. V. 62(2). P. 138–149.
- Boiko A.S., Pozhidaev I.V., Paderina D.Z., Mednova I.A., Goncharova A.A., Fedorenko O.Y., Kornetova E.G., Semke A.V., Bokhan N.A., Loonen A.J.M., Ivanova S.A. // Genes. 2022. V. 13. P. 844.
- Gregoor J.G., van der Weide J., Mulder H., Cohen D., van Megen H.J., Egberts A.C., Heerdink E.R. // J. Clin. Psychopharmacol. 2009. V. 29(1). P. 21–25.
- Banks W.A. // Compr. Physiol. 2021. V. 11(4). P. 2351–2369.
- Wada N., Hirako S., Takenoya F., Kageyama H., Okabe M., Shioda S. // J. Chem. Neuroanat. 2014. V. 61–62. P. 191–199.
- Yan R., Cao P., Song W., Li Y., Wang T., Qian H., Yan C., Yan N. // Cell Rep. 2021. V. 35. P. 109299.
- Dong X.Y., Tang S.Q. // Peptides. 2010. V. 31. P. 2145–2150.
- Hayes J.D., Strange R.C. // Pharmacology. 2000. V. 61. P. 154–166.
- Park Y.M., Lee H.J., Kang S.G., Choi J.E., Cho J.H., Kim L. // Psychiatry Investig. 2010. V. 7(2). P. 147–152.
- Fridlyand L.E., Philipson L.H. // Diabetes Obes. Metab. 2006. V. 8. P. 136–145.
- Houstis N., Rosen E.D., Lander E.S. // Nature. 2006. V. 440. P. 944–948.
- Lee Y.S., Kim A.Y., Choi J.W., Kim M., Yasue S., Son H.J., Masuzaki H., Park K.S., Kim J.B. // Mol. Endocrinol. 2008. V. 22. P. 2176–2189.
- Marzolini C., Paus E., Buclin T., Kim R.B. // Clin. Pharmacol. Ther. 2004. V. 75(1). P. 13–33.
- Macdonald N., Gledhill A. // Arch. Toxicol. 2007. V. 81(8). P. 553–563.
- Geers L.M., Pozhidaev I.V., Ivanova S.A., Freidin M.B., Schmidt A.F., Cohen D., Boiko A.S., Paderina D.Z., Fedorenko O.Y., Semke A.V., Bokhan N.A., Wilffert B., Kosterink J.G.W., Touw D.J., Loonen A.J.M. // Br.J. Clin. Pharmacol. 2020. V. 86(9). P. 1827–1835.
- Geers L.M., Ochi T., Vyalova N.M., Losenkov I.S., Paderina D.Z., Pozhidaev I.V., Simutkin G.G., Bokhan N.A., Wilffert B., Touw D.J., Loonen A.J.M., Ivanova S.A. // Hum. Psychopharmacol. 2022. V. 37(3). e2826.
- Ding H., Xie M., Wang J., Ouyang M., Huang Y., Yuan F., Jia Y., Zhang X., Liu N., Zhang N. // J. Psychiatr. Res. 2023. V. 159. P. 185–195.
- Chang R., Huang Z., Zhao S., Zou J., Li Y., Tan S. // Biomed. Res. Int. 2022. V. 2022. P. 2677312.
- Boiko A.S., Pozhidaev I.V., Paderina D.Z., Bocharova A.V., Mednova I.A., Fedorenko O.Y., Kornetova E.G., Loonen A.J.M., Semke A.V., Bokhan N.A., Ivanova S.A. // Pharmgenomics. Pers. Med. 2021. V. 14. P. 1123–1131.
- Ortega-Azorín C., Coltell O., Asensio E.M., Sorlí J.V., González J.I., Portolés O., Saiz C., Estruch R., Ramírez-Sabio J.B., Pérez-Fidalgo A., Ordovas J.M., Corella D. // Nutrients. 2019. V. 11(11). P. 2751.
- Pirastu N., Cordioli M., Nandakumar P., Mignogna G., Abdellaoui A., Hollis B., Kanai M., Rajagopal V.M., Parolo P.D.B., Baya N., Carey C.E., Karjalainen J., Als T.D., Van der Zee M.D., Day F.R., Ong K.K., FinnGen Study, 23andMe Research Team, iPSYCH Consortium, Morisaki T., de Geus E., Bellocco R., Okada Y., Børglum A.D., Joshi P., Auton A., Hinds D., Neale B.M., Walters R.K., Nivard M.G., Perry J.R.B., Ganna A. // Nat Genet. 2021. V. 53(5). P. 663–671.
Supplementary files