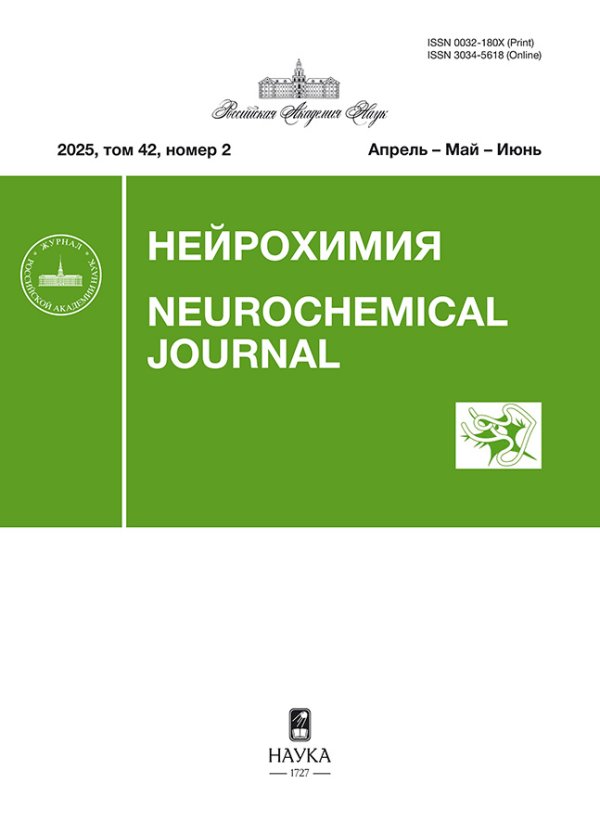Expression of pro- and mature brain neurotrophic factor and Bcl-xL in the hippocampus of neonatal rats under dexamethasone treatment
- Authors: Bulygina V.V.1, Kalinina T.S.1,2, Lanshakov D.А.1,2, Menshanov P.N.2, Suhareva E.V.1, Dygalo N.N.1,2
-
Affiliations:
- The Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics, The Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
- Novosibirskiy State University
- Issue: Vol 41, No 3 (2024)
- Pages: 247-256
- Section: Experimental Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/1027-8133/article/view/271655
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1027813324030044
- EDN: https://elibrary.ru/EQSTWL
- ID: 271655
Cite item
Full Text
Abstract
Due to the key role of neurotrophins in brain development and plasticity, the question of whether and how the precursor of brain-derived neurotrophic factor (proBDNF) can influence the active elimination of excess cells by apoptosis is of great importance. It is supposed that proneurotrophins selectively activate the neurotropin receptor p75, thereby inducing proapoptotic signaling pathways, while mature BDNF (matBDNF) has an antiapoptotic effect. Rationale: proBDNF and matBDNF will exhibit specific expression patterns that modify the process of apoptosis in the brain of neonatal rats under induction by glucocorticoids. Thus, the study examined the effect of the glucocorticoid dexamethasone (DEX) on the levels of mRNA of BDNF and the key protease of apoptosis caspase-3, the number of cells expressing active caspase-3, as well as the proteins proBDNF, matBDNF and the key anti-apoptotic protein BCL-xL in the hippocampus of 3–4 day old rat pups in 6 or 24 hours after DEX administration. In 6 hours, DEX induced anti-apoptotic processes, namely, it increased the levels of bdnf mRNA in the whole hippocampus, as well as the content of matBDNF and Bcl-xL proteins in the CA1-3 fields and the dentate gyrus. In this case, a temporary predominance of matBDNF expression over apoptogenic proBDNF was formed against the background of a constant number of cells expressing active caspase-3. In 24 hours, DEX provoked an increase in the expression of apoptogenic proBDNF, and its prevalence over mature neurotrophin in all fields of the hippocampus, accompanied by an increase in the number of cells, expressing active caspase-3. Moreover, we found a significant correlation between the proBDNF/matBDNF ratio and active caspase-3 in all three areas of the hippocampus. It has been shown that proBDNF has its own expression pattern—different from its mature form—in the hippocampus of neonatal rats upon DEX induction and the manifestation of its proapoptotic effect is accompanied by an increase in the proBDNF/matBDNF ratio.
Keywords
Full Text
Введение
При развитии респираторного дистресс-синдрома новорожденных широко используется в медицинской практике глюкокортикоидная терапия [1]. Головной мозг в эти сроки наиболее чувствителен к повреждающим воздействиям, в том числе к повышенному уровню глюкокортикоидов, которые нередко приводят к серьезным и долгосрочным нарушениям физиологических функций организма и поведения [2, 3], механизмы возникновения которых во многом остаются неясными. Нейроны неонатального гиппокампа могут подвергаться повреждающему воздействию избытка глюкокортикоидных гормонов, поскольку в этой структуре уже в перинатальном периоде наблюдается высокая экспрессия глюкокортикоидных рецепторов [4]. Спектр генов, экспрессия которых может изменяться под влиянием глюкокортикоидов, очень широк и среди них и ключевые гены апоптозного каскада [5, 6], и регуляторы нейропластичности, в частности, BDNF [7-10]. Нейротрофические факторы играют одну из ключевых ролей в процессе формирования головного мозга в ходе неонатального онтогенеза [11], экспрессия BDNF особенно высока в гиппокампе [12]. Было установлено, что незрелые формы белков нейропластичности могут избегать внутриклеточного процессинга и секретироваться из нейронов [13–14]. Кроме того, многие исследователи сходятся во мнении, что все пронейротрофины выполняют проапоптозную функцию, и proBDNF, в том числе, через свою высокую аффинность к рецепторам p75NTR может провоцировать усиление процесса программируемой гибели клеток [15–18]. А поскольку экспрессия p75NTR имеет свой определенный онтогенетический паттерн, с высокой степенью проявления в неонатальном периоде и последующим спадом [19–20], то роль незрелых форм белков нейропластичности в регуляции программируемой гибели клеток становится весомой именно в раннем онтогенезе. Так, в нашей лаборатории было показано, что в коре неонатальных крыс именно proBDNF является превалирующим продуктом гена Bdnf и его уровень положительно коррелирует с уровнем активной каспазы-3 [21]. Важен и баланс незрелых и зрелых форм белков регуляторов нейропластичности, поскольку показано, что зрелые нейротрофины проявляют антиапоптозную активность ‒ matBDNF блокирует ключевой для физиологического апоптоза клеток формирующегося мозга каспазо-3-зависимый путь клеточной гибели [22]. Так как на сегодняшний день известно, что пронейротрофины способны индуцировать апоптоз даже в присутствии трофической поддержки зрелых нейротрофических факторов [23], результаты одновременного действия зрелых нейротрофинов и их проформ могут быть оценены по интенсивности экспрессии молекулярного маркера апоптоза. Одним из ключевых маркеров заключительной стадии апоптоза является эффекторный белок программируемой клеточной гибели – активная каспаза-3 [24]. Образование активной каспазы-3 из прокаспазы-3 негативно регулируется matBDNF [25] и позитивно – proBDNF [22]. Кроме того, показано, что matBDNF при введении в гиппокамп индуцирует экспрессию другого ключевого антиапоптозного белка Bcl-xL [26]. Целью нашей работы стало изучение изменений уровней matBDNF, proBDNF и значимых белков апоптоза Bcl-хL и каспазы-3, а также выявление параллельной динамики этих молекул в ключевых полях незрелого гиппокампа (CA1, CA3, зубчатая извилина) трехдневных крысят после кратковременного воздействия селективным агонистом глюкокортикоидных рецепторов дексаметазоном.
Методы исследования
Животные и введение гормона. Исследования проводили на крысах Вистар. Крыс содержали в условиях свободного доступа к воде и корму в виварии ИЦиГ СО РАН и следовали рекомендациям о гуманном обращении с лабораторными животными Комиссии по биоэтике Института цитологии и генетики СО РАН (протокол № 19 от 26.11.2013 г.) в соответствии с Директивой Европейского Парламента и Совета ЕС 2010/63/EU от 22 сентября 2010 г. и “Правилам проведения работ с использованием экспериментальных животных” и согласно приказу Минздрава России № 267 от 19 июня 2003 г. Беременных самок за 3–4 дня до родов рассаживали в индивидуальные клетки. День родов считали первыми сутками жизни. Крысятам обоего пола на 3-й день жизни подкожно вводили дексаметазон (DEX) (KRKA, Словения, 0.2 мг/кг в объеме 20 мкл) либо физиологический раствор (физ. раствор). Доза гормона в настоящем исследовании эквивалентентна 12 мг дексаметазона в день для человека весом 60 кг, что имитирует клиническую дозу для беременной женщины (0.2 мг/кг) [27] и соответствует дозе, применяемой нами ранее и способной модифицировать процесс апоптоза в мозжечке в этот период онтогенеза [28]. Животных забивали через 6 и 24 часа после введения дексаметазона. Временные точки определяли, исходя из предыдущих данных [29, 30] и данных литературы [9, 31], ориентируясь на выявленные в этих работах изменения экспрессии ключевых нейротрофических факторов в гиппокампе в ответ на введение глюкокортикоидов.
Анализ уровня мРНК Bdnf и каспазы-3 методом ОТ-ПЦР. Суммарную РНК из гиппокампа 7–8 крысят каждой группы выделяли, применяя одностадийный гуанидин-изотиоцианатный метод, как описано ранее [27]. Для получения кДНК брали 3 мкг суммарной РНК, Oligo(dT) праймер и ревертазу MuLV (“СибЭнзим”, Россия) и инкубировали в условиях стандартной методики (90 мин при 42°С). Количественный анализ содержания мРНК генов Bdnf и каспазы-3 относительно мРНК actb проводили методом ОТ-ПЦР в реальном времени с использованием наборов TaqMan® Gene Expression Assays на амплификаторе ABI VIIA™ 7 (“Applied Biosystems”, США) и рассчитывали по методу ∆∆Сt.
Иммуногистохимия. Белки proBDNF, matBDNF, Bcl-xL и активной каспазы-3 определяли методом иммуногистохимии [31] с использованием флуоресцентно меченных вторичных антител. После глубокого холодового наркоза крысят транскардиально перфузировали 0.02 М фосфатным буфером (PBS) и последовательно 4% раствором параформальдегида в 0.02 М PBS. Использовали специфичные к незрелому нейротрофическому фактору proBDNF первичные антитела цыпленка (AB78367 Abcam, Великобритания), специфичные к зрелому нейротрофическому фактору matBDNF первичные мышиные антитела (ABGF35L Merck Millipore, Соединенные Штаты), специфичные к Bcl-xL первичные кроличьи антитела (AB2764, 54H6, Cell Signaling, Соединенные Штаты), специфичные к активной каспазе-3 первичные кроличьи антитела (AB2764, 5A1E, Cell Signaling, Соединенные Штаты), в разведении 1:200. Проводили двойное иммуногистохимическое окрашивание. На одних срезах мозга в качестве первичных антител применяли антитела к matBDNF и Bcl-xL, на других срезах мозга ‒ антитела к proBDNF и активной каспазе-3. Далее срезы инкубировали соответственно со вторичными антителами козы против IgG кролика с флуоресцентной меткой (Alexa-488, A-11008, Invitrogen, Соединенные Штаты) и со вторичными антителами козы против IgG мыши с флуоресцентной меткой (Alexa-594, 115-515-207, Jackson Immuno, Соединенные Штаты) для пары первичных антител к matBDNF и Bcl-xL и со вторичными антителами осла против IgG кролика с флуоресцентной меткой (Alexa-488, 711-545-152, Jackson Immuno, Соединенные Штаты) и со вторичными антителами осла против IgG цыпленка с флуоресцентной меткой (DyLight-594, 703-515-155, Jackson Immuno, Соединенные Штаты) для пары первичных антител к proBDNF и активной каспазе-3 в разведении 1:400. Уровни proBDNF, matBDNF, Bcl-xL и активной каспазы-3 оценивали на коронарных срезах мозга по величине оптической плотности клеток на цифровых фотографиях (увеличение ×200) на 4–5 полях зрения от 4–5-х животных каждой группы. Цифровые фотографии срезов гиппокампа были получены на лазерном сканирующем микроскопе LSM-780. При панорамной съемке срезов для последующей статобработки использовали увеличение 20× и безиммерсионный объектив Plan-Apochromat 20×/0,8 M27. По меньшей мере по 6 срезов от каждой крысы было сфотографировано и проанализировано. Данные по относительной оптической плотности флуоресцентного сигнала были обработаны с помощью программного обеспечения ZEN (2011, SP2). Уровни proBDNF и matBDNF и соотношения уровней proBDNF к matBDNF рассчитывали в абсолютных цифрах иммуногистохимических данных, потом для контрольной группы принимали получившееся среднее за 100% и далее данные опытной группы рассчитывали в процентах относительно группы с введением физиологического раствора. Количество клеток, экспрессирующих активную каспазу-3, подсчитывали вручную на микрофотографиях и определяли их абсолютное количество в поле зрения панорамы гиппокампа для каждого из полей этой структуры, проанализировав минимум 6 срезов от каждой крысы.
Статистический анализ. Данные проверили на соответствие нормальному распределению и применили факторный дисперсионный анализ (ANOVA) (пакет программ JASP (ver. 18.3; Университет Амстердама, 2024)), независимыми факторами которого являлись введение дексаметазона (DEX) и время после введения препарата, фактором повторных измерений выступали поля гиппокампа, с последующим апостериорным анализом межгрупповых различий по критерию Фишера LSD, различия с р < 0.05 считали достоверными. Выявление наиболее вероятных моделей дисперсионного анализа проводили с использованием байесовского моделирования ANOVA, на основании значений фактора B10. Уровень сопряженности показателей оценивали корреляционным коэффициентом Спирмана. При необходимости результаты анализа обрабатывали с учетом поправок на множественное сравнение.
Результаты исследования
После воздействия дексаметазоном, уровни зрелой и проформы BDNF демонстрировали специфичную динамику, которая, вместе с тем, была однотипна во всех исследованных полях гиппокампа (рис. 1 и 2). Согласно байесовскому моделированию, изменения уровней форм BDNF и их соотношения лучше всего описывала модель дисперсионного анализа с взаимодействием факторов (DEX + время + DEX*время; B10 (matBDNF)=632; B10 (proBDNF)=3.1; B10 (proBDNF/matBDNF)=37).
Рис. 1. Уровень BDNF в областях гиппокампа неонатальных крысят через 6 часов (а) и 24 часа (б) после введения дексаметазона в процентах относительно группы с введением физиологического раствора. ***р < 0.001 по сравнению с введением физ. раствора, ###р < 0.001 по сравнению с соответствующими 6-часовыми группами.
Репрезентативные микрофотографии: белок matBDNF ‒ зеленый сигнал (флуорофор Alexa-488) (в ‒ через 6 часов после введения физраствора, г ‒ через 6 часов после введения дексаметазона).
Рис. 2. Уровень proBDNF в областях гиппокампа неонатальных крысят через 6 часов (а) и 24 часа (б) после введения дексаметазона в процентах относительно группы с введением физиологического раствора. *р < 0.05; **р < 0.01 по сравнению с введением физ. раствора, #р < 0.05; ###р < 0.001 по сравнению с соответствующими 6-часовыми группами.
Репрезентативные микрофотографии: белок proBDNF ‒ красный сигнал (флуорофор Alexa-594) (в ‒ через 24 часа после введения физраствора, г ‒ через 24 часа после введения дексаметазона).
Первым в полях гиппокампа, спустя 6 часов после введения дексаметазона наблюдали кратковременный полуторакратный рост уровня зрелой формы matBDNF, который возвращался к исходному через 24 часа после воздействия (рис. 1; Факторы DEX*время - F(1, 12)=36.23, p=0.00006, ηp2=0.75; Фактор DEX - F(1, 12)=20.73, p=0.0007, ηp2=0.63).
В отличие от matBDNF, уровни proBDNF через 6 часов после воздействия были сопоставимы между контрольными и получавшими дексаметазон группами (рис. 2). Затем, спустя 24 часа после воздействия уровни proBDNF росли во всех полях гиппокампа на фоне восстановления уровней зрелой формы matBDNF (рис. 1; Факторы DEX*время – F(1, 12)=6.60, p=0.025, ηp2=0.35; Фактор DEX – F(1, 12)=1.43, p=0.25, ηp2=0.11).
Как следствие, асинхронная динамика уровней форм BDNF первоначально приводила к падению соотношения proBDNF/matBDNF через 6 часов после воздействия в пользу антиапоптозной зрелой формы нейротрофа, а затем – к росту данного соотношения во всех исследованных полях гиппокампа спустя 24 часа в пользу проапоптозной формы BDNF (рис. 3; Факторы DEX*время – F(1, 12)=17.43, p=0.0013, ηp2=0.59; Фактор DEX – F(1, 12)=0.01, p=0.93, ηp2=0.0006).
Рис. 3. Отношение уровней proBDNF к matBDNF в областях гиппокампа неонатальных крысят через 6 часов (а) или 24 часа (б) после введения дексаметазона в процентах относительно группы с введением физиологического раствора. *р < 0.05, **р < 0.01; &р=0.05 по сравнению с введением физ. раствора, ###р < 0.001 по сравнению с соответствующими 6-часовыми группами.
Вызванные введением дексаметазона изменения синтеза различных форм мозгового нейротрофического фактора сопровождались модификацией и процесса транскрипции этого нейротрофа. Достоверный, повышающий уровень мРНК Bdnf, проявлялся в гиппокампе через 6 часов после гормонального воздействия и оставался статистически значимым вплоть до 24 часов после введения дексаметазона (F(1, 17)=7.35; p<0.001). Уровень мРНК каспазы-3 в гиппокампе не изменился ни через 6 часов (F(1, 17)=0.40; p=0.55), ни через 24 часа (F(1, 16)=0.15; p=0.70) после инъекции глюкокортикоида.
Дексаметазон модифицировал не только уровни нейротрофа, но и связанные напрямую с апоптозом показатели – уровни антиапоптозного белка Bcl-xL и число каспаза-3-позитивных клеток. Согласно байесовскому моделированию, изменения уровней форм Bcl-xL и числа каспаза-3-позитивных клеток также лучше всего описывала модель дисперсионного анализа с взаимодействием факторов (DEX + время + DEX*время; B10(Bcl-xL)=52; B10 (каспаза-3-позитивные клетки)=3.1).
Под действием дексаметазона уровни белка Bcl-xL во всех изученных полях гиппокампа демонстрировали динамику, в значительной степени аналогичную изменениям уровней зрелой формы matBDNF (рис. 2 и 4; все поля – R=+0.829, p=3.5*10-13; CA1 – R=+0.796, p=0.0002; CA3 – R=+0.805, p=0.0002; зубчатая извилина – R=+0.676, p=0.0051). Первоначально, через 6 часов после введения препарата наблюдали кратковременный двукратный рост уровня Bcl-xL, за которым через 24 часа после воздействия следовало восстановление содержания этого антиапоптозного белка в гиппокампе (рис. 5; Факторы DEX*время – F (1, 12)=18.03, p=0.0012, ηp2=0.60; Фактор DEX – F(1, 12)=28.89, p=0.0002, ηp2=0.71). Уровни белка Bcl-xL также отрицательно коррелировали с соотношением форм нейротрофов proBDNF/matBDNF (рис. 3 и 5; все поля – R=–0.560, p=0.0001).
Рис. 4. Уровень Bcl-xL в областях гиппокампа неонатальных крысят через 6 часов (а) и 24 часа (б) после введения дексаметазона. ***р < 0.001 по сравнению с введением физ. раствора, ##р < 0.01, ###р < 0.001 по сравнению с соответствующими 6-часовыми группами.
В свою очередь, изменения числа каспаза-3-позитивных клеток во всех полях гиппокампа после введения дексаметазона повторяли динамику уровня формы нейротрофа proBDNF, однако не были сопряжены с ними напрямую (рис. 1 и 5). Вместе с тем, количество каспаза-3-позитивных клеток положительно коррелировало с соотношением форм нейротрофов proBDNF/matBDNF (рис. 3 и 5; все структуры - R=+0.392, p=0.006). Так, количество каспаза-3-позитивных клеток через 6 часов после воздействия было сопоставимо в полях гиппокампа между контрольными и получавшими дексаметазон группами (рис. 5). Затем, спустя 24 часа после воздействия количество каспаза-3-позитивных клеток росло во всех полях гиппокампа на фоне восстановления уровней антиапоптозного белка Bcl-xL и зрелой формы matBDNF (рис. 5; Факторы DEX*время – F(1, 12)=9.72, p=0.009, ηp2=0.45; Фактор DEX – F(1, 12)=8.49, p=0.013, ηp2=0.41).
Рис. 5. Число клеток, экспрессирующих активную каспазу-3, в областях гиппокампа неонатальных крысят через 6 часов (а) или 24 часа (б) после введения дексаметазона. **р < 0.01 по сравнению с введением физ. раствора, ##р < 0.01 по сравнению с соответствующими 6-часовыми группами.
Репрезентативные микрофотографии: клетки, экспрессирующие активную каспазу-3 ‒ зеленый сигнал (флуорофор Alexa-488) (в ‒ через 24 часа после введения физраствора, г ‒ через 24 часа после введения дексаметазона).
Обсуждение результатов
Клетки гиппокампа высокочувствительны к повышению уровня глюкокортикоидов, особенно в перинатальный период, когда в этой структуре высока экспрессия глюкокортикоидных рецепторов [4]. Уже в первые часы после введения дексаметазона в гиппокампе неонатальных крысят увеличивается мРНК c-fos [28], маркер нейрональной активности [34], что сопровождается поведенческими нарушениями у неонатальных крысят [35]. Неонатальное введение дексаметазона на 1–3-й день жизни приводило к выраженному депрессивно-подобному поведению у взрослых крыс [36, 37] и увеличению тревожности [36]. Нейрохимические процессы, вовлекающиеся в патологические эффекты глюкокортикоидов в неонатальном гиппокампе, во многом до сих пор неясны, они могут затрагивать как процессы апоптоза, так и модификацию нейротрофических процессов, которая проявляется, как показано нами ранее, уже первые часы введения дексаметазона [33].
В нашей работе мы впервые показали, что однократная терапевтическая доза дексаметазона однотипно изменила уровень экспрессии зрелого мозгового нейротрофического фактора matBDNF и его предшественника proBDNF, а также модифицировала протекание процесса апоптотической гибели клеток во всех ключевых полях неонатального гиппокампа.
Через 6 часов после введения гормона в гиппокампе неонатальных крысят превалировала активация компенсаторных процессов, направленных на блокирование гибели клеток. Это отразилось в резком увеличении уровня белка matBDNF во всех полях структуры и его преобладании над уровнем незрелой формы – нейротрофина – proBDNF, а также повышенной экспрессии ключевого антиапоптотического белка Bcl-xL. Взаимосвязь между уровнем глюкокортикоидов и экспрессией нейротрофических факторов в гиппокампе и других отделах мозга известна [38, 39]. В нейронах взрослого гиппокампа глюкокортикоиды подавляют экспрессию мРНК Bdnf [40]. Трансляция, процессинг и секреция BDNF также регулируется глюкокортикоидами [7, 41, 42]. Молекулярным механизмом действия гормонов является глюкокортикоид-респонсивный элемент (Glucocorticoid Response Element (GRE)), который был обнаружен в промоторной области гена Bdnf [43]. Кроме того, показано, что и сам мозговой нейротрофический фактор может участвовать в фосфорилировании глюкокортикоидных рецепторов [44]. Введение дексаметазона в нашем эксперименте приводило к значительному росту уровня ключевого антиапоптозного белка Bcl-xL в гиппокампе неонатальных крысят через 6 часов. Ранее рост экcпрессии Bcl-xL в первые часы после введения дексаметазона были продемонстрирован в нашей лаборатории в стволе головного мозга 3-х дневных крысят [45]. Известно, что введение дексаметазона приводило к увеличению экспрессии Bcl-xL на уровне белка и мРНК в клетках глиомы C6 [46]. Прямое влияние глюкокортикоидов на экспрессию этого белка [47], также, как и для мозгового нейротрофического фактора, обеспечивается наличием GRE в промоторной области гена Bcl-xL [48]. Еще одной причиной увеличения гиппокампальной экспрессии антиапоптозного белка Bcl-xL, выявленного в нашей работе, может являться обнаруженное в гиппокампе повышение уровня экспрессии BDNF. Так, было показано, что введение в гиппокамп BDNF дозозависимо повышало в этой структуре экспрессию Bcl-xl как на уровне мРНК, так и на уровне белка [26].
Через 24 часа после введения дексаметазона достоверно возрастает число клеток, экспрессирующих каспазу-3, и это предполагаемое усиление процесса программируемой клеточной гибели сопровождается увеличением уровня белка proBDNF в областях гиппокампа с преобладанием над matBDNF. Преобладание пронейротрофина, по-видимому, и провоцирует увеличение клеток, экспрессирующих активную каспазу-3, поскольку пронейротрофины способны индуцировать апоптоз даже в присутствии трофической поддержки жизнеспособности клеток зрелыми формами факторов [24]. Повышение уровня белка proBDNF при воздействии кортикостерона была показана in vitro на первичной культуре клеток гиппокампа [49], а длительное введение кортикостерона приводило к увеличению уровня белка proBDNF в гиппокампе и провоцировало развитие депрессивно-подобного поведения у взрослых мышей [50]. Что касается изменений в экспрессии мРНК Bdnf, то данные противоречивы. К примеру, хронический стресс [51] или воздействие повышенным уровнем экзогенных глюкокортикоидов [52] приводит к снижению экспрессии мРНК Bdnf в гиппокампе [53]. Другие исследователи обнаружили рост этого параметра в гиппокампе взрослых мышей после 15 дневного стресса [54].
В целом, введение дексаметазона меняет соотношение про- и зрелой формы нейротрофического фактора в гиппокампе неонатальных крыс. Активация компенсаторных процессов в первые 6 часов после введения гормона (повышение уровня экспрессии гена Bdnf, рост белков matBDNF и Bcl-xL) сменяется через сутки усилением апоптотических процессов (увеличение белка proBDNF и числа клеток с активной каспазой-3), что подтверждается смещением соотношения proBDNF/matBDNF.
Заключение
Введение дексаметазона меняет соотношение про- и зрелой формы нейротрофического фактора BDNF в незрелом гиппокампе трехдневных крысят. При этом первоначальные сдвиги в пользу нейропротективных процессов, наблюдаемые спустя 6 часов после введения синтетического гормона (повышение уровня экспрессии гена Bdnf, рост белков matBDNF и Bcl-xL), в дальнейшем сменяются усилением ассоциированных с апоптозом изменений (увеличение белка proBDNF и числа клеток с активной каспазой-3). Не исключено, что такая динамика действия глюкокортикоидов может провоцировать изменения неврологического и психоповеденческого статуса, в том числе и долговременные, что требует дальнейшего изучения.
Благодарности
Авторы выражают благодарность ЦКП микроскопического анализа биологических объектов ИЦиГ СО РАН.
Источник финансирования
Работа выполнена при поддержке бюджетного проекта № FWNR-2022-0023.
Соблюдение этических норм
Конфликт интересов. Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
Этическое одобрение. Все применимые международные, национальные и институциональные принципы ухода и использования животных были соблюдены.
About the authors
V. V. Bulygina
The Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics, The Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: veta@bionet.nsc.ru
Russian Federation, Novosibirsk
T. S. Kalinina
The Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics, The Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; Novosibirskiy State University
Email: veta@bionet.nsc.ru
Russian Federation, Novosibirsk; Novosibirsk
D. А. Lanshakov
The Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics, The Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; Novosibirskiy State University
Email: veta@bionet.nsc.ru
Russian Federation, Novosibirsk; Novosibirsk
P. N. Menshanov
Novosibirskiy State University
Email: veta@bionet.nsc.ru
Russian Federation, Novosibirsk; Novosibirsk
E. V. Suhareva
The Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics, The Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: veta@bionet.nsc.ru
Russian Federation, Novosibirsk
N. N. Dygalo
The Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics, The Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; Novosibirskiy State University
Email: veta@bionet.nsc.ru
Russian Federation, Novosibirsk; Novosibirsk
References
- Carson R., Monaghan-Nichols A.P., DeFranco D.B., Rudine A.C. // Steroids. 2016. V.114. P. 25‒32.
- Shinwell E.S., Eventov-Friedman S. // Semin. Fetal. Neonatal. Med. 2009. V.14. P.164‒70.
- Doyle L.W., Cheong J.L., Ehrenkranz R.A., Halliday H.L. // Cochrane Database Syst Rev. 2017. V.10. Rev. 2021.
- van Eekelen J.A., Bohn M.C., de Kloet E.R. // Dev. Brain Res. 1991. V. 61. P. 33–43.
- Almawi W.Y., Melemedjian O.K., Jaoude M.M. // J. Leukoc. Biol. 2004. V. 6. P. 7‒14.
- Duksal F., Kilic I., Tufan A. C., Akdogan I. // Brain Res. 2009. V. 1250. P. 75‒80.
- Numakawa T., Odaka H., Adachi N. // Int J Mol Sci. 2017. V. 18(11).
- Neeley E.W., Berger R., Koenig J.I., Leonard S. // Neuroscience. 2011. V. 187. P. 24‒35.
- Suri D., Vaidya V.A. // Neuroscience. 2013. V. 239. P. 196–213.
- Bennett M.R., Lagopoulos J. // Prog. Neurobiol. 2014. V. 112. P. 80‒99.
- Roth T., Sweatt J. // Horm Behav. 2011. V. 59. P. 315‒320.
- Leal G., Bramham C.R., Duarte C.B. // Vitam Horm. 2017. V. 104. P. 153‒195.
- Bruno M.A., Cuello A.C. Proc Nat Acad Sci USA. 2006. V. 103. P. 6735‒40.
- Yang J Harte-Hargrove L.C., Siao C.J., Marinic T., Clarke R., Ma Q., Jing D., Lafrancois J.J., Bath K.G., Mark W., Ballon D., Lee F.S., Scharfman H.E., Hempstead B.L. // Cell Rep. 2014. V. 7. P. 796‒806.
- Fayard B., Loeffler S., Weis J., Vögelin E., Krüttgenet A. // J Neurosci Res. 2005. V. 80. P. 18‒28.
- Lessmann V., Brigadski T. // Neurosci Res. 2009. V. 65. P. 11‒22.
- Teng K.K., Felice S., Kim T., Hempstead B.L. // Dev Neurobiol. 2010. V. 70. P. 350‒9.
- Costa R.O., Perestrelo T., Almeida R.D. // Mol Neurobiol. 2018. V. 55. P. 2934–2951.
- Rösch H., Schweigreiter R., Bonhoeffer T., Barde Y.A., Korte M. //Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2005. 102. P. 7362‒7.
- Yang J., Chia-Jen Siao C-J., Nagappan G., Marinic T., Jing D., McGrath K., Zhe-Yu Chen Z-Y., Mark W., Tessarollo L., Lee F.S., Lu B., Hempstead B.L. // Nat Neurosci. 2009. V. 12. P. 113–115.
- Menshanov P.N., Lanshakov D.A., Dygalo N.N. // Physiol Res. 2015. 64. 925–934.
- Koshimizu H., Hazama S., Hara T., Ogura A., Kojima M. // Neurosci Lett. 2010. V. 473. P. 229–32.
- Volosin M., Trotter C., Cragnolini A., Kenchappa R.S., Light M., Hempstead B.L., Carter B.D., Friedman W.J. // J Neurosci. 2008. V. 28. P. 9870‒9879.
- Yuan J., Yankner B.A. // Nature. 2000. V. 407. P. 802‒9.
- Renton J.P., Xu N., Hansen M. // J Neurosci Res. 2010. V. 88. P. 2239‒51.
- Chao C.C., Ma Y.L., Lee E.H. // Brain Pathol. 2011. V. 2. P.150‒62.
- Miracle X., Di Renzo G.C., Stark A., Fanaroff A., Xavier Carbonell-Estrany X., Saling E. // J. Perinat. Med. 2008. V. 36(3). P. 191–196.
- Булыгина В.В., Шишкина Г.Т., Березова И.В., Дыгало Н.Н. // Докл. академии наук. 2011. Т. 437. № 4. С. 565‒567.
- Lanshakov D.A, Sukhareva E.V., Kalinina T.S., Dygalo N.N. // Neurobiology of Disease. 2016. V. 91. P. 1–9.
- Bulygina V.V., Kalinina T.S., Lanshakov D.A., Dygalo N.N. // Neurochemical Journal. 2019. V. 13. P. 349–354.
- Lindholm D., Castren E., Hengerer B., Zafra F., Berninger B., Thoenen H. // Eur. J. Neurosci. 1992. V. 4(5). P. 404–410.
- Lanshakov D.A., Bulygina V.V., Romanova I.V., Dygalo N.N. // Bull. Exp. Biol. Med. 2009. V.147. N. 5. P. 635–638.
- Lanshakov D.A., Sukhareva E.V., Bulygina V.V., Lagunov T.A., Kalinina T.S. // Integrative Physiology. 2021. V. 2. P. 41–48.
- Kovács K.J. // Neurochem. Int. 1998. V. 33. P. 287–297.
- Menshanov P.N., Bannova A.V., Dygalo N.N. // Behav. Brain Res. 2014. V. 271. P. 43–50.
- Ko M.C., Hung Y.H., Ho P.Y., Yang Y.L., Lu K.T. // Int J Neuropsychopharmacol. 2014. V. 17. P. 1995‒2004.
- Li S.X., Zhang J.C., Wu J., Hashimoto K. // Clin Psychopharmacol Neurosci. 2014. V. 12. P. 124‒127.
- Gulyaeva N.V. // Biochemistry (Mosc). 2023. V. 88. P. 565‒589.
- Numakawa T., Kajihara R. // Front Mol Neurosci. 2023. V. 16:1247422.
- Schaaf M.J., Hoetelmans R.W., de Kloet E.R., Vreugdenhil E. // J Neurosci Res. 1997. V. 48. P. 334–341.
- Chen H., Lombès M., Le Menuet D. // Mol Brain. 2017. V. 10. Р. 1‒16.
- Eachus H., Ryu S. // J Exp Biol. 2024. V. 227(Suppl_1).
- Tsimpolis A., Kalafatakis K., Charalampopoulos I. // Front Endocrinol (Lausanne). 2024. V. 15:1362573.
- Arango-Lievano M., Lambert W.M., Bath K.G., Garabedian M.J., Chao M.V., Jeanneteau F. // Proc Natl Acad Sci USA. 2015. V. 112. P. 15737‒42.
- Shishkina G.T., Kalinina T.S., Bulygina V.V., Lanshakov D.A., Babluk E.V., Dygalo N.N. // PLoS One. 2015. V. 10. P. e0143978.
- Ní Chonghaile T., Concannon C.G., Szegezdi E., Gorman A.M., Samali A. // Apoptosis. 2006. V. 11. P. 1247–1255.
- Rocha-Viegas L., Silbermins M., Ogara M.F., Pellegrini J.M., Nuñez S.Y., García V.E., Vicent G.P., Pecci A. // Biochim Biophys Acta Gene Regul Mech. 2020. V. 1863. P. 194475.
- Gascoyne D.M., Kypta R.M., Vivanco Md. // J Biol Chem. 2003. 278. P. 18022–18029.
- Liu Y., Zou G.J., Tu B.X. // Neurotox Res. 2020. V. 38. P. 370–384.
- Lin L., Herselman M.F., Zhou X.F., Bobrovskaya L. // Physiol Behav. 2022. V. 247. P. 113721.
- Duman R.S., Aghajanian G.K., Sanacora G., Krystal J.H. // Nat Med. 2016. V. 22. P. 238‒249.
- Nicholas A., Munhoz C.D., Ferguson D., Campbell L., Sapolsky R. // J Neurosci. 2006. V. 26. P. 11637‒11643.
- Hossain A., Hajman K., Charitidi K., Erhardt S., Zimmermann U., Knipper M., Canlon B. // Endocrinology. 2008. V. 149. P. 6356‒6365.
- Hashikawa N., Ogawa T., Sakamoto Y., Ogawa M., Matsuo Y., Zamami Y., Hashikawa-Hobara N. // Cell Mol Neurobiol. 2015. V. 35. P. 807‒817.
Supplementary files