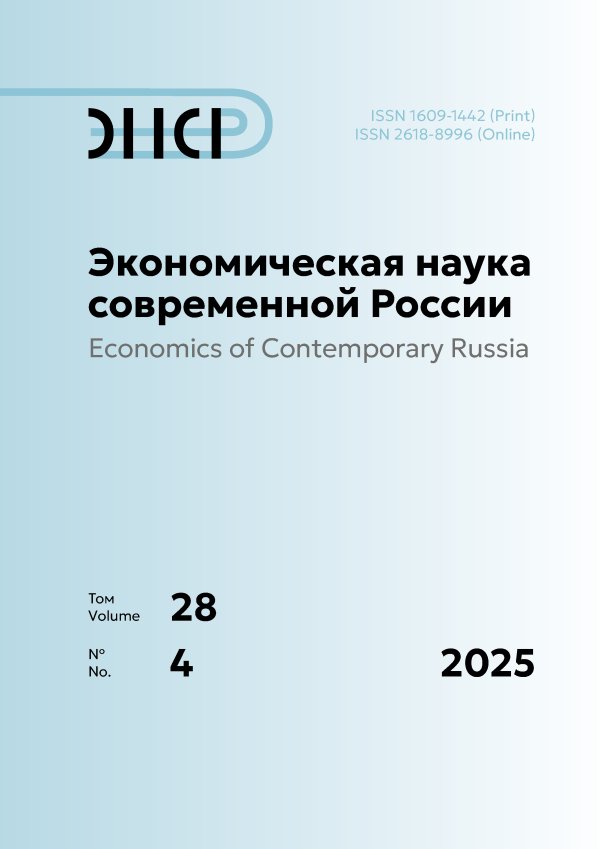The Impact of Aesthetic Factors on Labor Productivity
- Authors: Stryutskiy F.V.1
-
Affiliations:
- Academy of National Economy under the Government of the Russian Federation (RANEPA)
- Issue: Vol 28, No 1 (2025)
- Pages: 34-46
- Section: Actual problems of economics
- URL: https://journal-vniispk.ru/1609-1442/article/view/299053
- DOI: https://doi.org/10.33293/1609-1442-2025-28(1)-34-46
- EDN: https://elibrary.ru/HGZBVB
- ID: 299053
Cite item
Full Text
Abstract
The subject of study is the mechanism of influence of aesthetic factor on job contentment and attitude to labor. The object of study is the socio-cultural sphere of the enterprise in the context of its interaction with other subsystems. The purpose of the article is a theoretical and methodological generalization of the results of the empirical analysis carried out during testing the hypothesis of the significance of the emotions in the labor productivity. The research touches upon issues of economics, sociology, cultural studies, axiology and other disciplines. The main conclusions were obtained around their intersection. The relevance of the study is due to the fundamental uncertainty of labor efficiency problems at the corporate level. The supposed scientific novelty lies in the formulation and empirical verification of the mechanism of influence of the aesthetic perception on labor efficiency.
The work was based on empirical data obtained in a longitudinal study conducted in 2001–2003 at a manufacturing enterprise implementing anti-crisis measures. Thus, the article contains both methodological generalizations and a description of the specific experience of their application. The main research methods were closed and open questionnaire surveys, focus groups, as well as numerical interpretation of expert opinions. An empirical analysis of labor productivity dynamics and labor attitudes in all professional groups revealed a sustainable effect of aesthetic actions on a change for the better in the emotional attitude to work and a positive revaluation of employee expectations.
The following results were obtained during the study: a model for correcting attitudes to labor through aesthetic influences was developed; the conditions for achieving effectiveness and the limitations of the proposed approach were determined.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Задачу повышения эффективности использования ограниченных ресурсов для создания потребительских благ можно считать одной из центральных в хозяйственной практике. Имея глубокие исторические корни, эта проблема будет актуальной и в перспективе. В соответствии с доминирующим представлением о поступательном в целом развитии системы хозяйствования (например, о прогрессе – как росте многообразия и объемов материальных благ), экономическая наука сформировала большой корпус концепций и объяснений механизмов и движущих сил, определяющих эффективность производства. Наиболее общими подходами, показывающими действенность на длительном интервале наблюдений, можно считать развитие способов организации труда (разделения труда на всех уровнях – от операций на рабочем месте до страновой специализации) и внедрении достижений научно-технического прогресса (НТП). Известными ограничениями являются, как минимум, физические пределы разделения труда и нарастающая неравномерность распределения эффектов от достижений НТП, что позволяет утверждать: строгое решение проблемы эффективности (в том числе, и производительности труда) отсутствует.
Настоящая статья сфокусирована на проблематике эффективности труда1 на промышленном предприятии. Нечастые трансграничные сравнения сопоставимых по масштабу и технологическому облику предприятий показывают кратный разрыв в удельной выработке, измеренной в натуральных показателях на российских заводах, не обусловленной уровнем технологий, подготовки и организации трудового процесса. Перенос на российскую почву производства вместе со всей нормативной (в том числе, организационной) базой в большинстве случаев не позволяет достигнуть обычного в стране происхождения продукта уровня производительности.
Одновременно с укреплением глобализации расширялся интерес исследователей к обоснованию причин экономического успеха или неудач стран и регионов, в высокой степени интегрированных в едином экономическом пространстве. Специфика включения экономического субъекта в глобальную цепочку, целевые установки ее участников, вектор перераспределения ресурсов, издержек и результатов не притягивают такого внимания, как измерение межстрановых дистанций в институциональной, социально-психологической, культурной областях и обоснование на этой базе наблюдаемых различий в экономической эффективности. Несмотря на большое число работ, устоявшаяся методология в этом вопросе пока не определена. С. Хантингтон в 1993 г. выдвинул тезис о культурной принадлежности – как о единственном значимом различии между народами после окончания Холодной войны (Хантингтон, 2014). М. Вебер в одной из первых (1905 г.) социокультурных работ (см. Вебер, 2021) во многом задал направление, которого до сих пор придерживаются многие современные исследователи (Р. Ингларт, Г. Хофстеде, Ю. Хабермас).
Акцентированная на отдельных социокультурных аспектах соответствующая методология позволяет делать непротиворечивые выводы о причинах экономической и иной дифференциации. Показательны долгосрочные и объемные проекты, например, инициированный Р. Инглхартом (Инглхартом, 2018) и переросший в программу «Всемирный обзор ценностей»2. Другие примеры – типология культурных измерений Г. Хофстеде (Hofstede, 2001) и исследование «чистых эффектов культуры в экономике» (прежде всего, межличностного доверия, проявляемого, в том числе, в масштабе социальных транзакционных издержек и на уровне предприятия (Алган, Кайю, 2011)).
Тем не менее, важные параметры, выявленные в этих исследованиях, не описывают достаточно полно социокультурную среду на конкретном предприятии. Любой набор параметров моделирования неизбежно несет на себе заметный отпечаток персональной аксиологии автора. Это ограничение – существенно, хотя методический подход демонстрирует продуктивность. Основные современные результаты исследований социокультурных факторов в экономике сделаны применительно к системам макроуровня (нация / регион). Как правило, с помощью эконометрических моделей причины страновой специализации и дифференциации по уровню благосостояния объясняются влиянием культурных архетипов.
Проекция таких выводов с национального на отраслевой, а тем более — на микроуровень часто не подтверждается эмпирически: находящиеся в одном культурном пространстве отрасли / предприятия демонстрируют широкий спектр экономической эффективности, что не подтверждает гипотезы приведенных теорий культурных измерений. Однако, это не противоречит принципиальной значимости социокультурных факторов на мезо- и микроуровнях.
Эффективность труда зависит от степени соответствия предъявляемых к работнику требований и его поведенческих установок по отношению к труду как части его культурного базиса. Гомогенная структура ценностей в производственном коллективе является большим преимуществом, а фрагментированная или атомизированная структура несет, как минимум, риски высоких транзакционных издержек и требует корректирующих усилий. Г. Хофстеде признавал, что социокультурная среда компаний во многом определяется окружением, что может давать принципиально разные результаты в странах с существенной культурной дистанцией (Hofstede G., Hofstede G.J., Pedersen, 2002).
Многие подходы к достижению требуемых параметров производительности труда (фокусирование системы мотивации, регламентация и нормирование, тренировка навыков, пропаганда «корпоративной культуры» и пр.) методически проработаны и широко внедряются. Но практика показывает множество как успешных, так и неудачных примеров их применения, и поиск продолжается. Такая ненадежность результатов применения того или иного подхода характерна, скорее, для межстранового, чем меж- и внутриотраслевого сопоставления. При проблематизации различных аспектов коррекции трудовых установок работников (реже – коллективов) значимой представляется мера соответствия локальной культурной среды применяемым корректирующим и мотивирующим инструментам. Вопрос соответствия объективен, поскольку разработанный в условиях конкретной социокультурной специфики подход может не работать при переносе на предприятие со значительной культурной дистанцией от оригинала.
Таким образом, социокультурная среда и хозяйственная специфика в значимой мере взаимозависимы, эта связь больше проявлена на макро- и корпоративном уровнях, и в меньшей степени – на отраслевом. На корпоративном уровне оценка успешности и технология переноса опыта должны учитывать наблюдаемые культурные дистанции у источника и реципиента, а также тесную взаимосвязь составляющих культурную среду компонентов (Полтерович, 2001).
В данной связи целью исследования стала оценка значимости влияния эмоциональных факторов, возникших в связи с созданными эстетическими событиями, на производительность труда работников.
Центральная гипотеза исследования состояла в наличии сильной связи между эмоциональным состоянием работника, его оценками удовлетворенности трудом и возможности реализовать свою трудовую установку.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Представление о хозяйствующем субъекте как социально-экономической системе с сильным влиянием труда на ее эффективность смещает акцент в исследованиях с управления технологиями в сторону регулирования человеческих ресурсов. Можно выделить три группы характеристик индивидуального и коллективного труда и соответствующих подходов к их улучшениям:
- технологическая адекватность работника регулируется в соответствии с концепцией человеческого капитала (Жданов, 2023);
- интенсивность и стабильность рабочего процесса – предмет организационных методов и нормирования;
- желание работать на общий результат (нормативные трудовые установки) – обычно задача настройки системы стимулирования или регулирования социально-психологической микросреды.
Последняя область, что подтверждается эмпирически, – наименее структурированная и слабо управляемая, с точки зрения прогнозируемости отклика на воздействие. Ей редко занимается практика, еще реже ведутся прикладные исследования. Однако, по нашему мнению, эффективность труда определяется главным образом состоянием социально-психологической микросреды.
Актуальная теория представляет трудовые установки (устойчивые модели действий в отношении трудовой деятельности) работника как комбинацию осознанного оценивания, эмоциональной оценки и поведения с преобладанием первого компонента. Эмоциональному аспекту не уделяется достаточного внимания (Смирнова, 2019). При этом основной содержательной характеристикой степени соответствия рабочего поведения ожиданиям работодателя является удовлетворенность трудом, и это эмоциональное во многом отношение формируется конкретными факторами рабочего окружения (Иванова, Рассказова, Осин, 2012). Положительное значение удовлетворенности трудом трансформируется в ответную лояльность и, как минимум, нормативную производительность работника. Как сложная и динамическая характеристика удовлетворенности трудом интегрирует не только текущие оценки трудового процесса, но и перспективы социализации, принадлежности, признания заслуг и т.д. Иными словами, этот показатель характеризует соответствие личной системы ценностей работника и сложившейся практики в профессиональной группе и в иерархических стратах предприятия.
Несоответствие взаимных ожиданий и низкая производительность обычно понимается менеджментом как негодность методов стимулирования, нормирования, организации трудового процесса и пр. Обновление замеров удовлетворенности трудом может дать пеструю картину и потребовать ее более глубокого анализа. При подборе инструментов корректировки, даже с учетом их проверки на культурное соответствие, результат не будет гарантирован в силу особенностей объекта воздействия (промежуточного, невыраженного отношения работников). Так, с большой вероятностью, будет выглядеть ситуация в целом стабильно работающей компании.
В случае существенных изменений в работе предприятия (кризис, слияние, поглощение, смена собственника, перепрофилирование) проблемы собственно бизнеса усиливаются фактическим распадом социальной микросреды. Негативные явления в социуме предприятия при этом опережают реальные события, формируются на основе ожиданий, базируясь на личном и коллективном опыте. Неясность перспектив для коллектива предприятия проявляется в разрушении коммуникаций, критичном снижении уровня межличностного доверия, ослаблении норм трудового поведения и корпоративной лояльности. Здесь могут потребоваться иные инструменты для реконструкции социальной ткани компании – в первую очередь необходимо вдохновлять работников и формировать позитивные ожидания, создать условия для восстановления коммуникаций и, как следствие – доверия внутри компании.
Общая постановка задачи управления в данном случае может быть сформулирована как восстановление до нормативного (желаемого) состояния основных параметров социальной среды, а именно – степени удовлетворенности трудом работников и продуктивного взаимодействия между иерархическими уровнями (работниками, линейным менеджментом и руководством предприятия). Значения этих параметров зависят и от текущих личных (групповых) оценок рабочих условий и перспектив, и от устойчивой ориентации человека в отношении труда, своих ролей и статусов – трудовых установок (Goldthorpe, 1998).
В соответствии с трехкомпонентным представлением о структуре установки (трудовой, в том числе), необходимо определить, будут ли направлены корректирующие усилия на оценочный (ценностно-когнитивный), эмоциональный или поведенческий аспект трудовых установок. Все они в полной мере методологически проработаны. Трудовое поведение, скорее, вторично по отношению к осознанным или эмоциональным оценкам, оценочный же аспект – наиболее устойчив к воздействию в обозримом времени. Согласно гипотезе автора, эмоциональная сторона трудовых установок значима не менее, чем когнитивная и поведенческая, но существенно легче поддается корректировке с точки зрения решения задач управления человеческим ресурсом предприятия.
Еще одним методологическим вопросом является упорядочение семантического пространства, в котором соотносятся затрагиваемые в работе категории установок, норм, символов, ценностей. Адекватным представляется понятие культурного кода, структурирующего эти категории и многие другие аспекты, относимые к культуре. Аккумулируя архетипические компоненты, культурный код во многом формирует идентичность и целостность, обеспечивает различение и коммуникацию (Тросби, 2018). Имея свойства среды, культура (и культурный код – как ее модель) характеризуется существенным, но внешне не проявленным взаимовлиянием своих компонентов, что накладывает ограничения на аналитические и количественные методы исследования.
ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО ЭСТЕТИКИ И ЭТИКИ
Концепция воздействия на эмоциональную картину на предприятии с целью достижения сдвигов в удовлетворенности трудом и восстановления межличностного доверия соответствует теоретико-методологическим обоснованиям и прикладным исследованиям в вопросах соотнесения эмоциональной и ценностной ориентации как диалектической связанности эстетического и этического аспектов (Эстетика: словарь, 1989), иерархии между чувственной и сознательной сторонами восприятия.
Потребность в образном восприятии и постижении окружающего (эстетика) определяет особую неутилитарную связь между субъектом и объектом, при котором человек получает духовное переживание от созерцания («эстетический акт»). Эстетическое чувство позволяет различать прекрасное и безобразное, и в высшем проявлении – возвышенного и низменного. Таким образом, бинарные оппозиции эстетики в пределе соприкасаются с антиномией «добро – зло», которая имеет уже аксиологическое содержание. Смысловые (в данном случае – этические) ориентации – как фундаментальная часть ядра личности – определяют направление действий и их цель в виде идеального образа (Гартман, 2002). Это ядро модифицируется со временем, но остается устойчивым к текущим внешним воздействиям. С точки зрения нашего исследования, важно, что практическая реализация действий (трудовых установок) в соответствии с принятым как «свои» идеалами зависит от их соответствия обычаям, нормам микросоциума и эмоционального статуса работника. Например, высокая вовлеченность в работу и энтузиазм плохо сочетаются с общей депрессией на предприятии и негативными ожиданиями коллег.
Механизм воздействия эстетического переживания на этический компонент личностного ядра можно интерпретировать как побуждение, вызванное позитивным эмоциональным состоянием, переоценивать в положительную сторону возможности действовать в соответствии с личной системой ценностей. Исходя из системной экономической теории (Клейнер, 2022), большинство персональных и межличностных проявлений соотносятся со средовой проекцией экономической системы (в том числе предприятия). Описанное выше взаимодействие эстетических и ценностных проявлений имеет средовой характер.
На уровне отдельного эстетического акта (персонального переживания) связанность эстетики и этики проявляется так же отчетливо. В момент восприятия зрителем / слушателем эстетический объект передает только часть чувственной информации, активируя уже имеющиеся у получателя гораздо больший массив сведений, требующих реструктурирования и этической переоценки (Лотман, 2022). Обязательное условие для доступа к расширенному содержанию сообщения в ходе эстетического акта – его персонализация (Маклюэн, 2007), и второе условие – возможность остановки процесса для осмысления (Раппопорт, 1997). Множество сообщений (текстов и вскрываемых ими контекстов) образуют сложный гипертекст. Кроме того, эстетические переживания не спонтанны, они неявно диктуются культурой как нормативного душевного состояния, имеется культурный контекст переживания (Касавин, 2008), соотнесенный, в том числе, с системой ценностей.
Согласованное на уровне теории общее представление о двухуровневом механизме эстетического рассмотрения предполагает, что первично оно реализуется на чувственном уровне, вторично – на уровне осмысления. Полного единства в методологии не достигнуто, в том числе из-за противоречивых концепций ценностей и их производных. Тем не менее, Д. Канеман дал убедительное обоснование и привел эмпирические доказательства восприятия и принятия решений человеком, селективно используя сначала быструю, интуитивную подсистему, затем, при необходимости – медленную, аналитическую, которая базируется на впечатлениях и эмоциях как результате работы быстрой системы. Объяснительная схема Д. Канемана (Канеман, 2014) может быть привлечена и для рассуждения о соотношении эстетического и этического.
ЭМПИРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Первоначально гипотеза о результативности применения методов улучшения социально-психологической ситуации на предприятии через создание локальных, но эмоционально ярких событий (обычно относимых к сфере «культурных мероприятий») была сформулирована автором в ходе разработки программы восстановления работы предприятия «ЭлектроПром»3, выпускающего электротехнические агрегаты для транспортного машиностроения. Ниже приводится краткое описание исходной ситуации, анализ проблем, ограничения и возможности реализации данного подхода, ожидаемые и полученные результаты.
В 2001 г. автор возглавил предприятие полного технологического цикла в регионе Среднего Поволжья, находящееся в предбанкротном состоянии. Контракт предполагал стабилизацию деятельности завода и вывод его на режим устойчивой операционной прибыльности. Внешних источников инвестирования антикризисных мероприятий не предполагалось.
Продукция завода объективно пользовалась стабильным спросом у конечных потребителей и имела понятный ландшафт конкуренции. Технологический уровень производства и потенциальная обеспеченность ресурсами соответствовали среднеотраслевым. Но хроническая текущая убыточность привела к упадку всех основных систем предприятия (лояльности потребителей, закупок, организации производства, обслуживания оборудования, больших потерях от производственного брака, технологических несоответствий, простоев и т.д.).
В финансовом плане системный кризис выражался в срыве обязательств перед кредиторами, в том числе поставщиками, в длительных задержках выплат вознаграждения персоналу, отсутствии источников для проведения каких-либо стабилизационных мероприятий. Показательно, что в условиях такой деградации на заводе сложился острый дефицит мотивированного промышленно-производственного персонала при полном штате линейных руководителей и избыточной численности аппарата заводоуправления (в сравнении в аналогичными по масштабу и профилю предприятиями в целом обеспеченного кадрами региона).
В соответствии с первоочередной задачей финансовой стабилизации было необходимо, прежде всего, восстановить производственный процесс, а для этого – обеспечить исполнение рабочими и специалистами своих обязанностей и создать условия для вывода качества продукции на нормативный уровень. Конъюнктурные и технические предпосылки для этого имелись. Как показал анализ, наиболее значимая проблема состояла в фактическом распаде социальной подсистемы предприятия, и это эксплицитно проявлялось в устойчивом взаимном недоверии трех основных групп заводского коллектива и фактической атомизации заводского социума, критически сместило баланс личных и общих (групповых, профессиональных, общекорпоративных) интересов в сторону индивидуальных. Повсеместный брак, технологические и организационные несоответствия, срыв обязательств, нелояльность работников на всех уровнях привели к деградации операционных процессов и механизмов управления.
Таким образом, нормализация социальной подсистемы в принципиальных, с точки зрения автора, вопросах состояла в восстановлении уровня доверия между иерархическими группами, но, прежде всего, – в возврате к нормальному состоянию трудовых установок всех групп работников. Ограничениями при решении задачи было отсутствие бюджета, сжатые сроки, отсутствие истории взаимодействия автора с работниками предприятия.
Технически-ориентированные улучшения производственного процесса и качества продукции не ставились как первоочередная задача, так как разрушенная мотивация нормально работать делала неприемлемыми риски отсутствия результатов в данном направлении. Предложение о конкурентном вознаграждении в данном регионе не получило отклика у бывших рабочих завода из-за стойкого недоверия к обещаниям, а вахтовая схема привлечения трудовых ресурсов не соответствовала цели восстановления устойчивой социально-экономической системы.
По результатам сценарного анализа доступных ресурсов и ограничений была сформулирована концепция сдвига эмоционального отношения работников к своему предприятию посредством точечных изменений визуального окружения. Эти изменения должны были показать желание и готовность инициатора изменить ситуацию на предприятии, но проявились они в сфере эмоций, а не лозунгов и увещеваний. Были показаны не столько сами изменения, сколько намерения их проводить. С этой целью в производственных цехах, во вспомогательных и административных помещениях было размещено около сотни репродукций шедевров мировой живописи (в основном – русские академические художники). Постоянная экспозиция резко контрастировала с неухоженными стенами, а сам выбор репродукций – с визуальным рядом из средств массовой коммуникации.
Для усиления эффекта через месяц в механообрабатывающем цеху состоялось выступление республиканского хора с классическим репертуаром. Позднее был закончен ремонт бытовых помещений одного из цехов с использованием высококачественных материалов. Следует подчеркнуть, что ремонт проводился в одном бытовом помещении одного цеха, локально – были ограничения по смете. Но была решена задача демонстрации радикальных позитивных изменений для работников непосредственно, хотя и на небольшом участке.
В соответствии с исходным предположением, экстраординарные на фоне обыденности, мероприятия сразу вызвали бурное обсуждение и спровоцировали сначала неоднозначную реакцию работников всех уровней. По оценкам автора, большинство работников легко считывало эстетическую нагрузку «культурных инициатив» руководства, каждый день демонстрирующих феномены «прекрасного» на фоне «безобразного». Эти инициативы, неперсонифицированые по форме, но персональные в эмоциональном восприятии (и воздействии) неявно стимулировали выбор в пользу гармоничного и позитивного.
Ожидалось также, что эстетические акты (переживания) со временем естественным путем сформируют ограниченную по тематике, но актуальную и с широким охватом платформу коммуникации среди работников. Важно, что исходно эта тематика не имела никакого производственного или иного актуального содержания. Предполагалось, что содержательные вопросы заводской жизни будут вовлекаться в повестку социального взаимодействия постепенно. Для подкрепления позитивного эффекта от кристаллизации обновленной социальной подсистемы автор привлек не имеющих формального статуса лидеров мнений. В круг групповых обсуждений вошли острые вопросы восстановления производства практически во всех его аспектах. Личное участие руководителя предприятия (автора настоящего исследования) в решении насущных проблем при организации третьей (ночной) смены укрепило доверие между рабочими, ИТР и руководством.
Активный период в сдвиге восприятия работниками перспектив и привлекательности собственного предприятия длился около трех месяцев, что согласуется с современными представлениями о социальной динамике. За это время неравнодушно обсуждающая живописную экспозицию и выступление хора группа работников стала настоящим коллективом. Организационно-штатная структура быстро пришла к отраслевым пропорциям: коллектив практически самостоятельно избавился от коллег, не приемлющих негласные нормы трудовых и поведенческих практик.
В этой эмоциональной среде восстановление рабочих процессов происходило естественным путем. Последующие оценки объективных результатов трех лет работы предприятия в условиях «эстетической трансформации» приведены далее. Предприятие кратно улучшило основные технико-экономические показатели, доля рынка выросла с 30 до 70%; были восстановлены нормальные технологические и производственные процессы и система управления в целом (табл. 1).
Таблица 1.
Динамика ключевых показателей ООО «ЭлектроПром» (на конец года)
Показатель | Единица измерения | 2000 г. | 2001 г. | 2003 г. |
Объем продаж, в руб., к концу 2000 г. | % | 100 | 160 | 200 |
Объем продаж, в шт., к концу 2000 г. | % | 100 | 150 | 200 |
Отношение операционной маржи к затратам | % | < 0 | 35 | 75 |
Отношение численности основного производственного персонала к общей численности персонала предприятия | Человек / человек | 500/1000 | 400/850 | 400/750 |
Сравнение потерь от брака (в руб.), с концом 2000 г. | % | 100 | 25 | 15 |
Сменность | Ед. | 1,5 | 3 | 3 |
Сравнение производительности труда, в натуральном измерении (шт.\человек), с концом 2000 г. | % | 100 | 150 | 185 |
Источник: составлено автором.
Статистика за ряд лет показала устойчивость достигнутого результата. С экономической точки зрения общие затраты на реализацию программы составили менее 0,5% годовой выручки. Существенно важнее, что нормальные экономические результаты позволили восстановить техническое состояние основного производства и производственного обеспечения.
Для определения значимости проведенных реформ в достигнутых экономических результатах были сформированы экспертные оценки вклада отдельных факторов различного генеза. В качестве метрики результата установлен прирост операционной маржи. Методом анализа иерархий (Т. Саати) были получены одноуровневые ранговые оценки (табл. 2).
Таблица 2.
Влияние отдельных факторов на прирост технико-экономической эффективности
№ | Фактор прироста операционной маржи | Влияние фактора на прирост операционной маржи, % |
1 | Рост объема продаж | 50 |
2 | Снижение брака до нормативного уровня | 20 |
3 | Технологические улучшения рабочего процесса | 10 |
4 | Сокращение потерь рабочего времени (трудовая дисциплина) | 20 |
Источник: составлено автором.
В качестве экспертов к оценке были привлечены 12 квалифицированных специалистов завода различного функционального профиля4. До 40% прироста экономической эффективности предположительно обеспечивалось позитивным изменением трудовых установок рабочих и ИТР (факторы 2, 4). Возможно, доля человеческого компонента в данных измерениях выше, поскольку фактор роста объема продаж (фактор 1) является композитным – с вкладами от роста деловой репутации компании, значимого повышения качества и т.д. Отметим, что эксперты оценивали изменения в целом, не анализируя такие системные результаты, как гармонизация взаимодействия иерархических групп работников, здоровая социальная среда и т.д.
Для подтверждения (отбрасывания) гипотезы о сильном влиянии трудовых установок на факторы эффективности предприятия экспертный опрос был расширен в сторону определения структуры вклада отдельных инструментов и средств трансформации в соответствующей области (табл. 3).
Таблица 3.
Структура факторов прироста эффективности, %
Факторы эффективности \ Средства трансформации | Инвестиции | Методы управления | Технологические новации | Бизнес-процессы | Мотивация работников |
Рост объема продаж | 10 | 20 | 10 | 10 | 50 |
Снижение брака | 5 | 20 | 10 | 10 | 55 |
Технологические улучшения | 10 | 20 | 10 | 10 | 50 |
Сокращение потерь рабочего времени | 5 | 20 | 10 | 10 | 55 |
Источник: составлено автором.
Очевидное смещение средств повышения эффективности в сторону мотивационных инструментов с большой вероятностью будет характерно для предприятий, имеющих сопоставимые условия и похожие проблемы. Фокус внимания экспертов на область мотивации не противоречит исходной гипотезе автора о глубоких проблемах завода именно в социальной сфере. Приведенную смещенную оценку можно считать корректной, поскольку экспертная группа не была осведомлена о первоначальных гипотезах и о содержании программы реформирования. Этот известный метод (анализа иерархий) будет полезен при разработке комплексных программ развития (трансформации) для сравнения объектов (явлений) различной природы, позволяя получать «объективизированную» усредненным мнением экспертов численную оценку.
Из приведенных в табл. 2 и 3 сведений следует вывод о значимости мотивационного фактора в наблюдаемом приросте эффективности работы предприятия. В анализируемый период не отмечалось никаких заметных изменений во внешних параметрах или внутризаводских процессах и технологиях (помимо фонового восстановления до их обычного нормального течения). Но одновременно существенно и стабильно росла производительность труда за счет сокращения потерь рабочего времени, ущерба от брака и других несоответствий. В неизменных условиях системы стимулирования работников корректировка эмоционального компонента трудовой установки посредством ряда мер эстетического характера представляется наиболее значимым инициирующим механизмом улучшений.
Не подтвердилась гипотеза о существенных различиях в субъективной оценке изменений в отношении к труду работниками различных иерархических групп. Массовый анкетный опрос показал, что позитивные изменения подтверждали все категории работников, независимо от должности, образования и других личных характеристик (табл. 4). Респондент оценивал глубину изменений по предложенному перечню областей, присваивая ранг по шкале (–10…+10), где «0» – отсутствие наблюдаемых изменений.
Таблица 4.
Оценка проведенных изменений различными категориями работников
Насколько сильно изменилась на предприятии ситуация в соответствующей сфере / группе работников | Производственный персонал | ИТР | Руководители |
Дисциплины труда | 7 | 5 | 5 |
Ответственности работников | 7 | 5 | 7 |
Творческого отношения к делу | 5 | 7 | 6 |
Настроения в целом: личного и окружающих | 7 | 7 | 5 |
Понимания заводских и личных перспектив | 7 | 7 | 5 |
Источник: составлено автором.
Данные табл. 4 показывают усредненные по каждой группе значения рангов глубины изменений. Их значения – очень близки, хотя автор ожидал более критических оценок от группы ИТР. В каждой групповой выборке распределение значений имело выраженную медиану. Таким образом, изменения в трудовых установках можно назвать системными, поскольку они затронули все группы работников и были значимыми, а результаты проявились относительно быстро (к концу первого года реализации программы) и сохранялись в течение всего периода наблюдений (три года).
В данном примере применения предложенного нами подхода (к улучшению параметров удовлетворенности трудом посредством направленного эстетического воздействия на эмоциональное восприятие работником своей деятельности на заводе) необходимо учитывать, что начало реализации программы (2001 г.) – время ожиданий больших перемен. Еще одна особенность – средний возраст работников предприятия (35 лет) соответствует середине второго поколения рожденных и живущих в благополучную эпоху послевоенного подъема, в том числе и в СССР. Социологи отмечают, в том числе, более высокую эмоциональную восприимчивость этой возрастной группы, что, возможно, стало дополнительным фактором результативности применения эстетических инструментов.
Вывод о стабильной работе данного подхода должен быть сделан на основе представительной статистики разных отраслей, стартовых условий предприятия и макроэкономического окружения. По известной автору практике, данный подход использован преимущественно регионе Среднего Поволжья в первой декаде 2000-х годов предприятиями и организациями (более 30) различной формы собственности и отраслевой принадлежности. Поэтому применение описанного выше подхода нельзя считать уникальным, инициатива получила общественное признание, хотя, скорее, локальное по месту и времени. Канализируя эмоциональный эффект от эстетического инструментария в соответствии со своими актуальными задачами, что расширяет область применения подхода, не ограниченного описанными здесь задачами повышения производительности труда в производстве. По истечении некоторого времени и производственные предприятия, и организации здравоохранения, образования и государственной службы были практически единодушны в оценках эффективности данного подхода. Широкое социологическое анкетирование работников этих предприятий и организаций показало, что 93% опрошенных чувствуют эмоциональную поддержку, 80% отметили изменение в лучшую сторону в своей организации.
ООО «ЭлектроПром» было признано лучшим в отрасли по темпам роста производства, динамике финансово-хозяйственной деятельности и получило право представлять промышленный сектор на крупной региональной выставке.
Инициатива автора, оформленная как проект «Формирование корпоративной культуры средствами искусства» получила диплом администрации главы Чувашской Республики за первое место в сфере инноваций в промышленном секторе.
Несмотря на отмечаемую всеми применявшими описанный поход положительную динамику, необходимо подчеркнуть его ограничения. Побуждение изменений в трудовых установках работников через эмоциональный компонент эстетическими средствами приносит хорошие результаты в организациях с большими, но не критическими отклонениями в удовлетворенности трудом значительного числа работников. В этом случае демонстрация позитивных изменений укрепляет ожидания лучшего. Продуктивность подхода невелика в полярных состояниях микросоциума – в глубоком кризисе (полная утрата доверия) и коллективах, находящихся в благополучном состоянии (малый прирост удовлетворенности за счет «высокой базы»). Таким образом, все описанные инструменты действуют на принципе манифестации бинарной оппозиции в области эстетики и чувствительны к относительной величине разрыва.
СЕМАНТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Гипотеза о влиянии эстетического фактора на производительность труда была детализирована путем включения промежуточных элементов, формирующих связанность между соседними звеньями и, как следствие, – во всей цепочке отношений.
Выше были определены методологические основания между парами категорий, явлений и свойств. Воспроизведем теперь алгоритм функционирования механизма влияния эстетического фактора на производительность.
- Производительность труда зависит от уровня удовлетворенности трудом.
- Удовлетворенность трудом включает в качестве основы соответствие оценочному и эмоциональному компонентам трудовой установки работника. Поведенческий компонент влияет на производительность непосредственно.
- Трудовые установки не совпадают, но тесно коррелируют с ценностными ориентациями и транзитивно – с ценностями.
- Условия труда и окружения могут способствовать или препятствовать действиям работника в соответствии с его установками и ценностями.
- Интегральная оценка соответствия условий труда норме формируется из собственных и референтных групповых суждений о наблюдаемом, ожидаемом и перспективном соответствии условий труда норме. Изменение в желаемую сторону эмоциональной части оценок соответствия происходит быстрее и результативнее, чем изменение когнитивной части оценок.
- Эстетические инструменты адекватны задаче улучшения эмоционального фона на предприятии. Изменения происходят на персональном и коллективном уровне.
- При опоре эстетических событий на культурный код направления векторов индивидуальных реакций будут близкими. Тем самым формируется платформа для коммуникаций и повышения доверия.
- Сдвиги в эмоциональной среде повышают оценку окружения (п. 4) и улучшают ожидания. Появляется возможность активировать личные ценностные ориентации и трудовые установки.
На рис. 1 представлена упрощенная схема влияния эстетики на производительность труда.
Рис. 1. Укрупненная модель влияния эстетики на эффективность труда
Источник: составлено автором.
В данной модели этические основания частично являются компонентами культурного кода, эстетические представления и паттерны трудового поведения в полном объеме являются компонентами культурного кода. Несмотря на многообразие подходов, прямое соотнесение этических и эстетических аспектов с трудовыми установками неочевидно и сложно доказуемо в естественнонаучной парадигме. Введение же синтетической категории «культурный код» позволяет простроить надежную взаимосвязь.
На эмпирическом уровне рассмотрения эта взаимосвязь может быть проиллюстрирована (рис. 2) графиком динамики ожиданий позитивных перемен, побуждаемых изменениями в эмоциональной среде под воздействием ряда корпоративных событий с эстетической нагрузкой (кривая А с точками эстетических воздействий на рис. 2) и динамики производительности живого труда (кривая Б).
Рис. 2. Динамика позитивных ожиданий работников и их производительности
Источник: В иллюстрации использован принципиальный вид кривой, отражающей соотношение ожидаемого и фактического результата от инновационного продукта, – один из форматов исследовательских отчетов компании Gartner. Описание см. в Gartner Hype Cycle Research Methodology. Gartner, https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle
На рис. 2 показано, что ожидание позитивных изменений в связи с предъявлением образов прекрасного в оппозиции к негативной в целом оценке собственных перспектив, связанных с предприятием, характеризуется бóльшей амплитудой колебаний, чем дала бы строгая аналитическая оценка ситуации. По модели компании Гартнер за эйфорией следует разочарование, а затем – и выход на кривую насыщения. Амплитуда может быть сглажена корректирующими мерами. Кривая производительности ведет себя сходным образом, но пики менее выражены; есть также устойчивый лаг задержки между аналогичными фазами кривых ожиданий и производительности. Рассмотрим далее эмпирические сведения о ходе реформы на предприятии ООО «ЭлектроПром», сопоставив их с моделью ожиданий.
Первая точка на оси абсцисс (t0) – начало живописной экспозиции в цехах вызвало активные обсуждения и предположения о значении этого события. Отмечалось улучшение эмоциональной атмосферы. Параллельно через профессиональные группы было запущено неформализованное обсуждение насущных заводских проблем. Появилось и нарастало ощущение перемен. Отмечался незначительный рост производительности и снижения технологических и организационных несоответствий.
Через несколько недель (точка t1) состоялось выступление академического хора и вскоре – окончание ремонта в бытовых помещениях (точка t2). В целом в течение первых трех месяцев происходил взрывной рост ожиданий и незаметный рост производительности.
Достигнув пика, ожидания работников стали резко снижаться (в соответствии с методологической гипотезой Гартнер). Для сглаживания негативной тенденции руководство принимало личное участие в разрешении проблем, возникших при введении третьей смены на заводе. В противофазе падению ожиданий начался заметный рост производительности труда и качества продукции, соответствующая кривая достигла локального пика примерно через три месяца после временнóй отметки пика позитивных ожиданий. Такой лаг характерен при изменении условий реализации ценностных установок (в том числе трудовых). Такой же лаг отмечался при небольшом провале кривой производительности (см. рис. 2).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанный в статье методический подход к достижению положительных сдвигов в трудовых установках работников и оздоровления заводского социума в целом, конечно, может получить критическую оценку с позиции строгих требований к научному исследованию. Методическая разработка формировалась и была реализована как способ решения прагматической задачи управления в конкретных условиях. Ей предшествовало сценарное моделирование и качественная оценка отклика работников на инициируемые эстетические акты. Полноценный же научный эксперимент требователен к ресурсу времени и организационно сложен в плане формирования контрольного объекта для корректного анализа результатов. Так, выделение отдельного «экспериментального» цеха сталкивается с проблемой естественной взаимной диффузии настроений и ожиданий в подразделениях.
Проведенное нами исследование позволило уточнить методологическое обоснование механизма влияния эстетического фактора на производительность труда. Это влияние имеет комплексный характер, в статье рассмотрены два представляющихся наиболее значимыми направления. Первое – улучшение эмоционального состояния работника повышает его оценку удовлетворенности трудом и раскрывает потенциал для реализации личной трудовой установки. Второй – улучшение эмоциональной среды предприятия укрепляет коммуникацию и создает условия для повышения уровня доверия в коллективе.
Результаты проведенного исследования могут быть применены при решении широкого спектра задач, связанных с проблематикой социальной микросреды. Модель влияния эстетического фактора на производительность труда оказалась адекватной, а механизм корректировки значений параметра удовлетворенности трудом (и затем – трудовой установки) показал свою работоспособность, что подтверждается эмпирическими данными. При апробации подхода был получен ожидаемый, значимый и стабильный положительный эффект. Предложенный методический подход был неоднократно воспроизведен в других условиях (различные сектора деятельности, различные экономические, организационные и конъюнктурные особенности и проблемы). Можно констатировать, что гипотеза исследования подтверждена, и проверена (средствами структурированных экспертных оценок) возможность влияния на результат неучтенных в модели факторов.
Развитие исследования предполагается в направлении систематизации влияния культурных факторов на деятельность экономических субъектов микроуровня и расширение области применения методологии, изложенной в статье.
1 В дальнейшем будем использовать для обозначения эффективности (производительности) труда сокращенный термин – эффективность труда
2 World Values Survey (WVS). Сведения о проекте: WVS Database. URL: https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
3 Условное название.
4 Экспертная группа формировалась по критерию максимальной репрезентативности.
About the authors
F. V. Stryutskiy
Academy of National Economy under the Government of the Russian Federation (RANEPA)
Author for correspondence.
Email: stru1967@mail.ru
consultant on organization and management of production complexes
Russian Federation, SamaraReferences
- Algan Y., Cahuc P. (2011). Inherited Trust and Growth. American Economic Review, vol. 100, no. 5, pp. 617–623 (in Russian).
- Weber M. (2021). Protestant ethics and the spirit of capitalism / Transl. from Germ. by M. Levina. Moscow: AST. 350 p. (in Russian).
- Hartmann N. (2002). Ethics. Transl. from Germ. by A.V. Glagolev. St. Petersburg: Vladimir Dahl. 712 p. (in Russian).
- Zhdanov D.A. (2003). System-oriented modeling of the real sector of the Russian mesoeconom-ics. Moscow: Scientific Library. 256 p. (in Russian).
- Ivanova T.Yu. Rasskazova E.I., Osin E.N. (2012). Structure and diagnostic of job satisfaction: Development and approbation. Organizational Psychology, vol. 2, no. 3, pp. 2–15 (in Rus-sian). URL: http://orgpsyjournal.hse.ru/2012--3/62021308.html
- Inglehart R. (2018). Cultural Evolution, People’s Motivations are Changing, and Reshaping the World. / Transl. from Eng. by S.L. Lopatina. Moscow: Mysl. 347 p. (in Russian).
- Kahneman D. (2014). Thinking, Fast and Slow / Transl. from Engl. by A. Andreev. Moscow: AST. 653 p. (in Russian).
- Kasavin I.T. (2008). Text. The discourse. The context. Introduction to the social epistemology of language. Moscow: Canon+. 437 p. (in Russian).
- Kleiner G.B. (2022). Social leadership, power splitting, and inclusive management of the organ-ization. Voprosy Ekonomiki, no. 4, pp. 26–44 (in Russian).
- Lotman Y.M. (2002). Canonical Art as an Information Paradox. Articles on the semiotics of culture and art. St. Petersburg: Academic Project. P. 314–321 (in Russian).
- McLuhan M. (2007). Understanding Media: The Extensions of Man. Moscow: Kuchkovo Pole. 464 p. (in Russian).
- Polterovich V.M. (2001). Transplantation of economic institutions. Economics of Contemporary Russia, no. 3, pp. 24–50 (in Russian).
- Rapoport A.B. (1997). Unity in Diversity — the Legacy of European Culture. Systems research. Methodological problems, no. 25, pp. 50–54 (in Russian).
- Smirnova A.Yu. (2019). Dynamics of labor attitudes in a situation of threat of job loss. Organi-zational Psychology, vol. 9, no. 2, pp. 8–31 (in Russian).
- Throsby D. (2018). Economics and Culture / Transl. from Engl. by I. Kushnareva. Moscow: HSE Publishing house. 368 p. (in Russian).
- Huntington S. (2014). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Transl. from Engl. by T. Velimeev. Moscow: AST. 571 p. (in Russian).
- Aesthetics (1989). Aesthetics: A dictionary. / gen. ed. Belyaev A.A. Moscow: Politizdat. 445 p. (in Russian).
- Goldthorpe J. (1998). Rational action theory for sociology. Britain Journal of Sociology, vol. 49, no. 2, pp. 167–189.
- Hofstede G. (2001). Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations. Thousand Oaks (CA): Sage Publications. 568 p.
- Hofstede G., Hofstede G.J., Pedersen P.B. (2002). Exploring culture: Exercises, stories, and synthetic cultures. L.: Hachette (UK). 256 p.