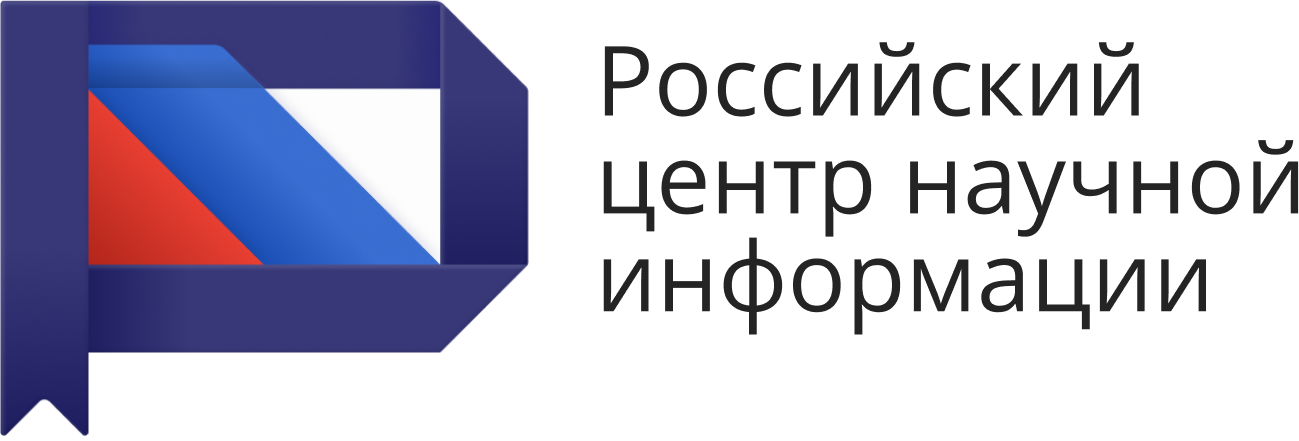Художник-шпион в рассказе В. Набокова «Ассистент режиссера»: репрезентация сенсорного и эстетического опыта
- Авторы: Дроздова А.О.1
-
Учреждения:
- Тюменский государственный университет
- Выпуск: Том 16, № 3 (2024)
- Страницы: 130-137
- Раздел: Литература в контексте культуры
- URL: https://journal-vniispk.ru/2073-6681/article/view/279917
- DOI: https://doi.org/10.17072/2073-6681-2024-3-130-137
- EDN: https://elibrary.ru/ymxtbc
- ID: 279917
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В исследовании рассматривается, как в первом англоязычном рассказе “The Assistant Producer” («Ассистент режиссера») В. Набоков осмысляет проблему репрезентации авторской идентичности в инокультурной читательской аудитории. С помощью структурно-семиотического и интертекстуального анализа выявляются приемы, организующие интригу рассказа – разоблачение рассказчика-художника. Фокусировка рассказчика на гротескных оптических и звуковых эффектах кинематографа, на иностранном акценте героев свидетельствует о его сенсорной и языковой чувствительности. Трансформируются клише массовой культуры: пространство псевдодокументального фильма расширяется за счет аллюзий на «разиновский текст» русской литературы и поэзию русского зарубежья, экфраcиса (отсылки на полотна импрессионистов и постимпрессионистов). Мирообразующую роль играют образы с семантикой аберрации восприятия и не поддающиеся точной вербализации ощущения осязания, обоняния; немотивированные аллитерации; аллюзии, дешифровка которых вызовет у иностранного читателя затруднение. Посредством перцептивных образов и литературных аллюзий, отсылок к полемике писателей русского зарубежья создается сюжет о коммуникативной ошибке. В восприятии рассказчика пошлый мир кинематографа недостоверно передает быт эмиграции, однако подчеркивает тривиальность замыслов героя-палача. Продолжая писательскую карьеру в Америке, В. Набоков развивает мысль о том, что гениальный писатель способен передать уникальный сенсорный, эстетический и языковый опыт в обход коммуникативных ограничений.
Полный текст
Переход на английский язык, смена читательской среды – ключевой мотив творческой биографии В. Набокова, определяющий его имидж писателя-классика двух литератур. Ученые приходят к выводу, что в американские годы В. Набоков продолжает совершенствовать свою художественную систему: экспериментирует с пространственно-временной структурой произведений [Heard 2016: 151], сопоставляет национальные литературные традиции [Meyer 1988: 4]. Как отмечает О. Воронина, диалог с англоязычной читательской аудиторией требует от писателя больших усилий по преодолению коммуникативного барьера [Voronina 2017: 46].
В свете изучения художественных экспериментов В. Набокова, его стратегий коммуникации с американским читателем научную проблему представляет интерпретация первого англоязычного рассказа «Ассистент режиссера» (1943).
Литературоведы подчеркивают особый статус рассказа в творчестве писателя: это единственное произведение В. Набокова, где в основе сюжета лежит исторический факт – арест популярной певицы Надежды Плевицкой за шпионаж. В. Набоков создает гротескный образ мира русских эмигрантов и впервые на английском языке исследует тему пошлости [Quinn 2002: 77–78]: история разоблачения тройного агента Голубкова и его жены Славски представлена как сюжет тривиального шпионского фильма. Как американский кинематограф не способен передать реальность прошлого [Parker 2022: 184], так и материальные артефакты памяти – фотография героини, вычурная медаль, брошь, аметистовая статуэтка – не способны зафиксировать живые воспоминания о России. Мир дешевой мелодрамы и пространство воспоминания передаются через 1) совмещение режимов восприятия – условно-достоверного, опирающегося на воспоминания, и кинематографического, 2) «размывание границ между повествовательными инстанциями» [Романова 2005: 22].
Цель работы – рассмотреть, как в первом рассказе В. Набокова, написанном в Америке, решается проблема репрезентации индивидуального эстетического и чувственного опыта. Согласно нашей гипотезе, воспроизводя в рассказе недостоверную, ограниченную сенсорику, писатель подчеркивает художественную значимость коммуникативной и перцептивной ошибки. Стратегию диалога писателя с американской читательской аудиторией характеризует ориентация на незавершенность, неполноту коммуникации.
Актуальность исследования определяется также тем, что рассказ, где совмещаются исторические факты и топосы шпионских фильмов, соответствует медийному образу Набокова, выстроенному им самим и его потомками в эпитекстах [Каракуц-Бородина 2022]: рассказ встраивается в современный контекст «паранабоковедческих» биографий писателя-шпиона (Н. Елисеев, Д. Галковский).
Исследуя коммуникативные стратегии В. Набокова в его первом рассказе на английском языке, мы обращаемся к структурно-семиотическому методу: предметом исследования являются перцептивные образы, организующие в рассказе пространство псевдодокументального фильма и характеризующие кругозор рассказчика. Посредством интертекстуального анализа рассматривается, как в эстетико-философской системе В. Набокова естественные механизмы перцепции участвуют в процессе художественного восприятия. Доказывается, что на сенсорику рассказчика влияет его читательская и зрительская память.
Особенностью чувственной образности в рассказе является двойственность ее семантики. С одной стороны, перцептивные образы порождены кинематографическими клише, с другой – они характеризуют процесс непосредственного наблюдения и воспоминания. Восприятие героев и рассказчика столь же недостоверно, сколь и механическая оптика кинематографа.
Пространство рассказа организовано по принципу рекурсии: вымышленный мир фильма и зрительный зал, утраченная родина и условно реальная чужбина сопоставляются с «зеркальным застенком» [Набоков 2015: 592] – “a prison of mirrors” [Nabokov 1943: 71] (здесь и далее фрагменты из рассказа и их перевод цитируются по источнику и переводу Г. Барабтарло, указанным в списке литературы). Для того чтобы передать призрачность мира русской эмиграции, рассказчик использует палитру колоризованных черно-белых фильмов 1920-х гг. Воспроизводится аддитивная цветовая модель: из хроматических цветов упоминаются красный (башмаки, багровоносый “clochard”), зеленый (дверь), оттенки синего (синее окно, лазурные штаны аккомпаниатора и волны цвета “sickly blue” [71] – «изсиня-тошный цвет» [592]), желтый (“the honey-colored haze of a crowded Russian church” [71] – «медовое марево» [594]).
Двойственность восприятия передается через смену повествовательного режима: от имитации всеведущего повествователя при описании воспоминаний к точке зрения личного рассказчика, наблюдающего за героями в настоящем времени. Этот прием используется в экспозиции, где жемчужины на кокошнике Славски обращаются в снежинки на плечах, обшлагах и усах зрителей, ожидающих открытия билетной кассы вместе с рассказчиком: «В уборной Шаляпина висел ее фотографический портрет: кокошник с жемчугами, рука, подпирающая щеку, сверкающие меж пухлых губ зубы, – и крупным, корявым подчерком, наискось: “Тебе, Федюша”. Звездообразные снежинки, обнаруживая, перед тем как подтаять по краям, свою сложную симметрию…» [585]. Смена режима повествования подчеркивает, что временная и пространственная дистанция не влияет на оптику рассказчика, который отчетливо видит и надпись на обороте фотографии, и зрителей в кинотеатре, и пространство дешевой мелодрамы.
Если иллюзорность зрительных ощущений – результат забвения или кинематографического искажения, то недостоверность аудиального восприятия связана с особенностями телесности рассказчика, его невосприимчивостью к аудиальным ощущениям. В частности, повторяются образы, имеющие физиологическую коннотацию: “throwing her head back with a throaty laugh” [69] («откидывающая голову с грудным смехом» [587]), “physical splendor of her prodigious voice” [68] («физическую роскошь ее необычайного голоса» [585]), “he gave of reaching her vocal climax, the anatomy of her mouth fully displayed in a last passionate cry” [71] («в последнем страстном вопле выставляя напоказ анатомию своего рта» [594]). Описание голоса базируется на наблюдениях за устройством чужого тела или на субъективной оценке исполнительской манеры Славски (“Her artistic taste was nowhere, her technique haphazard, her general style atrocious” [71] – «художественного вкуса у нее не было никакого, техника расхлябанная, манера исполнения ужасающая» [593]). Качественные характеристики звука представлены образами, передающими громкий или внезапный звук, то есть не требующие чуткого слуха: они дополняют визуальный образ (“with a voice of thunder and a head like a cannon ball” [69] – «с громоподобным голосом и с головой, похожей на пушечное ядро» [589]), подчеркивают контраст между тишиной и музыкой (“pat comes a mighty burst of music” [69] – «мощный раскат музыки» [587]), акцентируют интенсивность звука (“the tremendous sonorities of her voice” [71] – «в сильных переливах ее голоса» [593]).
Низшие модусы перцепции представлены как дополнительные по отношению к визуальным и звуковым образам: запах (“the honey-colored haze of a crowded Russian church” [71] – «медовое марево» [594]); осязательные ощущения (“rough grayness” [72] – «серую шероховатость» [596]) вводятся через обозначение цвета или формы (“outstretched jellycold arms” [72] – «студенисто-холодные руки» [595]). Образы низших модусов перцепции, не имеющие синестетическую (визуальную или звуковую) семантику, представлены единично – один ольфакторный и четыре осязательных образа. Запах сигарет (“prune-flavored Kapstens” [70] – «черносливом пахнущие “капстены”» [591]) указывает на характерологическую деталь – папиросницу (“an old roomy cigarette case of black leather” [70] – «старой просторной папироснице черной кожи» [591]), которая позволяет рассказчику распознать шпиона среди других зрителей. В финале вводится осязательно-вкусовой образ сигарет: “this tangible cigarette will be very refreshing” [74] («эта осязаемая папироска будет очень кстати» [601]) – единственное указание на ощущение, не связанное с миром фильма. Местоимение we указывает на коллективный опыт перцепции и на то, что чужое восприятие – Голубкова, Славской, других зрителей – является вымыслом рассказчика. В финале рассказа фантазийные образы начинают жить автономно от своего создателя: “See, the thin dapper man walking in front of us lights up too” [74] – «смотрите, идущий впереди нас худой, щеголеватый мужчина тоже закуривает» [601].
В фантазии рассказчика вымышленный мир оказывается правдивее, чем «документальная» история, как это было представлено уже в «Машеньке». Чувственно достоверными являются не образы основных модусов перцепции (зрение, слух), а едва уловимые ощущения обоняния и осязания, которые сложно артикулировать.
Хотя рассказчик выдает себя за священника (“in the days when I was a priest” [73] – «во дни, когда я еще был священником» [597]), он оценивает поступки героев с точки зрения художника (“I consider that, artistically, he overstressed his effacement” [70] – «я считаю, что с художественной точки зрения он переигрывал» [591]). По своей наблюдательности рассказчик близок поэту Федору Годунову-Чердынцеву из романа «Дар» (1937–1938), который слышит в кашле пассажира троллейбуса «русские интонации» (ср.: в рассказе герои именуют знакомого священника Федором). Как и герой «Дара», рассказчик чувствителен к семантической и фонетической стороне языка.
Оценочная точка зрения рассказчика представлена с помощью фонетических средств выразительности. Механистически повторяющиеся звуки характеризуют убийство как банальное, тривиальное действо (ономатопея: “the conditional ra-ta-ta reflex of machine-gunnery” [68], аллитерация, передающая звуки всхлипывания: “sobbing side by side with the wife or widow” [71]). Идеологически обусловленное мировидение передается через искажение синтаксической валентности: слова связаны не по смыслу, а фонетически (аллитерация: “by the fact that scraps of information about forts and factories” [70]). В мире палачей и пошляков смысл слов утрачивается, остается их фонетическая «оболочка».
Немотивированные аллитерации используются в эпизодах, где визуальный образ представлен как расплывчатый – в результате кинематографического искажения (повторение звонких [g], [l], [m] и глухого [s]: “a gloomy glimpse of ravens, or crows” [69]) или аберрации памяти (повторение смычных взрывных звуков [d], [p], [g]: “dapper and daring djighit Golubkov” [68–69]). Художник также способен понимать чужую речь и распознавать ее фонетические особенности: “Kapstens,” as he pronounced it” [70] – «“капстены” (в его произношении)» [591], “he wanted it velly velly badly” [70] – в переводе Г. Барабтарло используется сниженная лексика: «хотелось дозарезу» [589]. Рассказчик оценивает собственную и чужую слепоту и глухоту как проявление гротескного устройства мира.
В процессе эстетического восприятия рассказчик фиксирует семантические несоответствия между знаком и референтом. Так, в создании образов шпионов участвуют неточно переведенные русские пословицы (“Russian humor being a wee bird satisfied with a crumb” [72] – «русский юмор что пичужка: и крошкой сыта бывает» [595]). Высказывание “here are only two things that really exist – one’s death and one’s conscience” [73] («всего двое и есть – смерть да совесть» [597]) – реминисценция к пословице «Стыд та же смерть» и реплике Андрея Болконского: «Я знаю в жизни только два действительные несчастия: угрызение совести и болезнь» [Толстой 1938: 110]. Вымышленная пословица подчеркивает эстетическое значение совести: возможность художника видеть мир с чужой точки зрения, в том числе видеть самого себя со стороны.
Фразеологическая окказиональность и игра с произносительными нормами выдает в рассказчике художника, осмысляющего пошлость как языковую инертность и редукцию смысла. Трансформация клише (см. подробнее: [Полищук 1997: 811]) является принципом, организующим художественное пространство рассказа: совмещаются образы массового кинематографа и произведений русского и европейского искусства.
Жесты Славски (“her fist at her cheek” [p. 70], “her kid-gloved hands” [p. 71]) отсылают к импрессионистским портретам певиц и, в частности, к картине Анри де Тулуз-Лотрека «Певица Иветт Гильбер в момент исполнения песни» (1894): в композиционном центре картины находятся сцепленные руки певицы в черных перчатках. В американских романах В. Набокова картины Тулуз-Лотрека характеризуются как пример рекламной пошлости «гнусных плакатов» («Ада») [Набоков 2006: 444], как атрибут неуютного жилища («Пнин») [Набоков 2004: 61]. Другой живописный источник образа Славски – портреты Эдгара Дега «Певица с перчаткой» (1878), «Ария собаки» (1876–1877). И на картинах, и в рассказе в деталях изображается рот певицы: “the anatomy of her mouth fully displayed in a last passionate cry” [71] – «в последнем страстном вопле выставляя напоказ анатомию своего рта» [594]. С помощью живописного экфраcиса пространство зала, где собираются сентиментальные слушатели-эмигранты, наделяется свойствами вульгарного кафешантана.
Смысловые возможности ходульного мелодраматического сюжета расширяются за счет обращения к «разиновскому тексту» русской литературы. Славска, исполняющая песню «Из-за острова на стрежень…», сопоставляется с персидской княжной из цикла А. С. Пушкина «Песни о Стеньке Разине». И в рассказе, и в цикле зеленое дерево – тополь и дуб – являются предвестниками смерти. Афиша фильма, на которой акцентируется деталь – красные башмаки (“red-booted romance” [74]), – отсылает к стихотворению М. Цветаевой «Стенька Разин»: «В небе-то – ясно, / Темно – на дне. / Красный один / Башмачок на корме» [Цветаева 1994: 345]. В советских произведениях по мотивам истории о Разине появляется близкий рассказу В. Набокова мотив «смены идентичности» (см., к примеру, рассказ А. М. Соболя «Княжна», где героиня оказывается шпионкой) [Симонова 2021: 99].
Обращаясь к «разиновскому тексту», В. Набоков актуализирует проблему поэтической интерпретации исторического материала. В инокультурной среде писатель создает собственную вариацию образа Разина как абсурдного героя-властолюбца, вынужденного менять личины.
В область билингвального эстетического эксперимента попадает и современная В. Набокову лирика русского изгнания. Как отмечают О. Ронен и Г. Барабтарло, одним из источников образа “Green Lady” является Наталья Поплавская, автор «Стихов зеленой дамы» [Записки… 2013]. Лирике Н. Поплавской свойственно типичное для писателей русского зарубежья 1920-х гг. «сближение эмигрантского мировосприятия с кинематографическими моделями реальности» [Янгиров 2006: 408]: «простились банально и просто / как прощаются в кинодрамах» [Поплавская 2017: 7]. Образ «зеленой дамы» и в лирике Н. Поплавской, и в рассказе В. Набокова строится посредством кинематографических клише: «были губы бесстыдно ярки» [Поплавская 2017: 7] – “her rich painted lips” [71], «обнаженные плечи / холодели от взгляда слепого» [Поплавская 2017: 7] – “outstretched jellycold arms” [72].
Художественная реальность фильма не является герметичной. В процессе восприятия участвует читательская и зрительская память рассказчика, индивидуализирующая формулы массового искусства и прецедентные образы классической и современной литературы.
Эстетическая и сенсорная чувствительность имеют общую природу: они апеллируют к индивидуальной памяти наблюдателя. Атрибуция этого опыта – главная интрига рассказа. Тайна агента Голубкова представлена как секрет Полишинеля, поскольку даже жертва догадывается о личности убийцы. Раскрытие личности рассказчика, напротив, – нетривиальная задача, требующая проверки трех версий: рассказчиком может выступать один из эмигрантов-зрителей, сам Голубков или поэт, обладающий способностью перенимать чужую точку зрения.
Последняя версия указывает на имплементацию значимой для Набокова темы лингвистического перехода. В первом рассказе на английском языке писатель уподобляет художника, пишущего на неродном языке, шпиону, который должен внедриться в инокультурную среду и поменять ее. Именно формирование идеологически верной точки зрения на события является главной шпионской задачей Голубкова, работающего на правительство Германии и СССР. Рассказчик уточняет, что Голубков является «тройным агентом» (“a triple agent to be exact” [69]), где третья сторона представлена таинственным главным начальником (“arch-boss”), выносящим приговор герою в каламбурах: “I am afraid, my friend, you are nott nee-ded any more” [74].
В русских переводах реплика господина Пуппенмейстера отсылает к Иосифу Сталину как историческому прототипу: «Боюсь, друг мой, что ви нам более нье нужни» (пер. Г. Барабтарло [Набоков 2015: 601]), «извещен с легким грузинским акцентом»: «Боюсь, дарагой, вы нам больше не понадобитесь» (пер. Д. Чекалов [Набоков 2001: 43]). В переводе С. Ильина образ Пуппенмейстера редуцируется: не переданы акцент и каламбуры («Боюсь, друг мой, вы больше нам не нужны» [Набоков 2004: 204]). В такой интерпретации Голубков ошибочно предстает не тройным, а двойным агентом – секретные сведения он добывает только для СССР и Германии, тогда как Пуппенмейстер не принадлежит ни одной из этих сторон.
Еще одной атрибутирующей деталью является манера речи «начальника»: “slight foreign accent and special brand of blandness” [74]. Легкий иностранный акцент указывает на владение несколькими европейскими языками, каждый из которых не является для Пуппенмейстера родным. Характеристика интонации отсылает к замечаниям критиков В. Набокова: «его стилистический холодок» (Г. Адамович [Классик… 2000: 73]), «холодный блеск – не в русском духе» (М. Осоргин [там же: 104]), «растворяет действительную жизнь в нереальную, пронзенную ветрами и холодом, в мертвый театр марионеток» (Н. Андреев [там же: 189]). Идентифицировать личность начальника может только читатель русскоязычных произведений писателя, знакомый с эстетической полемикой русской эмиграции.
Попытка определить реальный прототип Пуппенмейстера среди существовавших исторических личностей ведет к наивно-реалистической интерпретации произведения. В сложной субъектной структуре рассказа интегрирующим началом выступает не документальный факт, а фантазия художника: образу Пуппенмейстера соответствует гротескный образ автора-персонажа. Современные исследователи отмечают, что образ кукловода используется В. Набоковым для осмысления собственной поэтики [Белоусова 2021: 213].
Таким образом, интерпретация образной структуры первого рассказа В. Набокова на английском языке требует от американского читателя не только эрудиции или навыков дешифровки, а со-творческого чтения. В философско-эстетической системе писателя лингвистическая и перцептивная чувствительность оказываются явлениями одного порядка, они участвуют в создании и рецепции вымышленных миров.
Проблема вербальной и визуальной репрезентации восприятия значима для В. Набокова в связи с переводом индивидуальной художественной системы на английский язык. Перцептивные ощущения, указывающие на механистичность киносъемки, в действительности объясняются свойствами естественного восприятия рассказчика: аберрациями памяти, нечувствительностью к звуку, читательскими и зрительскими ассоциациями. Минималистичность аудиального пространства рассказа контрастирует с многообразием фонетических средств выразительности. Внимание писателя к звуковой стороне английского языка может оцениваться как форма его творческой адаптации в иноязычной среде.
Коммуникативная стратегия В. Набокова в начале его американской карьеры заключается в сознательном отказе от 1) редукции собственного стиля и, в частности, перцептивной поэтики как стилеобразующего фактора, 2) адаптации интертекстуальной и образной системы текста. Необходимость сохранения констант писательской идентичности («гения») отличает и набоковский переводческий метод в начале 1940-х гг.: “A true artist may disappear, but no true artist can ever become invisible” [Shvabrin 2019: 203] («Настоящий художник может исчезнуть, но ни один настоящий художник не способен стать невидимым»). В рецепции В. Набокова гений маскировки – и шпион, и художник – в чужой языковой среде неизбежно раскрывает свою личность.
Об авторах
Анастасия Олеговна Дроздова
Тюменский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: drozdova@utmn.ru
ORCID iD: 0000-0001-5728-142X
SPIN-код: 3926-1781
ResearcherId: D-3770-2019
к. филол. н., старший преподаватель кафедры языкознания и литературоведения
Россия, 625003, г. Тюмень, ул. Володарского, 6. a.o.Список литературы
- Белоусова Е. Г. Волшебник и фокусник в эстетической и художественной системе В. Набокова (на материале рассказов 1920–1930-х гг.) // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2021. № 69. С. 209–226. doi: 10.17223/19986645/69/10
- Записки из одного угла. Из писем Омри Ронена к Геннадию Барабтарло. Публикация, вступительная заметка и примечания Геннадий Барабтарло // Звезда. 2013. № 5. URL: https://magazines.gorky.media/zvezda/2013/5/zapiski-iz-odnogo-ugla-iz-pisem-omri-ronena-k-gennadiyu-barabtarlo.html (дата обращения: 14.06.2023)
- Каракуц-Бородина Л. А. Набоков в рекламе: исследователь, копирайтер, продюсер // Вестник ПГУ им. Шолом-Алейхема. 2022. № 2(47). С. 82–101. doi: 10.24412/2227-1384-2022-247-82-101
- Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: Критические отзывы, эссе, пародии / под общ. ред. Н. Г. Мельникова. М.: Новое литературное обозрение, 2000. 688 с.
- Набоков В. В. Американский период. Собрание сочинений: в 5 т. СПб.: Симпозиум, 2004, 2006. Т. 3, 4. 702 с.; 672 с.
- Набоков В. В. Полное собрание рассказов. СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. 752 с.
- Набоков В. В. Со дна коробки: Рассказы. М.: Независимая Газета, 2001. 192 с.
- Полищук В. Жизнь приема у Набокова // В. В. Набоков: pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. Т. 1. СПб.: Изд-во РХГИ, 1997. С. 809–822.
- Поплавская Н. Ю. Стихи зеленой дамы: 1914–1916. Б.м.: Salamandra P.V.V., 2017. 120 с.
- Романова Г. Р. Философско-эстетическая система Владимира Набокова и ее художественная реализация: период американской эмиграции: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Владивосток, 2005. 38 с.
- Симонова О. В. Разинский мотив утопления княжны в литературе о Гражданской войне («Княжна» А. М. Соболя и «Повольники» А. С. Яковлева) // Сибирский филологический журнал. 2021. № 4. С. 97–109. doi: 10.17223/18137083/77/8
- Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Война и мир. Т. 2. М.: Худ. лит., 1938. Т. 10. 429 с.
- Цветаева М. И. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Эллис Лак, 1994. Т. 1. 640 с.
- Янгиров Р. «Чувство фильма»: заметки о кинематографическом контексте в литературе русского зарубежья 1920–1930-х гг. // Империя N. Набоков и наследники: сб. ст. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 399–426.
- Heard F. C. Time Travelers: Narrative Space-Time and the Logic of Return in Nabokov’s American Fiction // Texas Studies in Literature and Language. 2016. Vol. 58, № 2. P. 144–164.
- Meyer P. Find What the Sailor Has Hidden: Vladimir Nabokov’s “Pale Fire”. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 1988. 276 p.
- Nabokov V. V. The Assistant Producer // The Atlantic Monthly. May 1943. P. 68–74.
- Parker L. Nabokov Noir: Cinematic Culture and the Art of Exile. Ithaca, London: Cornell University Press, 2022. 272 p.
- Quinn B. Nabokov’s Nostalgic Farewell to Europe in His First English Short Story “The Assistant Producer” // Studies in English Language and Literature. Vol. 52. Kyushu: The English Language and Literature Society, 2002. P. 69–86.
- Shvabrin S. Between Rhyme and Reason. Vladimir Nabokov, Translation, and Dialogue. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 2019. 419 p.
- Voronina O. “They Are All Too Foreign and Unfamiliar…”: Nabokov’s Journey to the American Reader // Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory. 2017. Vol. 3, № 2. P. 25–51.
Дополнительные файлы