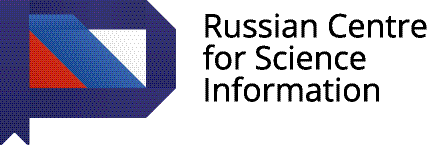The Phenomenon of Childhood and the Image of the Child in G. Hauptmann’s Late Drama ‘Iphigenie in Aulis’
- Autores: Sklizkova A.P.1
-
Afiliações:
- Vladimir State University
- Edição: Volume 16, Nº 4 (2024)
- Páginas: 158-167
- Seção: Literature in the Cultural Context
- URL: https://journal-vniispk.ru/2073-6681/article/view/286533
- DOI: https://doi.org/10.17072/2073-6681-2024-4-158-167
- EDN: https://elibrary.ru/bfqsdo
- ID: 286533
Citar
Texto integral
Resumo
The article discusses the perception by the late Hauptmann of the phenomenon of childhood and the closely related image of the child, which reveals the specificity of the playwright’s worldview in comparison with his early works, contributes to clarification of the complex creative process connected with the expansion of the writer’s conceptual horizon. Hence the objectives of the present study are as follows: to identify the principles underlying the poetics of Hauptmann of the late period; to reveal the playwright’s theoretical positions concerning the phenomenon of childhood and the image of the child; to substantiate the nature of Hauptmann’s existential searches connected with the paradigm of continuous renewal; to provide reflections on the game model presented by Hauptmann as a dramatic genesis of childishness; to show, using the example of the drama Iphigenie in Aulis, the unique thinking of the girlchild, the acquisition by the game consciousness of a new existence.
The analysis revealed contextual Hauptmann’s connections with the game discourse of his epoch (Groos, Buytendijk, Huizinga), the dramatist’s close world-view contact with 18th-century game traditions (Goethe, Schiller). The modernization of their basic positions concerns the ontological perception of game as the quintessence of childishness, which, being a property of the soul, is perceived by Hauptmann as a divine cosmic principle. The child, creating playing being in his/her consciousness, contributes to the manifestation of the game world essence. The study has found that the triad (unconscious childhood, the loss of unconscious childhood, conscious childhood), represented in theoretical works and only partially presented in children’s dramas of the early period, receives a full poetic embodiment in the late drama Iphigenie in Aulis. The creative idea of a child’s continual reflection, leading to a new spiritual birth, manifested in the early dramas through the game metaphor of sunlight, is reproduced in the later works as a moonlight gameplay. Iphigenie the child, having created a night proto-drama in her head, deprived of childhood in the visible being, finds it in the night darkness, which becomes her protection and support.
Palavras-chave
Texto integral
Феномен детства в значении индивидуального психологического переживания наиболее полно характеризует Гауптмана как писателя времени модерна, основу которого составляет суверенная субъективность, явленная в ее «трансцендентальном истоке познания» [Аствацатуров 2020: 18]. В литературоведении отсутствуют работы, затрагивающие столь важную для немецкого художника слова мировоззренческую категорию детства. Между тем ее осмысление позволяет осознать специфику творческого мышления драматурга, увидеть своеобразие авторского дискурса позднего Гауптмана.
Писатель в 30–40-е гг. XX столетия ведет уединенный образ жизни, по словам его секретаря Беля, удручен современной эпохой, литературного общения у него крайне мало, главным становится переоценка творчества художников слова, столь значимых для него ранее, и своих собственных творений [Behl 1949]. Подобное мироощущение способствует вступлению Гауптмана в литературный контекст с самим собой. Возникает особый дискурсионный континиум, в котором ощущается необходимость постоянного присутствия собеседника и воспринимающего субъекта. Таким собеседником становится Гауптман сам для себя, равным образом как и воспринимающим субъектом. Дискурсионный диалог, должный привести к взаимопониманию участников дискуссии, у немецкого драматурга порождает непрерывное и безграничное творческое движение, служит трансформации индивидуального сознания, развивает свободное мышление, что и влечет за собой ревизию собственных понятий. Гауптман, являясь сам для себя комментатором, на основании личных высказываний и прежних поэтических конструкций вершит то креативное действо, которое и способствует расширению его понятийного горизонта. При этом немецкий драматург, интерпретируя свои прежние творения, постигает себя не столько как автора, сколько как читателя, подвергаясь рефлективному отношению к приватной традиции.
Перечитывая свои ранние творения, которые условно можно назвать «детскими» драмами («Вознесение Ганнеле» (1893), «А Пиппа пляшет» (1908), «Заложница Карла Великого» (1908)), Гауптман испытывает экзистенциальную потребность в трансформации столь ярко представленного им феномена детства. Не случайно для писателя весьма важна «внутренняя пауза, которая способствует концентрации в сознании всего того, что было пережито ранее» [Hauptmann 1980: 430]. Для Гауптмана подобная концентрация является «необходимым условием творческого покоя и одновременным зарождением нового поэтического импульса» [ibid.: 568]. Теоретические положения, сформированные в ранние годы, мало меняются, но ракурс изображения в поздних текстах драматурга иной, зарождается новая поэтическая идея – не движение вверх, к свету солнца делает индивида созидающим свой мир ребенком, а, напротив, его низвержение в темные подземные недра. Столь важная для позднего Гауптмана идея бессмертия связывается им с первобытной сферой хтонической тьмы, погружение в которую знаменует для героя – ребенка – духовное и душевное обновление сознания, вечную жизнь, вечное детство.
Онтологическая интерпретация Гауптманом феномена детства
А. И. Жеребин, говоря о немецкой Moderneforschung («модернимоведение»), выделяет один из его наименее разработанных принципов – диалектическую триаду. В ее основе заложена трехчленная парадигма модернистского мышления, «философия праведного пути, идея исторического процесса, предполагающего неполное тождество бессознательной истины в начале и истины осознанной, обогащенной всем опытом индивидуалистической культуры, – в конце» [Жеребин 2012: 50]. Такая диалектическая триада явственно прослеживается в онтологической интерпретации феномена детства у Г. Гауптмана. Немецкий драматург различал три стадии человеческого развития: бессознательное детство, его потеря и детство сознательное [Hauptmann 1985: 18]. Он подчеркивал, что подобное представление тесно связано с его пониманием Золотого диска. Им боги «бессознательно играют вначале, потом теряют его, а затем вновь находят и начинают сознательно им играть» [ibid.: 155]. Образ Золотого диска – это мифологема из песен «Эдды» (“Voluspa”), из той скандинавской мифологии, которая, по Гауптману, пропитана глубокой символикой. Восприятие Золотого диска (“Goldene Scheibe“) в качестве предмета, укореняющего гармонию мировой детской сущности, поэтически воссоздает мыслительную картину мира немецкого драматурга, «держит его в сетях и на протяжении жизни все сильнее завораживает» [ibid.: 154].
Как видно, экзистенциальные искания Гауптмана сосредоточены на процессе обретения утраченного детства, которое, получая антропоморфную поэтическую образность (игра богов с Золотым диском), связано с парадигмой непрерывного обновления, неуклонного становления. Возникает вопрос: что же является основой всего бытия, осмысляемого Гауптманом как квинтэссенция детства? Базисом детскости, явленной в качестве божественного космического начала, эманирующего из верхней сферы (неба) в нижнее пространство (землю), является игра. Именно игра, согласно триаде Гауптмана, коррегирует серединное состояние (потерю детства) и способствует концентрации внимания на грядущем (воцарении детства), в котором будет так, как раньше, и в то же время иначе: боги станут не бессознательно играть с Золотым диском, а сознательно.
Интересно, что Гауптман не знаком с ведущими «игровыми» тенденциями своего времени. Он не понимает, почему «никто не говорит об игре, о ней надо писать книги, философски осмысливать игру» [Hauptmann 1980: 43], поскольку «через игру происходит постижение сути мира, обращение к действительной жизни» [Hauptmann 1986: 385]. К примеру, драматург, для которого образ ребенка оказывается одним из ведущих, ни разу не упоминает имя К. Грооса (1861–1946), стремящегося психологически объяснить игровую деятельность ребенка [Groos 1899], равным образом как в дальнейшем Д. Эльконин (1904–1984) в своей содержательной работе «Психология игры» [Эльконин 1999]. Вне поля зрения Гауптмана представления об игре как движении «туда-сюда» (“hin und her Bewegung“) голландского психолога Ф. Бойтенданка (1887–1974) [Buytendijk 1933], хотя немецкий художник слова неоднократно говорил о вечном игровом движении, подчеркивая в нем идею обновления («В игре все обновляется во всем» [Hauptmann 1986: 312]). Кроме того, Гауптман, прекрасно знакомый с теорией эволюции Г. Спенсера (1820–1903) [Спенсер 1897], берет за скобки его биологическую оценку игровой деятельности, считая ведущим в игре формирование детских представлений («Все многообразие моих впечатлений об игровом мире сложилось в детстве, в дальнейшем им был придан подобающий вид») [Hauptmann 1980: 654]. Зрелый Гауптман, перечитывая и переосмысливая поэтико-философские творения мыслителей и художников слова, не был знаком с работой И. Хейзинги (1872–1945) «Человек играющий», вышедшей в 1938 г. При этом мысль Хейзинги об игре как «всеохватывающем способе человеческой деятельности, универсальной категории человеческого существования» [Хейзинга 2011: 21], вполне перекликается с оценкой Гауптмана игры как самой жизни, которая «зачастую сложна и трудна, но из нее выйти невозможно» [Hauptmann 1986: 30].
В данном случае можно говорить об особых контекстных связях Гауптмана с его современниками, с теми, которые предметом своих размышлений делали именно игру. Понимая под контекстными связями отсутствие взаимных рецепций при сходном восприятии некоего поэтического образа, равного по значению для всех, во всяком случае для многих, полагаем возможным вести речь о том, что размышления Гауптмана об игре вводят его в контекст общего игрового дискурса эпохи.
Между тем отсутствие восприятия игровых направлений своего времени не только не мешает, а, напротив, способствует вступлению Гауптмана в тесный мировоззренческий контакт с эпохой конца XVIII – начала XIX в. В первую очередь Гауптман относит себя к последователям Гете и утверждает: «Кто понимает Гете, тот понимает меня» [Hauptmann 1965: 67]. Подобное толкование наиболее ярко сказывается в экстраполяции игры на все мироздание. Аствацатуров в своей книге «Поэзия. Философия. Игра» подчеркивает мысли Гете об игре «как чистой деятельности, гармонически входившей в соприкосновение с миром» [Аствацатуров 2010: 6]. Гауптман, как бы намеренно повторяя Гете, называет игру «чистой деятельностью в боге» [Hauptmann 1986: 27] и, развивая далее это положение, пишет: «Бог играет с нами как отец с детьми, пространство есть его игровое дело, и мы должны играть с ним как дети с отцом. Так рождается детскость мира и детскость человека» [ibid.: 28]. Как видно, так называемый повтор Гете приводит Гауптмана к достаточно сильной модификации игровых положений мэтра классической эпохи, вернее, к прояснению собственной игровой концепции и переключению ее в область индивидуального сознания.
Главным для Гауптмана становится в игре именно детскость, к сознательному обретению которой стремятся весь универсум и отдельный человек. Детскость, по Гауптману, определяет реальное бытие мира и личности, окутывает эти две ипостаси своей антропоморфной сущностью. Именно с этих позиций он воспринимает текст Ф. Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии». Гауптман особенно выделяет и выписывает высказывание Шиллера о детстве как единственной нетронутой природе: «Не удивительно, что каждая пядь во внешней природе возвращает нас обратно к нашему детству» [Hauptmann 1965: 15]. Для Гауптмана данное высказывание Шиллера исполнено глубокого смысла. Шиллер, как известно, ведет речь о необходимости восстановления человеческой природы в целом, той природы, которая представляется ему разорванной в современности, но столь гармоничной в античности. Она стала для писателя «живым образом, моделью человека, которая неизбежно возникает, когда описывается кризисное состояние культуры» [Аствацатуров 2010: 280].
Автор «детских» драм воспринимает размышления Шиллера о возвращении к детству благодаря природе в аспекте собственных онтологических установок. Не случайно для Гауптмана ведущим становится шиллеровское слово «возвращает» (глагол „zurückführen“), которое концептуально связано с ключевым понятием Wiedergeburt (новое рождение). На него следует обратить пристальное внимание. Определение Wiedergeburt заимствовано драматургом из философии Я. Беме. Его произведения с особым вниманием перечитывает Гауптман в свои зрелые годы, практически полностью соглашаясь с выводом Беме о том, что вечное рождение имеет каждое божественное существо. Гауптман подчеркивает ведущую роль становления для того, кто «осознает движение духа в новое рождение» [Hauptmann 1980: 8], для того, кто «готов оставить себя прежнего и обрести себя иного» [Hauptmann 1986: 338], наконец, для того, кто входит в игровое соприкосновение с миром.
Таковым является, с точки зрения Гауптмана, ребенок. Побочный образ у Шиллера становится ведущим у немецкого драматурга. Шиллеровское понятие человека, играющего красотой, модернизируется Гауптманом в играющего ребенка. Писатель, сохраняя столь существенное в эстетике Шиллера представление об игровом порыве (Schpieltrieb), подчеркивает ценность его непосредственно у ребенка. По Гауптману, «взгляд ребенка проникает в вечность» [Hauptmann 1980: 14], «ребенок всегда внимательно всматривается в жизнь» [ibid.: 162], «на все в мире должен распространяться взгляд ребенка» [ibid.: 610], «ход детского мышления всегда гениален, он видит и чувствует лучше, чем взрослые, его наблюдения отличаются быстротой проникновения» [ibid.: 617]. В этой связи слова Гауптмана о Фр. Шлегеле приобретают особый смысл. Драматург пишет: «Я нашел для себя девиз у Фр. Шлегеля: “Вся святая игра искусства есть только подражание бесконечной игре мира”» [Hauptmann 1986: 201]. Гауптман подчеркивает, что для него данное положение Шлегеля связано с пониманием Золотого диска, представлением о детстве и ребенке.
Шлегель, убежденный в космизме искусства, в его выражении из мировых глубин бытия, старался, как справедливо указывает Браун, «создать трансцендентную эстетику, стремился примирить античное и современное искусство в высшей концепции красоты» [Браун 1912: 222]. Гауптман воспринимает романтика Шлегеля, как и классиков XVIII столетия, сквозь призму собственных представлений об игровом космосе, который для него не исключает индивидуальность, а, напротив, ее онтологически создает. Однако для Гауптмана ведущей оказывается не концепция красоты, а концепция играющего ребенка, постигающего игру богов с Золотым диском и не только приобщенного к вселенскому игровому бытию, но и сознательно творящего его в своем сознании. Более того, Гауптман уверен, что антропоморфный космос может проявить свою игровую сущность только благодаря чувственному ощущению играющего ребенка. Это влечет за собой перетолкование знаменитого 52-го фрагмента Гераклита «Темного»: «Вековечье ребенок ребячливый в нарды играющий. Ребенка царствие» [Гераклит 2012: 209]. Антропологический космос Гераклита являет себя как вечная игра ребенка, занятого и игровым строительством, и игровым разрушением. Под пером Гауптмана игра ребенка в качестве божественного субъекта сопрягается с Вечностью, гераклитовское «ребенка царствие» служит для Гауптмана показателем становления мировой космической драмы, которая, с точки зрения немецкого художника слова, первоначально зарождается в голове ребенка. Доказательством являются представления Гауптмана о специфике мировой драмы, изложенной им в теоретическом трактате «Искусство драмы». Она, полагает художник слова, «разворачивается в борениях света и мрака» [Hauptmann 1965: 39], «в таком борении возникают и одновременно снимаются противоречия “да – нет”, “Я – Не Я”, “Я – Ты”» [ibid.: 44], это и есть та «прадрама, которая играется на первой сцене – в голове ребенка» [ibid.: 45]. Гауптман, называя прадраму «драматическим генезисом детскости», превозносит тем самым «ребенка царствие», которое излучает свою детскую игровую энергию на весь зримый и незримый, конечный и бесконечный универсум.
Данные теоретические положения Гауптмана явственно прослеживаются в его поздней драме «Ифигения в Авлиде».
Образ ребенка в поздней драме Г. Гауптмана «Ифигения в Авлиде»
Литературоведы, которые обращались к толкованию драмы Гауптмана о несчастной дочери Агамемнона, возведенной отцом на жертвенный алтарь ради спасения Эллады, отмечают в целом тему искупления и жертвы. Ифигения хочет спасти род Атридов от проклятия [Santini 1998], желает победы Эллады в войне с Троей [Leppmann 1996], окружающий мир обрек девушку на жертву [Нипа 2001], находится во власти темных сил [Холмагорова 2012]. В литературоведении также достаточно подробно освещен вопрос, касающийся сходства и различия Гауптмана с Еврипидом, Корнелем, Гете, Гофмансталем, с теми писателями, которые желали осмыслить трагическую судьбу Ифигении [Voigt 1965; Sprengel 1984; Leppmann 1996; Santini 1998; Tempel 2010]. Несомненная важность и значительность подобных трактовок, свидетельствующих об общем «дискурсе Ифигении» в истории литературы, акцентируют в целом только мифологическое содержание в драме Гауптмана, хотя и концептуально отличное от его предшественников. Думается, в позднем произведении немецкого драматурга речь идет о чем-то большем. Важно понять, что скрывается за трактовкой мифологического, пусть и современно осмысленного, деяния Ифигении. Рассмотрение образа ребенка в контексте размышления Гауптмана о феномене детства, теоретически представленного в автобиографических работах писателя и творчески зафиксированного в его раннем творчестве, позволяет не только выявить глубинное содержание позднего текста Гауптмана, но и осознать специфику того коммуникативного действия, свойственного писателю как художнику времени модерна, которое Луман определяет как «ретроспекцию, предполагающую память, коррегирующую себя саму» [Luhmann 1997: 7].
Следует сразу отметить, что мысль Гауптмана о диалектической триаде (бессознательное детство, потеря его и детство сознательное), высказанная в 1892 г., получает полное поэтическое оформление только в поздней драме «Ифигения в Авлиде». Гауптман в произведении «Вознесение Ганнеле», рисуя страдания маленькой девочки (лишена родителей, больна, находится в предчувствии скорой кончины), не акцентирует внимания на первой части триады – бессознательном детстве. Ганнеле (по тексту драмы ей 14 лет) сразу представляется как взрослый ребенок, поскольку лишена всего того, что составляет сущность детства – радости и счастья, родительской любви. Драма «А Пиппа пляшет», напротив, полностью репрезентируется автором как глобальная поэтическая метафора бессознательного детства – малышка Пиппа (возраст ее не указан) пляшет, посредством танца моделирует свой собственный мир и вовлекает в него других. В драме «Заложница Карла Великого» девочка Герзуинд (ей 16 лет) своей наивностью и непосредственностью постепенно пробуждает в короле Карле сознательное возвращение к потерянному и забытому им детству, что и делает Карла истинно великим королем. Итак, отсутствие стадии бессознательного детства в «Вознесении Ганнеле», полная им охваченность в «А Пиппа пляшет», вступление в третью стадию детства сознательного в «Заложнице Карла Великого». Что касается позднего творчества, то в нем весьма значим тот процесс, который С. Вьета называет «модернизацией внутри модерна» [Vietta 2001: 42], когда «происходит трансформация писательского мира» [ibid.: 182]. Такая трансформация определяется экзистенциальной потребностью Гауптмана в коммуникации с собственным творчеством. Писатель, приобретая новый статус читателя своих ранних произведений, ощущает не только необходимость некоторого пересмотра их общей концепции, но и стремится ввести в текст то, что доминировало в сознании ранее, было теоретически высказано, но поэтически не оформлено, – включение в рамки художественного текста трехчленной «детской» парадигмы. С этих позиций и следует рассматривать образ ребенка в драме «Ифигения в Авлиде».
Нетрудно увидеть, что Ифигения вводится в текст как ребенок, который находится в стадии детской беззаботности. Девушка, подобно малышке Пиппе и пленнице Герзуинд, радуется ситуации, которая столь прекрасно складывается для нее. Однако если героини драм «А Пиппа пляшет» и «Заложница Карла Великого» восхищаются окружающим бытием в целом, в котором есть место танцу (Пиппа) или предоставлена возможность следить за грацией летающей бабочки (Герзуинд), то вся красота вселенной сосредоточена для Ифигении в отце („...des Weltgebieters, der voll Liebe ist“ s. 282). Восторг от встречи с ним переполняет девушку, что передается Гауптманом посредством обилия знаков восклицания. Дочь Агамемнона в ликовании три раза произносит слово «отец» („Vater! Vater! Vater!“) [Hauptmann 1962: 282], радуется, что они снова вместе („Da sind wir, Vater!“ [ibid.: 282], Микены опустели без него („Wie war Mykene leer, seitdem du fort bist!“) [ibid.: 82], только сейчас она вновь ожила („Nur leb ich wieder!“) [ibid.].
Несмотря на то что отец отталкивает ее (по тексту драмы Агамемнон желает отъезда дочери, стремится не допустить ее смерти), приводя тем самым Ифигению в полное отчаяние, она еще достаточно долгое время не теряет своей детской доверчивости. Не случайно Гауптман подчеркивает в ремарках, что девушка с плачем бросается на грудь матери („Sie legt sich weinend an die Brust der Mutter“ [ibid.: 285], как ранее от радости прижималась к груди отца. Такой жест Ифигении можно определить как особого рода подтекст, призванный выявить и поэтически подчеркнуть детскость героини. Она, несмотря на все отчаяние от вынужденного отдаления от отца, остается ребенком, которому свойственна и непосредственная радость, и столь же непосредственная грусть. Не случайно все окружающие (отец Агамемнон, мать Клитемнестра, кормилица Пайто, жрец Тестор) называют ее ребенком (Kind), милым ребенком (süßes Kind), бедным ребенком (armes Kind), несчастным ребенком (unglückliches Kind).
Между тем Гауптман так выстраивает поэтический текст, что становится ясно: Ифигения, оставаясь ребенком в глазах окружающих, постепенно перестает быть им для себя самой. Драматург выявляет сложный внутренний процесс моделирования в сознании Ифигении доселе чуждого ей мира – мира ночи, который приводит к потере детства, но и одновременно способствует его сознательному обретению. Поздний Гауптман называет ночь игровой прадрамой, поскольку именно глубокая тьма рождается светом. Доказательством служат для драматурга доверие к ночи Тинторетто и слова Мефистофеля из «Фауста» Гете, которые Гауптман вставляет в свой поздний очерк о венецианском художнике: “Ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar“ [Hauptmann 1942: 23].
В ранних творениях Гауптмана метафора детскости, представленная как игра богов с Золотым диском, знаменовала новое рождение индивида (Wiedergeburt) посредством мироощущения, образно называемого драматургом солнцем души. Так начинает воспринимать бытие маленькая Ганнеле, праздничный, солнечный ритм заложен в танец малышки Пиппы, благодаря которому вся вселенная эманирует ослепительным эффектом Фата-Морганы, солнце озаряет душу короля Карла, принявшего детскость за основу бытия. В зрелые годы мысль о духовном солнечном воспарении трансформируется в идею о ночном низвержении, благодаря чему ребенок, лишившийся детства, вновь его открывает для себя.
В сознании Ифигении постепенно начинает зарождаться игровая прадрама. Она, по Гауптману, создается в голове ребенка, испытывающего вынужденную игровую потребность в духовном новом рождении. Такая игровая потребность предстает в позднем творчестве Гауптмана как в высшей степени сложный и болезненный процесс. Драматург заостряет внимание на глубоких эмоциональных переживаниях героини, которая вчера еще радовалась свету дня, а сегодня ненавидит свое собственное дыхание („Noch gestern hab ich den Tag gejauchzt, heut aber haß ich meinen eigenen Atem“) [Hauptmann 1962: 294]. Ифигения признается, что чувствует себя больной, девушку пронзает ледяная дрожь, челюсти стучат, как на морозе („Bis tief ins Mark durchdringen Eisesschauer mich... macht im Frost meine Kiefer klappern“) [ibid.: 293]. Столь явные внешние симптомы являются и причиной, и следствием сильнейшего внутреннего нервного напряжения и потрясения. В данный момент Ифигения еще не ведает об уготовленной ей участи, однако глубокие страдания, которые испытывает, по Гауптману, играющий ребенок перед началом духовного преобразования [Hauptmann 1986: 216], приводят героиню к страшной мысли о полном завершении беззаботного детского существования. Прежде она была любимицей отца и матери, но внезапно стала сиротой, грузом для всех („Ich war des Vaters Libling und die Mutter nahm liebreich immer wieder mich ans Herz, und plötzlich ist’s, als allen ringsum nur noch eine Last“) [Hauptmann 1962: 323].
Игровое детское сознание, в котором закрепляется мысль о сиротстве (Verwaissung), влечет за собой смену ракурса восприятия. Дочь Агамемнона и Клитемнестры внутренним взором проникает в то бытие, которое, как она подсознательно чувствует, может служить ей защитой, спасет ее от сиротства. Так, ее глаза теперь ищут встречи с диском, который Артемида катит по ночному или утреннему небу („Bis tief ins Mark durchdringen Eisesschaue mir, <...> auch meine Augen die Scheibe treffen, welche Artemis am nächtigen oder Morgenhimmel rollt“) [ibid.: 293]. Причем сестра Аполлона, предстающая в речах Ифигении в единстве с богиней луны Селеной, возникает перед мысленным взором героини именно в тот момент, когда девушка беседует со своей кормилицей Пайто – бывшей жрицей богини Гекаты, расспрашивая ее о странных действиях, связанных с жертвоприношением подземным богам. В действиях Пайто нет ничего таинственного (бросает горящие ветки в огонь), но они заставляют Ифигению по-новому взглянуть на свою кормилицу. Девушка не понимает, почему Пайто раньше прыгала и смеялась с ней, а теперь так страшно изменилась („Du bist gesprungen, hast gelacht mit mir, warum nun bist auf einmal du so fürchterlich verwandelt?“) [ibid.: 295]. Но дело в том, что изменилась не столько Пайто, сколько сама Ифигения. Она предстает под пером Гауптмана как творец нового мира, является в силу своего игрового порыва его субъективным создателем. Прежняя игра в светлое бытие закончилась, Ифигения вынуждена включиться в игру другую – смоделировать бытие темное. Оно пугающее и страшное, девушку-ребенка охватывает ужас, ей кажется, что позади нее притаился кошмар („Mir war als hätte sich ein Grauen aufgerichtet hinter mir“) [ibid.: 298]. Олицетворение страха, приобретающего ярко выраженные антропоморфные очертания, свойственно, считает Гауптман, ребенку, который «воспринимает мир намного сильнее, чем взрослые, проникает в тайну, в его бытийную загадку» [Hauptmann 1980: 40]. Такое проникновение способствует тому, что призрачный доселе мир принимает зримые очертания и материализуется перед взором Ифигении в виде диска Артемиды – Селены и Гекаты, жрица которой находится рядом с девушкой.
Следует обратить пристальное внимание на третье действие, в котором изменения в игровом сознании героини достигают апогея. В беседе Клитемнестры и Агамемнона, касающейся судьбы их дочери, звучит имя Ифианассы. Так называют теперь Ифигению. Гауптман в данном случае ориентировался на весьма противоречивые сведения, почерпнутые им из мифологических источников. В одних Ифианасса считалась идентичной Ифигении, в других подчеркивалось, что это еще одна дочь Агамемнона и именно она была принесена в жертву, наконец, в-третьих, Ифианасса называлась сильной королевой, была одной из трех дочерей менад и женой Эндимиона. Для Гауптмана оказались востребованными все три толкования. Они, причудливо соединяясь в его драматическом повествовании, составляют тот внутренний фон, который, проявляясь в качестве подтекста, способствует пониманию авторской позиции. Так, родители Ифигении восстают, как и раньше, против ее неминуемой гибели, однако называют ее не ребенком, которого доселе столь любили, а Ифианассой. В речах Агамемнона и Клитемнестры дочь предстает как некое другое существо, отличное от той девушки, которая приехала с матерью в Авлиду. Однако в самый напряженный момент их разговора перед взором царя и его супруги возникает именно та, которую они раньше величали малышкой и милой деткой. Скрытым содержанием произведения Гауптман подчеркивает внутреннюю готовность властителей Микен утратить дочь, будь то Ифианасса или же их прежнее дитя Ифигения.
Что же касается самой девушки, то в данном случае вступает в силу положение, высказанное Г. Гадамером об игре как о преобразовании в структуру: на свет выходит то, что раньше скрывалось и ускользало» [Гадамер 1988: 159]. Для Ифигении тайное (намеренное равнодушие отца, желание матери уехать как можно скорее) становится явным, она постигает причины сиротства, о которых раньше не догадывалась. Дочь Агамемнона и Клитемнестры, слыша их разговор, «структурно преобразуется» – воспринимает себя отныне как Ифианассу, берет на себя ее игровую роль, познает ее игровое значение. Игровая прадрама, осмысляемая Ифигенией посредством антропологии имени, становится для нее неким подлинным материальным воплощением всего сущего. Показательна в этом плане ремарка Гауптмана, в которой подчеркивается, что у Ифигении волосы раcпущены, как будто она освободилась от оков („Iphigenie mit aufgelöstem Haar erscheint, als hätte sie sich aus Fesseln befreit“) [Hauptmann 1962: 339]. Эта ремарка выполняет функцию авторского высказывания, выявляет некий креативный уровень авторского дискурса. Важно поэтому обратить внимание на смысловые понятия глагола „aufgelösten“. Помимо значения «распустить» он предполагает действия, свидетельствующие о растворении, расформировании. Гауптман, употребляя отглагольное прилагательное „aufgelöstem“, не столько ведет речь о внешнем облике Ифигении (распущенные волосы), сколько подчеркивает практически полное изменение ее личности. Героиня расформировалась, бесследно растворилась, оковы прежнего существования сброшены, ребенок Ифигения стала Ифианассой.
Героиня Гауптмана, утратив детство, перестав быть ребенком для своих родителей, стремится к новому духовному обретению детства и хочет стать ребенком Гекаты, получить в ее темных чертогах тот кров, которого она была лишена в так называемом светлом бытии [Склизкова 2023: 145–153]. Перерождение Ифигении в сильную королеву Ифианассу влечет за собой решимость к преодолению границ между мирами и желание отныне моделировать бытие по собственным ночным законам. Именно в этом смысле следует понимать ее слова о готовности в роли жертвы умереть на алтаре, поскольку в этом проявляется теперь ее воля („Ich soll als Opfer sterben ...das aber ist mein eigner Wille nun“) [Hauptmann 1962: 342].
Важно учитывать и еще один момент. Осознание себя как Ифианассы требует приобщения к спектаклю, в котором ее роль становится ведущей. Гауптман подробно и красочно описывает появление героини на игровой сцене в четвертом действии. Она едет в золотой тележке в сопровождении торжественного кортежа. Девушка закутана в вуаль, похожа на Артемиду, вокруг лба расположен серебряный серп луны („feierlichen Zuges <...> ein goldener Wagen, auf dem Iphigenie verschleiert steht, gleichsam als Artemis eine silberne Stirn“) [ibidem: 353]. Авторская мысль не объявляется прямо, а преподносится в виде поэтических образов, главным из которых является серп луны, приобретающий под пером Гауптмана глобальное значение. Для драматурга жена Эндимиона Ифианасса сопрягается с влюбленной в юношу богиней луны Селеной, спускающейся в грот горы Латма, где лежит погруженный в дремоту ее возлюбленный. Героиня Гауптмана раньше лишь искала глазами серп луны, а теперь он, возложенный на голову девушки, раскрывает ей лунный смысл ночной прадрамы о силе и могуществе вечной любви. Спектакль о несчастной деве, обрекаемой толпой на заклание, становится спектаклем о сильной королеве Ифианассе, которая, поневоле признавая превосходство мрака, открывает в нем любовь.
Думы об Ахилле, о браке с ним в период бессознательного детства наполняли душу Ифигении радостью и счастьем. Утрата детства влечет за собой мысль о неминуемом расставании с Ахиллом. Обретение сознательного детства в чертогах Гекаты значит для Ифигении, постигшей лунную сущность Ифианассы, воссоединение с героем Эллады. Героиня начинает говорить об Ахилле с того момента, когда игровая прадрама выстраивается в ее сознании. Ахилл живет и действует в зримом мире, но его подлинную природу понимает Ифигения как ночную, темную. Она знает, что Ахиллу суждено погибнуть в битве, он смирился со смертью, отдал себя в ее власть („<...> wenn der todgeweihte Held dem Tod sich weihnt <...> Er strebt dem Schlachtgetümmel zu“) [ibid.: 299]. Недалек тот миг, когда серая тень скользнет к Ахиллу, тогда они навеки будут вместе („<...> ein grauer Schatten schwebt dann zu dir, Thetissohn, ob schwarzer Flut; das ist der Ort, am dem wir uns vermählen“) [ibid.: 363]. Не случайно Ифигения смотрит на Ахилла с позиции вечности („Ich schaue dir mit ewigen Blicke nach“) [ibid.], проникновение в которую, как показывает Гауптман скрытым содержанием своего поэтического текста, доступно лишь зоркому взгляду ребенка. Ифигения видит огонь, сияющий вокруг головы возлюбленного („O heiliger Feuerglanz, der um dich strahlt“) [ibid.]. Она сама сходным образом в темноте склепа окутана спасительным огнем („Die Gruft ist finster, doch im heiligen Feuer“) [ibid.: 365]. Это пламя любви, пламя вновь обретаемой детскости.
К новому рождению, к которому «приводят страдания и любовь» [Hauptmann 1986: 215], Ифигению увлекают три женщины – жрицы Гекаты, окутывая ее в танце большим черным покрывалом. Они, являясь воплощением тройственного принципа Гекаты, явленного драматургом в его первой драме о семье Атридов «Ифигения в Дельфах» как рождение – смерть – рождение, материализуются во втором поэтическом тексте как великие природные силы первопричинности. Переход в божественное первоначало, слияние с хтоническими первоисточниками знаменуют под пером Гауптмана окончательное вступление ребенка в период сознательного детства.
Заключение
Итак, поздний Гауптман, интерпретируя свои ранние «детские» произведения, поэтически воплощая прежние теоретические положения, несколько меняет свою драматическую позицию. Диалектическая триада (бессознательное детство, его потеря и детство сознательное), оформленная в ранний период посредством мифопоэтического образа игры богов с Золотым диском, у позднего Гауптмана корректируется в игру с диском Селены. Иная расстановка игровых акцентов приводит к укоренению в мире детской гармонической сущности посредством сопряжения с первоначалом хтонической Гекаты, сопоставляемой с культом Артемиды и богиней луны Селеной. Ребенок, создавая в голове ночную игровую прадраму, благодаря игровому порыву входит в игровое соприкосновение с миром тьмы, в котором находит утраченную защиту и спасение от сиротства.
Sobre autores
Alla Sklizkova
Vladimir State University
Autor responsável pela correspondência
Email: burelomy@list.ru
ORCID ID: 0000-0002-1481-1133
Código SPIN: 7872-4300
Professor in the Department of Russian and Foreign Philology
Rússia, 87, Gorkogo st., Vladimir, 60000Bibliografia
- Astvatsaturov A. G. Germenevticheskaya prelyudiya [Hermeneutical prelude]. Chelovek epokhi moderna: germenevtika sub’ekta v ne-metskoyazychnoy kulʼture XVIII – XX vekov [Man of the Modern Era: The Hermeneutics of the Subject in the German-Speaking Culture of the 18th-20th Centuries]. Moscow, Berlin, Direkt – Media Publ., 2020, pp. 14-36. (In Russ.)
- Astvatsaturov A. G. Poeziya. Philosophiya. Igra [Poetry. Philosophy. Game]. St. Petersburg, Gelikon Plyus Publ., 2010. 494 p. (In Russ.)
- Braun F. A. Nemetskiy romantizm [German Romanticism]. Istoriya zapadnoy literatury (1800–1910) [The History of Western Literature (1800–1910)]. Moscow, Nauka Publ., 1912, vol. 1, pp. 208-310. (In Russ.)
- Gadamer H-G. Istina i metod [Truth and Method]. Moscow, Progress Publ., 1988. 699 p. (In Russ.)
- Geraklit Effesskiy. Vse nasledie [Heraclitus of Ephesus. All the Heritage]. Moscow, Ad Marginem Press, 2012. 416 p. (In Russ.)
- Zherebin A. I. Ot Vilanda do Kafki [From Wieland to Kafka]. St. Petersburg, Publishing house of Novikov. 2012. 475 p. (In Russ.)
- Nipa T. S. Antichnyy tsikl dram Gerkharda Gauptmana. Diss. kand. filol. nauk [The ancient drama cycle of Gerhart Hauptmann. Abstract of Cand. philol. sci. diss.]. Moscow, 2001. 16 p. (In Russ.)
- Sklizkova A. P. Dialog G. Gauptmana s antichnost’yu. Pozdnyaya drama ʽIfigeniya v Del’fakhʼ [G. Hauptmann’s dialogue with antiq-uity. Late drama ‘Iphigenie in Delphi’]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2023, vol. 15, issue 3, pp.145-154. doi: 10.17072/2073-6681-2023-3-145-154. (In Russ.)
- Spenсer H. Osnovnye nachala [First Principles]. St. Petersburg, Publishing House of Panteleev, 1897. 473 p. (In Russ.)
- Huizinga J. Chelovek igrayushchiy [Homo Ludens]. St. Petersburg, Ivan Limbakh Publishing House, 2011. 409 p. (In Russ.)
- Kholmagorova I. G. Gauptman. Drama zakata [Hauptmann. The Drama of the Sunset]. Moscow, Russian Institute of Theatre Arts Press. 2012. 221 p. (In Russ.)
- El’konin D. B. Psikhologiya igry [The Psy-chology of Game]. Moscow, Vlados P, 1999. 360 p. (In Russ.)
- Behl C. F. W. Wege zu G. Hauptmann Coslar – zwiesprache mit G. Hauptmann. München, 1949. 427 p. (In Ger.)
- Buytendijk F. Wesen und Sinn des Spiels. Das Spielen der Menschen und Tiere als Erscheinungsform der Lebenstriebe. Berlin, Wolf, 1933. 164 p. (In Ger.)
- Groos K. Die Spiele der Menschen. Iena, G. Fischer, 1899, 538 p. (In Ger.)
- Hauptmann G. Abenteuer meiner Jugend. Ber-lin and Weimer, Fischer Verlag, 1980. 901 p. (In Ger.)
- Hauptmann G. Die Kunst des Dramas. Frankfurt am Main, Propyläen, 1965. 246 p. (In Ger.)
- Hauptmann G. Tagebuch 1892 – 1894. Frankfurt am Main, Propyläen, 1985. 282 p. (In Ger.)
- Hauptmann G. Tagebuch 1897 – 1905. Frankfurt am Main, Propyläen, 1986. 790 p. (In Ger.)
- Hauptmann G. Tintoretto. Das Gesammelte Werke in zwölf Bänden. Berlin, Fischer, 1942, B. 12, pp. 3-27. (In Ger.)
- Hauptmann G. Iphigenie in Aulis. Ausgewälte Werke in acht Bänden. Berlin, Aufbau–Verlag, 1962, B. IV, pp. 273-373. (In Ger.)
- Leppmann W. G. Hauptmann. Leben, Werk und Zeit. Bern, Scherz Verlag, 1996. 415 p. (In Ger.)
- Luhman N. Die Kunst der Geselschaft. Frankfurt am Main, Suhrkampf Verlag, 1997. 1164 p. (In Ger.)
- Santini D. G. Hauptmann zwischen Moderne und Tradition: neue Perspektiven zur Atriden – Tetralogie. Berlin& Erich Schmidt, 1998. 173 p. (In Ger.)
- Sprengel P. Die Wirklichkeit der Mythen. Untersuchungen zum Werk G. Hauptmann. Berlin, S. Steineke, 1984. 230 p. (In Ger.)
- Tempel В. Alkohol und Eugenik: ein Versuch uber Gerhart Hauptmanns kunstlerisches Selbstverstandnis. Dresden, Thelem, 2010. 368 p. (In Ger.)
Arquivos suplementares