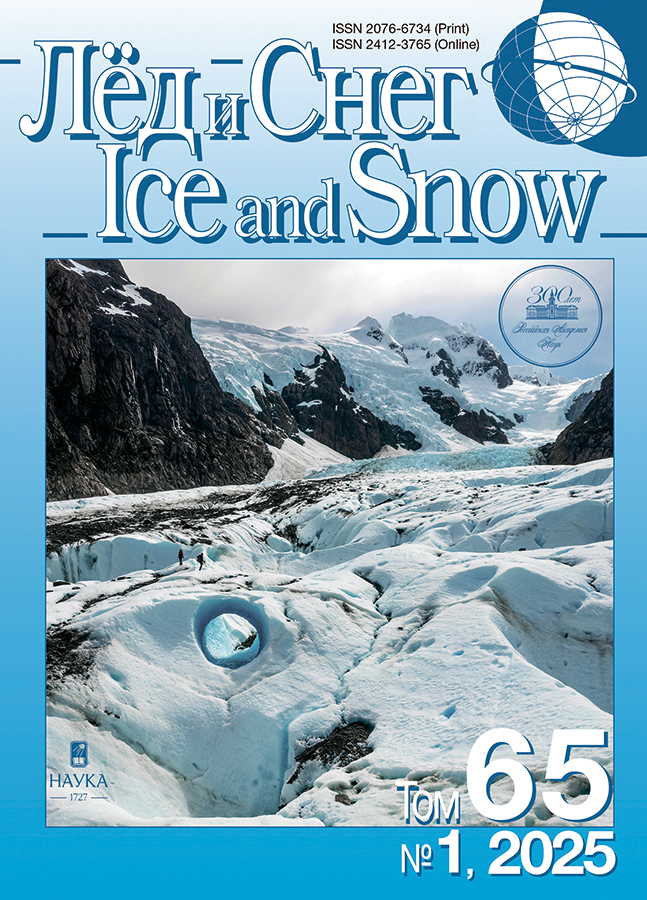Ablation measurement and modeling on the Sygyktinsky Glacier (the Kodar Ridge)
- Authors: Osipov E.Y.1, Osipova O.P.2
-
Affiliations:
- Limnological Institute, Siberian Branch of RAS
- V.B. Sochava Institute of Geography Siberian Branch of RAS
- Issue: Vol 64, No 3 (2024)
- Pages: 358-372
- Section: Glaciers and ice sheets
- URL: https://journal-vniispk.ru/2076-6734/article/view/275906
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2076673424030045
- EDN: https://elibrary.ru/IOGMSY
- ID: 275906
Cite item
Full Text
Abstract
High-resolution data from an automatic weather station (for 45 days in July–August 2021) installed at the level of the perrenial snowline of the Sygyktinsky Glacier (Kodar Ridge, south of the Eastern Siberia) were used to simulate ablation with daily resolution. Ablation was measured conventionally (using snow stakes and ultrasonic sensor) and calculated basing on a surface heat balance (SHB). The average and total values of measured and calculated ablation are in a good agreement with each other, while daily fluctuations in the ablation may differ due to changes in the surface density. It was found that the calculation of ablation based on thermal balance is the most accurate and physically justified. The average magnitude of energy spent on melting the glacier was 81 W/m2. The greatest contribution to melting is made by the radiation balance (70 W/m2, 86%), and especially by the shortwave radiation balance (76 W/m2, 94%). The long-wave radiation balance was slightly negative (–7 W/m2) that means that the glacier was losing heat. The turbulent fluxes of latent and sensible heat were positive on all days, but their total contribution was insignificant (10 W/m2, 13% of the melting energy). The reason for the low values of turbulent heat is the weak wind speeds which are typical for the Kodar region in summer. Significant statistical correlations of ablation with the cloudiness, precipitation, atmospheric pressure, air temperature and relative humidity were found. The relationship of the melting rate with meteorological parameters is controlled mainly by the short-wave radiation balance, and not by the turbulent heat flows. Two the T-index models (regression and “degree-day” ones) were tested using the meteorological data. Both models reproduce the mean and total ablation well (deviation ≤ 9%), but the daily fluctuations in ablation are simulated with significant error (standard error of about 50%). The use of different “degree-day factor” (DDF) coefficients for snow and ice allows improving the model accuracy up to 44%. The T-index models best estimate ablation for snow surface (standard error ≤26%), and they may be improved by taking into account shortwave radiation and weather conditions.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Горные ледники юга Восточной Сибири (от Восточного Саяна на западе до Кодара востоке) довольно интенсивно исследовались в последнее время, в основном, дистанционными методами (Osipov, Osipova, 2014; Osipov, Osipova, 2018). В результате было выявлено устойчивое сокращение пространственных размеров ледников с середины XIX в. (т.е. с конца малого ледникового периода), что хорошо согласуется с общим трендом дегляциации, установленным по результатам исследований в более “классических” ледниковых районах, например, на Кавказе и Алтае (Котляков и др., 2023). Похоже, что ледники хребта Кодар наиболее чувствительны к современным климатическим изменениям, что проявляется в их более значительном сокращении по сравнению с другими районами Сибири (Osipov, Osipova, 2014). Наиболее резкое сокращение площади ледников Кодара было отмечено в конце XX и начале XXI в. (Stokes et al., 2013; Osipov, Osipova, 2015).
Для лучшего понимания физических процессов, регулирующих скорость таяния кодарских ледников, недавно были начаты регулярные исследования метеорологического режима в ледниковой зоне. В 2019 г. на одном из крупнейших ледников Кодара (Сыгыктинском) была установлена автоматическая метеостанция, позволяющая получать непрерывные ряды метеорологических характеристик с высоким разрешением (Осипов и др., 2021). На основе полученных метеоданных для одной точки ледника был рассчитан тепловой баланс за два летних сезона (2019–2020 гг.) и разработана физически обоснованная модель таяния (Osipov, Osipova, 2021), которая может рассматриваться в качестве эталонной при выполнении других модельных оценок.
Однако при экстраполяции эталонной модели абляции ледника из одной точки на всю его поверхность или другие ледники Кодара неизбежно применение упрощенных модельных подходов с использованием параметризации. В наиболее простых моделях (называемых Т-индексными или температурными) абляция параметризуется с помощью температуры воздуха на основе линейной зависимости между этими величинами. Такие модели очень часто используются при оценке летнего баланса ледников в различных регионах (Hock, 2003). К сожалению, эти модели имеют и ряд недостатков, связанных с пространственной и временнóй изменчивостью температурных коэффициентов таяния. Поэтому калибровка температурных моделей с учётом местных и региональных особенностей на основе физически обоснованных моделей абляции представляется важной предпосылкой адекватного гляциологического моделирования. Построение надёжных моделей абляции, учитывающих физические процессы, возможно только на основе их верификации с данными высокого разрешения, получаемыми непосредственно на ледниках (например, прямое измерение абляции и измерение потоков тепла на тающей ледниковой поверхности, расчёт скорости таяния с помощью теплового баланса).
Данная работа логически продолжает цикл исследований кодарских ледников. Цель работы – оценка точности различных независимых методов измерения ледниковой абляции ледника (измерение понижения поверхности, расчёт на основе теплового баланса); оценка энергетических источников абляции и статистических связей между таянием и метеорологическими параметрами (в одной точке ледника); тестирование Т-индексных моделей. В качестве фактических были использованы высокоразрешающие данные, полученные на Сыгыктинском леднике в сезон абляции (июль–август) 2021 г.
РАЙОН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Сыгыктинский ледник. Сыгыктинский ледник – единственный на Кодаре ледник перемётного типа, расположенный в верховьях левого притока р. Сюльбан (ручей Олений Рог) и р. Левая Сыгыкта. Соответственно, ледник состоит из двух ветвей, южной и восточной. По состоянию на 2013 г. общая площадь Сыгыктинского ледника составляет 0.83 км2, высотный диапазон 2300–2800 м, средняя многолетняя (2001–2013 гг.) высота границы питания ледника 2510 м над ур. моря (Osipov, Osipova, 2019). С июля 2019 г. на леднике проводятся регулярные гляциологические и метеорологические наблюдения (Осипов и др., 2021). Данный ледник был выбран в качестве объекта для многолетнего гляциоклиматического мониторинга из-за своих размеров (максимальная связь с региональным климатом), географического положения (максимальная связь с условиями в свободной атмосфере) и удобной логистики.
Метеорологические наблюдения на леднике. На леднике, на высоте 2560 м над ур. моря, с 6 июля по 20 августа 2021 г. в непосредственной близости друг от друга работали две автоматические метеостанции (рис. 1). На первой метеостанции (датчики были установлены на вертикальной мачте) регистрировались следующие параметры: температура и относительная влажность воздуха, приходящая и отражённая коротковолновая радиация, а также высота ледниковой поверхности (ультразвуковым датчиком). На второй метеостанции (датчики были установлены на треноге) измерялись: температура (T) и относительная влажность воздуха (RH) (на уровнях 0.5 и 2.0 м), скорость и направление ветра (на уровнях 1.0 и 2.0 м), температура верхней части ледника (термокосой). Кроме того, на конечной морене вблизи края ледника измерялись: температура и относительная влажность воздуха, приходящая и отражённая коротковолновая радиация (двумя разными датчиками), приходящая и излучаемая длинноволновая радиация, скорость и направление ветра, атмосферное давление и жидкие осадки. Погрешности измерения температуры воздуха, коротковолновой/длинноволновой радиации составили, соответственно, ±0.3 °C и ±5% (Осипов и др., 2021). Все первичные измерения на всех станциях выполнялись синхронно с частотой 30 мин. и архивировались с помощью автономного регистратора.
Рис. 1. Расположение района исследований. Cеверная Азия и хребет Кодар (а); Сыгыктинский ледник и автоматические метеостанции (б): 1 – на морене, 2 – на леднике; автоматическая метеостанция (июль 2021 г.), установленная на мачте (в) и на треноге (г): 1 – ультразвуковой датчик; 2 – датчики температуры и относительной влажности
Fig. 1. Location of the study area. North Asia and Kodar Range (а); Sygyktinsky Glacier and automatic weather stations (б): 1 – on moraine, 2 – on glacier; automatic weather station (July 2021) installed on mast (в) and on tripod (г): 1 – ultrasonic sensor; 2 – temperature and relative humidity sensors
Для характеристики отражающей способности ледниковой поверхности использовалось аккумулятивное альбедо, рассчитанное как отношение сумм отражённой и поступающей коротковолновой радиации в 24-часовом временнóм окне (van den Broeke et al., 2004). Использование аккумулятивного альбедо вместо традиционного позволяет нейтрализовать возможные ошибки, связанные с измерением коротковолновой радиации. При анализе облачности были использованы данные ближайшей к леднику метеостанции Чара (около 50 км к востоку от ледника).
Измерение абляции. Абляция на леднике измерялась с 6 июля по 20 августа 2021 г. через величину понижения ледниковой поверхности с помощью ультразвукового датчика (Ауз, непрерывное измерение, см. рис. 1) и абляционных реек (Ар, дискретное измерение). Плотность поверхностного слоя ледника измерялась в неглубоких шурфах в начале и конце периода наблюдений и использовалась для пересчёта понижения поверхности в водный эквивалент (далее – в.э.) таяния; была принята средняя плотность 0.59 г/см3. Четыре абляционные рейки были установлены рядом с метеостанцией. Показания с них считывались пять раз за сезон (7 и 20 июля, 2, 10 и 20 августа). Из-за понижения поверхности ледника отдельные рейки периодически переустанавливались.
Расчёт абляции с помощью теплового баланса. Тепловой эквивалент таяния (Qmelt) был рассчитан для 30-минутных интервалов как остаточный член теплового баланса ледниковой поверхности по данным метеорологических измерений (подробная методика расчёта приведена в работе (Osipov, Osipova, 2021) как:
(1)
где Sin и Sout – потоки приходящей и отражённой коротковолновой радиации; Lin и Lout – потоки приходящей и излучаемой поверхностью длинноволновой радиации; H и LE – турбулентные потоки явного и скрытого тепла; Qr – тепло, поступающее с жидкими осадками; Qg – подповерхностный поток тепла. Все члены уравнения принимаются положительными, если они направлены к поверхности и отрицательными, если направлены от неё. Все потоки выражены в Вт/м2.
Потоки приходящей и отражённой коротковолновой радиации, а также приходящей длинноволновой радиации измерялись непосредственно на метеостанциях. Излучаемая ледниковой поверхностью длинноволновая радиация была принята постоянной и равной 315.6 Вт/м2, исходя их предположения о том, что тающая поверхность имеет температуру 0 °C и излучает как абсолютно чёрное тело. Предположение о тающей поверхности основано на преобладании положительных значений температуры воздуха на высоте 0.5 м над ледниковой поверхностью (99% всех 30-минутных измерений). Погрешность, связанная с допущением о ледниковой поверхности как об абсолютно чёрном теле (5%), сопоставима с погрешностью измерения потоков радиации.
Потоки явного и скрытого тепла рассчитаны по данным градиентных измерений в приледниковом слое воздуха (температура и относительная влажность воздуха, скорость ветра, атмосферное давление) с использованием аэродинамического подхода, основанного на теории подобия Монина–Обухова. При этом коэффициент турбулентного теплообмена рассчитывается через функцию объёмного числа Ричардсона с учётом поправок на устойчивость атмосферы (Osipov, Osipova, 2021). Данный подход для количественной оценки турбулентных потоков был протестирован на разных ледниках и доказал свою надёжность (Wagnon et al., 2003; Mölg and Hardy, 2004; Sun et al., 2012).
Поступление тепла с жидкими осадками (Qr) рассчитывалось согласно (Hock, Holmgren, 2005). Для расчёта потери тепла на теплообмен с ледником (Qg) были использованы данные прямых температурных измерений в скважине (термокосой).
Поверхностная абляция (Атб) была рассчитана как:
(2)
где Lf – скрытая теплота плавления (3.30 × 105 Дж/ кг для снега и 3.35 × 105 Дж/кг для льда).
Для последующего анализа 30-минутные значения тепловых потоков, теплового баланса и абляции были конвертированы в средние суточные величины.
Температурные модели абляции. Суточная абляция была рассчитана с использованием температурных моделей (далее – ТМ), называемых в англоязычной литературе Т-индексными моделями (Braithwaite, 1981; Hock, 2003). Данный класс моделей основан на предположении о линейной зависимости скорости абляции от температуры приледникового слоя воздуха, т.е. температура выступает в качестве интегрального показателя таяния снега/льда.
В работе было протестировано два типа температурных моделей (ТМ1 и ТМ2). Модель ТМ1 (регрессионная) основана на линейной регрессионной зависимости абляции от температуры воздуха и описывается следующим уравнением:
(3)
где ATM1 – моделируемая абляция (мм в.э./сутки); T – средняя суточная температура воздуха (°C); k – угловой коэффициент; b – свободный член. Параметры k и b были рассчитаны по суточным значениям температуры и абляции и составили, соответственно, 2.72 и 14.91.
Модель ТМ2 является классической Т-индексной моделью (в англоязычной литературе модель “degree-day” или “градус-день”) и описывается уравнением (Pellicciotti et al., 2005):
(4)
где kt – температурный коэффициент таяния снега и льда (мм в.э./°C сут); Ткр – пороговая температура воздуха, при которой начинается таяние (в данной работе использовано значение Ткр = 1.0 °C). Коэффициент таяния был откалиброван как без учёта типа тающей ледниковой поверхности (одинаковый для снега и льда – 4.6 мм в.э./ °C сут), так и с учётом таковой. Для снега kt был откалиброван по данным, полученным за период с 7 июля по 7 августа (4.0 мм в.э./°C сут), а для льда – за период с 8 по 20 августа (6.9 мм в.э./ °C сут).
В обоих моделях использована температура на уровне 2 м, поскольку этот уровень широко распространён при проведении подобного рода исследований, что позволяет сравнивать данные разных исследований более корректно. Коэффициенты обоих моделей (k и kt) были откалиброваны по суточным значениям измеренной температуры (Т) и рассчитанной абляции (Атб). Эффективность моделей оценивалась путём расчёта среднеквадратичной ошибки (СКО). Подбор оптимального коэффициента kt проводился методом последовательного приближения к наименьшей СКО.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Измеренная и рассчитанная абляция. На рис. 2 в сравнении показаны кумулятивные кривые таяния за период с 7 июля по 20 августа 2021 г., измеренного рейками (Ар), ультразвуковым датчиком (Ауз) и рассчитанного с помощью теплового баланса (Атб). Статистические характеристики абляции показаны в табл. 1. В целом, суммарные и средние значения измеренной и рассчитанной абляции хорошо согласуются между собой. Максимальное расхождение между величинами суммарной (90 мм в.э.) и средней (2.0 мм в.э.) абляции составляет всего 6%. Кривые (см. рис. 2) хорошо описываются линейной функцией с угловым коэффициентом, равным −30.12±0.35 (R2 = 0.99), что говорит о стабильности оценок средней скорости таяния независимо от используемого метода.
Рис. 2. Кривые кумулятивной абляции (Acum) в точке установки метеостанции за период с 7 июля по 20 августа 2021 г., полученные разными методами: 1 – измерение абляционными рейками (Ар); 2 – измерение ультразвуковым датчиком (Ауз); 3 – расчёт по тепловому балансу (Атб)
Fig. 2. Curves of cumulative ablation (Acum) at the weather station installation point for the period from July 7 to August 20, 2021 obtained by different methods: 1 – ablation stake measurement (Ар); 2 – ultrasonic sensor measurement (Ауз); 3 – energy balance calculation (Атб)
Таблица 1. Статистические характеристики абляции* (мм в.э.), оцененной с помощью разных методов за период с 7 июля по 20 августа 2021 г.
Метод измерения абляции | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение | Стандартное отклонение | Коэффициент вариации | Сумма |
Абляционные рейки (Ар) | 24/24/26* | 48/26/48 | 30.9/25.5/37.7 | 9.4/0.5/10.8 | 0.30/0.02/0.29 | 1392/638/754 |
Ультразвуковой датчик (Ауз) | 0/0/0 | 104/63/104 | 30.4/29.0/32.0 | 22.2/18.4/26.7 | 0.73/0.63/0.83 | 1366/726/640 |
Расчёт по тепловому балансу (Атб) | 1/1/11 | 75/67/75 | 32.3/29.1/36.4 | 17.5/14.8/20.1 | 0.54/0.51/0.55 | 1456/727/729 |
*Весь период/июль/август.
Однако имеются расхождения в изменчивости Ауз и Атб. В целом изменчивость Ауз больше изменчивости Атб в 1.3 раза. Различия в абляции в июле и августе также хорошо прослеживаются. По сравнению с июлем, в августе абляция отличалась повышенными средними и максимальными значениями и большей изменчивостью. В то же время суммарная абляция в июле и августе распределялась примерно в равных долях (за счёт различной продолжительности периодов). В июле измеренная абляция (Ауз) была больше рассчитанной (Атб) (наибольшее отклонение отмечается для периода 20–26 июля). В августе, наоборот, Ауз была меньше Атб (наибольшее отклонение в период 11–13 августа). При этом с 30 июля по 6 августа расхождения между Ауз и Атб практически отсутствовали. В целом, несмотря на выявленные различия, за счёт взаимной компенсации отклонений разного знака в июле и августе, суммарная измеренная абляция (Ар и Ауз) была близка к рассчитанной (см. табл. 1).
Энергетические источники таяния. Средние значения измеренных и рассчитанных потоков энергии, приходящих к ледниковой поверхности и уходящих от неё, показаны в табл. 2. Сравнение суточных рядов абляции, основных тепловых потоков и отдельных метеорологических характеристик приледникового слоя воздуха за 45-дневный период показано на рис. 3.
Таблица 2. Средние сезонные значения потоков энергии* (Вт/м2) на ледниковой поверхности за период 7.07–20.08.2021 г.
Параметр | Значение** |
Приходящая коротковолновая радиация (Sin) | 147.4 |
Отражённая коротковолновая радиация (Sout) | −71.2 |
Приходящая длинноволновая радиация (Lin) | 309.0 |
Исходящая длинноволновая радиация (Lout) | −315.6 |
Коротковолновый баланс (Snet) | 76.2 (94%) |
Длинноволновый баланс (Lnet) | −6.6 (8%) |
Радиационный баланс (Rnet) | 69.6 (86%) |
Явное тепло (H) | 5.4 (7%) |
Скрытое тепло (LE) | 4.7 (6%) |
Турбулентные потоки тепла (H+LE) | 10.1 (13%) |
Тепло, приносимое жидкими осадками (Qrain) | 1.4 (2%) |
Теплообмен с ледником (Qg) | −0.3 (0.4%) |
Тепловой эквивалент таяния (Qmelt) | −80.7 (100%) |
*Потоки, приносящие тепло имеют положительные значения, а отводящие тепло – отрицательные; **В скобках указана доля потоков (٪) в тепловом эквиваленте таяния Qmelt.
Рис. 3. Средние суточные значения потоков энергии, альбедо (α) и абляции (A) за период с 7 июля по 20 августа 2021 г.: 1 – приходящая длинноволновая радиация; 2 – коротковолновый баланс; 3 – длинноволновый баланс; 4 – радиационный баланс; 5 – турбулентное тепло (H+LE); 6 – альбедо; 7 – абляция
Fig. 3. Daily averages of energy fluxes, albedo (α) and ablation (A) for the period from July 6 to August 20, 2021: 1 – incoming longwave radiation; 2 – net shortwave radiation; 3 – net longwave radiation; 4 – net radiation; 5 – turbulent heat (H+LE); 6 – albedo; 7 – ablation
Приходящая коротковолновая радиация (Sin) колеблется в широких пределах (11.5–343.6 Вт/ м2). Относительно невысокое среднее значение Sin (147.4 Вт/м2) объясняется преобладанием над ледником облачных условий в период абляции, что подтверждается высокой корреляцией между Sin и общей (R2 = 0.59) и нижней (R2 = 0.57) облачностью в Чаре, а также относительной влажностью в приледниковом слое воздуха (R2 = 0.77). Значения Sin имеют тенденцию к уменьшению на протяжении сезона абляции из-за уменьшения высоты солнца.
Отражённая коротковолновая радиация (Sout) характеризуется отрицательным трендом с затухающими колебаниями к концу сезона абляции. Значения альбедо варьировали от 0.10 до 0.91 (среднее значение 0.46±0.22), причём в июле оно было в два раза выше (0.60±0.13), чем в августе (0.30±0.19). Очевидно, это обусловлено меняющимся характером поверхности ледника. Если в июле поверхность была снежная, то в августе – преимущественно ледяная. Переход от снега ко льду произошёл 8 августа (альбедо 0.11). В целом за исследованный 45-дневный период поверхность в точке измерения была снежной 32 дня (71%) и ледяной 13 дней (29%). Выраженные пики альбедо 10 июля (0.91) и 2 августа (0.80) объясняются летними снегопадами. В эти дни суточная абляция не превышала 1/3 от средней сезонной, при этом эффект влияния снегопада прослеживался 3–4 дня. Так, слабое таяние на леднике (<21 мм в.э.) наблюдалась 9–12 июля и 1–3 августа при альбедо 0.60–0.91. Соответственно, высокие значения абляции 26–27 июля, 7 и 11–14 августа имели место при низких значениях альбедо (0.17–0.32). Тесная обратная связь между скоростью таяния и альбедо тающей поверхности подтверждается наличием статистически значимой (при 95%-ном уровне) связи между ними (R2=0.30).
Коротковолновый баланс (Snet) меняется в пределах 7.1–222.9 Вт/м2 и является доминирующим источником энергии таяния (94%). К концу сезона абляции наблюдается увеличение Snet из-за значимого сокращения количества отражённой радиации. Межсуточные колебания абляции хорошо коррелируются с коротковолновым балансом (R2=0.75).
Приходящее длинноволновое излучение (Lin) – крупнейший источник энергии, поступающей на ледниковую поверхность (в 2.1 раза больше приходящей коротковолновой радиации), однако его влияние полностью нивелируется излучением тепла с тающей (0 °C) ледниковой поверхности (−315.6 Вт/м2). За сезон абляции Lin незначительно менялся в интервале 250.9–343.6 Вт/м2 (коэффициент вариации всего 0.09).
Длинноволновый баланс (Lnet) был слабо отрицательным (−6.6 Вт/м2), т.е. за сезон абляции ледник терял больше длинноволнового тепла, чем получал его от атмосферы. Следует отметить, что если в июле ледник больше терял длинноволновое тепло (−15.1 Вт/м2), то в августе, наоборот, больше получал его (4.0 Вт/м2). В отличие от коротковолновой радиации, связь между Lnet и абляцией довольно слабая (R2=0.13).
Радиационный баланс ледниковой поверхности (Rnet), в среднем, энергетически обеспечивал 86% таяния, причём его коротковолновая составляющая вносила основной вклад. За сезон абляции суточные значения Rnet менялись от −4.5 до 183.3 Вт/ м2 (среднее значение 69.6 Вт/м2) с отчётливой тенденцией к увеличению в августе (среднее значение в июле 62.4 Вт/м2, в августе 78.6 Вт/м2). Во все дни значения Rnet были положительными, за исключением 10 июля (летний снегопад).
В отличие от радиационного, турбулентное тепло является второстепенным источником энергии таяния (13%). Поток явного тепла (H) в отдельные дни менялся от 0.1 до 23.7 Вт/м2 в зависимости, главным образом, от скорости ветра (R2=0.81). Скрытый тепловой поток (LE) был положительным во все дни, т.е. водяной пар из атмосферы конденсировался на ледниковую поверхность. Стоит отметить, что в отдельные дни вклад турбулентных потоков в таяние резко возрастал. Так, наибольшие значения H и LE наблюдались 8 августа (при средней суточной скорости ветра 2.8 м/с), при этом их вклад в энергию таяния составлял, соответственно, 25 и 30% (при этом доля радиационного баланса уменьшалась до 40%). Поступление скрытого тепла конденсации также контролировалось скоростью ветра (R2=0.71).
На такой источник энергии таяния как тепло, поступающее с жидкими атмосферными осадками, приходилось всего 2%. Наибольшие значения Qrain отмечены 16 и 19 августа (до 5.4 Вт/м2 или до 9% энергии таяния). Средние суточные значения теплового эквивалента таяния (Qmelt) за весь период наблюдений были положительными и колебались от 3.1 до 188.3 Вт/м2 (среднее значение 80.7 Вт/м2), т.е. таяние имело место во все дни. Среднее значение Qmelt в июле (72.2 Вт/м2), было на 27% меньше, чем в августе (91.5 Вт/м2).
Связь абляции с метеорологическими характеристиками. Средние значения метеорологических характеристик и коэффициенты их корреляции с абляцией приведены в табл. 3. Наиболее высокие отрицательные корреляции выявлены для облачности и осадков (R2=0.24–0.36). В основном это связано с тем, что облачность оказывает существенное влияние на радиационный баланс через его коротковолновую составляющую. Корреляционные связи абляции с температурой (положительная, R2=0.21) и относительной влажностью (отрицательная, R2=0.12) несколько слабее, однако также статистически значимые. Связь таяния с температурой относительно стабильна на всём протяжении периода абляции, за исключением периода 17–19 июля (см. рис. 3), когда при относительно высокой температуре (в среднем 10.1 °C) скорость таяния была низкой (около 24 мм в.э.). Вероятно, это было обусловлено высокими значениями альбедо (≈0.64) и, соответственно, относительно низкими значениями коротковолнового баланса в этот период (≈71 Вт/м2).
Таблица 3. Коэффициенты корреляции Пирсона между метеорологическими параметрами и абляцией (средние суточные значения).
Параметр* | Ед. изм. | Среднее за период наблюдений | Коэффициент корреляции** |
Общая облачность | % | 68.7 | −0.60 |
Нижняя облачность | % | 45.8 | −0.57 |
Атмосферные осадки | мм | 6.9 | −0.48 |
Атмосферное давление | гПа | 749.4 | 0.46 |
Температура воздуха (2.0 м) | °С | 6.4 | 0.46 |
Температура воздуха (0.5 м) | °С | 6.0 | 0.45 |
Относительная влажность воздуха (0.5 м) | % | 87.6 | −0.35 |
Упругость водяного пара (2.0 м) | гПа | 8.3 | 0.26 |
Удельная влажность (2.0 м) | г/кг | 6.9 | 0.25 |
Абсолютная влажность (2.0 м) | г/м3 | 6.4 | 0.24 |
Скорость ветра (1.0 м) | м/с | 1.2 | 0.08 |
*В скобках указана высота датчика над поверхностью ледника; **Коэффициенты корреляции ранжированы в порядке убывания их модулей. Коэффициенты статистически значимые на уровне 95% (n = 45) выделены жирным шрифтом.
Более тесная связь между температурой и абляцией была отмечена для дней с низкими температурами воздуха (Т0.5м < 6.0°C, объём выборки n = 22, R2 = 0.43) и высокой относительной влажностью (RH0.5м > 80.0%, объём выборки n = 33, R2 = 0.39). Вероятно, физическая природа связи между абляцией и температурой воздуха определяется радиационным балансом. Вклад радиационного баланса в корреляцию между температурой воздуха и абляцией (рассчитанный как взвешенная сумма корреляций между температурой и индивидуальными тепловыми потоками согласно (Braithwaite, 1981)) оценивается в 95%, в то время как вклад турбулентных потоков составляет всего 5%. Это объясняется тем, что радиационный баланс в 4.3 раза более изменчив, чем турбулентные потоки тепла (стандартные отклонения 45.9 и 10.6 Вт/м2, соответственно). Связь температуры с коротковолновым балансом более тесная (R2 = 0.29), чем с длинноволновым (R2 = 0.25).
В дни со слабой абляцией зависимость скорости таяния от изменений температуры увеличивается, а с сильной, наоборот, уменьшается. Так, связь между абляцией и температурой воздуха в дни с Атб ниже среднего сезонного значения была существенно выше (R2 = 0.16, n = 27, уровень значимости p = 0.04), чем в дни с Атб выше среднего сезонного значения (R2=0.01, n=18, уровень значимости p=0.84). В целом прослеживается чёткая связь между интенсивностью абляции и погодными условиями. Слабой абляции соответствуют низкие значения атмосферного давления, температуры, приходящей КВ-радиации и высокие значения относительной влажности и приходящей ДВ-радиации. Такие условия характерны для циклонального типа погоды (например, 15 июля и 1–3 августа). С другой стороны, сильная абляция наблюдается в дни с высокими значениями атмосферного давления, температуры, приходящей КВ-радиации и низкими значениями относительной влажности и приходящей ДВ-радиации, т.е. при антициклональном типе погоды (например, 13 июля и 11–14 августа).
Температурные модели абляции. Статистические оценки результатов моделирования абляции на основе двух Т-индексных моделей приведены в табл. 4. В качестве эталонных были использованы значения абляции, рассчитанной на основе теплового баланса с 30-минутным разрешением (Атб). Модель ТМ1 идеально воспроизводит среднюю и суммарную сезонную абляцию, в то время как ТМ2 (с постоянным коэффициентом таяния) немного занижает эти характеристики (отклонение 9%). Однако обе модели намного хуже воспроизводят суточные колебания абляции, о чём свидетельствуют их низкие стандартные отклонения (особенно у ТМ1) и высокие стандартные ошибки (около 50% от среднего значения, R2=0.21). То есть обе модели слабо воспроизводят как низкие, так и высокие суточные значения абляции.
Таблица 4. Сравнительные характеристики абляции, рассчитанной по тепловому балансу (Атб) и модельной абляции (AТМ1 и AТМ2) за период с 7 июля по 20 августа 2021 г.
Модель абляции | Средняя абляция* (мм в.э.) | Стандартное отклонение (мм в.э.) | Суммарная абляция* (мм в.э.) | Стандартная ошибка | R2 | |
мм в.э. | % | |||||
Атб | 32.3 | 17.5 | 1456 | – | – | 1.00 |
AТМ1 | 32.3 (0) | 8.0 | 1456 (0) | 15.4 | 48 | 0.21 |
AТМ2** kt = 4.6 мм в.э./ °C сут | 29.5 (–2.8) | 13.6 | 1329 (–127) | 16.6 | 51 | 0.21 |
AТМ2** kt(снег) = 4.0 мм в.э./°C сут kt(лёд) =6.9 мм в.э./°C сут | 30.6 (–1.7) | 14.9 | 1376 (–80) | 14.2 | 44 | 0.39 |
26.6/40.5 | 12.8/15.5 | 850 (–82)/526 (3) | 15.5/10.5 | 53/26 | 0.19/0.68 | |
*В скобках показаны отклонения модельных значений от референсных; **Модель ТМ2 представлена в двух видах – с постоянным kt (одинаковым для снега и льда) и переменным (различным для снега и льда). В нижней строке приведены значения для снега (числитель) и льда (знаменатель).
Использование различных коэффициентов таяния для снега и льда даёт некоторое улучшение модели ТМ2 (отклонение суммарной абляции уменьшается до 5%, стандартная ошибка 44%, R2=0.39). Наилучшим образом модель ТМ воспроизводит абляцию ледяной поверхности. Если при расчёте абляции снежной поверхности стандартная ошибка модели составляет 53% (R2=0.19), то для ледяной поверхности она уменьшается до 26% (R2=0.68). Средняя и суммарная абляция для снега недооценивается моделью на 9%, а для льда переоценивается всего на 1%. Согласно результатам моделирования, средняя абляция льда была в 1.5 раза больше, чем снега, однако суммарное таяние снега в 1.6 раз превышало таяние льда (за счёт более продолжительного периода залегания снежного покрова по сравнению с открытым льдом в точке измерения, 32 и 13 дней, соответственно).
Графически, суточные изменения абляции, рассчитанные с помощью температурных моделей и соответствующие им кумулятивные кривые абляции показаны на рис. 4. Видно, что обе модели плохо воспроизводит максимальные значения суточного таяния 26–27 июля, 7 августа и 11–14 августа. Однако экстремально высокая абляция 11–14 августа лучше всего моделируется с помощью ТМ2 (с учётом применения коэффициента таяния для льда). В среднем, все модели переоценивают абляцию в июле (особенно во второй декаде) и недооценивают в августе, при этом наименьшие суммарные отклонения от измеренных значений показала модель ТМ2 с переменным kt (+25 мм в июле и −105 мм в августе). Для снежной поверхности (7 июля – 7 августа) наименьшие отклонения в суммарной абляции показала модель ТМ2 с постоянным kt (+45 мм), а для ледяной поверхности (8–20 августа) модель ТМ2 с переменным kt (+3 мм).
Рис. 4. Абляция ледника за период 7.07–20.08.2021 г., рассчитанная разными методами: (а) средняя суточная абляция (A), (б) кумулятивная абляция (Acum): 1 – абляция, рассчитанная по тепловому балансу (Атб); 2 – модель ТМ1; 3 – модель ТМ2 с постоянным kt; 4 – модель ТМ2 с переменным kt
Fig. 4. Glacier ablation for the period 7.07-20.08.2021 calculated by different methods: (а) mean daily ablation (A), (б) cumulative ablation (Acum): 1 – ablation calculated from the heat balance (Атб); 2 – TM1 model; 3 – TM2 model with constant kt; 4 – TM2 model with variable kt
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Измерение абляции с помощью независимых подходов показывает их надёжность при оценке средней и суммарной сезонной абляции. Однако на коротких временных интервалах (от суток до первых суток) наблюдаются довольно существенные расхождения между измеренной и рассчитанной абляцией, что может быть связано с быстрыми изменениями во времени и пространстве микрорельефа тающей поверхности и радиационным таянием в радиационной коре таяния. Ранее было показано, что классические методы измерения абляции (с помощью реек, аблятометров и аблятографов) могут давать значительные ошибки при оценке краткосрочных значений абляции (Müller, Keeler, 1969; Braithwaite et al., 1998). Наибольшие расхождения отмечаются для периода со снежной поверхностью, что может быть связано с постоянными изменениями поверхностной плотности снежного покрова из-за наличия прослоев льда (Munro, 1990), которые трудно учесть в процессе измерений. В условиях ледяной поверхности различия между значениями абляции, полученными разными методами, оказались минимальными. К счастью, за летний период эти отклонения не накапливаются, а компенсируются, что позволяет получать вполне достоверные оценки абляции в сезонном масштабе. Мы считаем, что суточные значения абляции, рассчитанные по тепловому балансу, дают более физически обоснованные значения таяния в условиях снежно-ледовой поверхности из-за усреднения случайных ошибок измерения абляции в одной точке и минимизации временных лагов между реальным таянием и его проявлением в виде понижения поверхности. Поскольку основным источником ошибок при измерениях кратковременной абляции является изменение поверхностной плотности, более обоснованной будет оценка изменения массы, а не уровня поверхности (Müller, Keeler, 1969). Эти авторы нашли, что прямые изменения массы лучше коррелируют с рассчитанным таянием, чем с понижением поверхности. Поэтому абляция, рассчитанная на основе теплового баланса за достаточно короткие интервалы времени, зачастую используется в качестве эталонной при оценке точности разных моделей абляции (Pellicciotti et al., 2005).
Измерения энергетических источников таяния Сыгыктинского ледника, выполненные для сезона абляции 2021 г., подтверждают преобладающий вклад радиационного баланса, как это было установлено ранее для сезонов 2019–2020 гг. (Osipov, Osipova, 2021). Этот вывод хорошо согласуется с данными, полученными в других регионах, например, на Кавказе (Торопов и др., 2018), в Альпах (Sicart et al., 2008), Скандинавии (Andreassen et al., 2008), Сунтар-Хаята (Гаврилова, 1964). Изменчивость радиационного баланса на Кодаре обусловлена, главным образом, его коротковолновой составляющей, которая в свою очередь сильно зависит от таких факторов как облачность (ослабление приходящей коротковолновой радиации) и летние снегопады (увеличение отражённой радиации из-за высокого альбедо поверхности ледника). Поэтому эти факторы следует учитывать при моделировании баланса массы кодарских ледников. Длинноволновый баланс Сыгыктинского ледника в сезон абляции 2021 г. был слабо отрицательным (т.е. ледник, в целом, терял тепло за счёт эффективного излучения), однако его значение было несколько выше, чем в 2019 г. (−7 и −15 Вт/ м2, соответственно).
Характерная особенность ледников Кодара заключается в весьма ограниченном вкладе турбулентных потоков энергии в их таяние. Вклад турбулентных потоков в таяние в 2021 г. (11%) сопоставим с 2019–2020 гг. (5–9%) (Osipov, Osipova, 2021). Незначительная роль турбулентных потоков в абляции, несмотря на высокие температуры воздуха, объясняется низкими скоростями ветра на леднике (в месте установки метеостанции) в летний период. Ранее было показано, что турбулентный теплоперенос наиболее чувствителен к скорости ветра (Osipov, Osipova, 2021). Вероятно, низкие скорости ветра, измеренные на леднике, обусловлены особенностями циркуляции атмосферы в регионе в летний период, когда наблюдается высокая повторяемость барических полей со слабыми градиентами (Osipova, Osipov, 2022).
Наши исследования показали наличие умеренной статистически значимой положительной связи между абляцией и температурой воздуха (R2 = 0.21). В работе (Ohmura, 2001) физическая причина такой взаимосвязи объясняется тем, что приходящее длинноволновое излучение служит крупнейшим источником энергии таяния (вместе с явным тепловым потоком оно составляет ¾ всей энергии таяния), а длинноволновое атмосферное излучение и явный тепловой поток находятся под сильным влиянием температуры воздуха над ледником. Однако наши данные, полученные на Сыгыктинском леднике в 2021 г., показывают, что связь между температурой воздуха и приходящей длинноволновой радиацией не столь тесная (R2 = 0.25). Мы полагаем, что влагосодержание в приледниковом слое воздуха оказывает определённое влияние на относительную излучательную способность атмосферы (через облачность) и связь между температурой и приходящей длинноволновой радиацией (Ebrahimi, Marshall, 2015). Возможно, этим объясняется преобладающее влияние радиационного баланса на корреляцию между температурой воздуха и скоростью абляции.
Наши исследования показали, что значения абляции хорошо согласуются с синоптически обусловленными колебаниями метеорологических характеристик (смена циклонических и антициклонических условий). Это подтверждает сделанное ранее предположение о связи между соотношением циклонических и антициклонических типов погоды и многолетними изменениями ледников Кодара (Осипова, Осипов, 2023). Поэтому представляется перспективным использование синоптических классификаций при моделировании межсуточных колебаний абляции на ледниках Кодара. В дальнейшем этот вопрос будет исследован более детально.
Использование температурных моделей для оценки абляции кодарского ледника показывает хорошие результаты при оценке сезонной абляции, однако межсуточные изменения абляции моделируются с большими ошибками (до 50% средней абляции). Снижение точности Т-индексных моделей с увеличением временнóго разрешения является известным недостатком данного типа моделей (Ohmura, 2001; Hock, 2003). В зависимости от используемых коэффициентов таяния и типа ледниковой поверхности температурные модели объясняют от 19 до 68% суточной изменчивости таяния Сыгыктинского ледника. В целом, оценки точности Т-индексных моделей укладываются в диапазон значений, полученных в других ледниковых районах. Так, по данным (Pellicciotti et al., 2005) простая Т-индексная модель на альпийском леднике д’Аролла (Швейцария) учитывает около 30–40% вариаций скорости таяния.
Полагая, что коротковолновой баланс – это доминирующий фактор абляции кодарских ледников, перспективным способом улучшения качества температурных моделей может стать дополнительное включение радиационных параметров (Hock, 1999). Так, в работе (Pellicciotti et al., 2005) была протестирована улучшенная Т-индексная модель, учитывающая помимо температуры, ещё и коротковолновое излучение и альбедо. Включение этих дополнительных параметров сделало модель более физически обоснованной, учитывающей до 95% изменчивости скорости таяния.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Непрерывные измерения абляции и метеорологических характеристик на Сыгыктинском леднике (Кодар) в сезон абляции (июль–август) 2021 г. позволили сравнить точность различных методов оценки абляции (измерение понижения поверхности, расчёт по тепловому балансу), количественно оценить вклад энергетических потоков в таяние и протестировать температурные модели. Установлено, что все методы оценки абляции дают близкие значения средней и суммарной абляции и могут быть использованы для моделирования её сезонных и годовых изменений. Однако для оценки кратковременных (суточных) изменений абляции наиболее точным является её расчёт по тепловому балансу.
Количественная оценка теплового баланса ледниковой поверхности показала, что радиационный баланс был доминирующим источником энергии таяния (в среднем 86%), при этом изменчивость абляции определялась, главным образом, коротковолновым балансом. Длинноволновый баланс был слабо отрицательным, т.е. ледник терял тепло в результате эффективного излучения. Турбулентное тепло было вторым по значимости источником таяния (в среднем 13%), а явный и скрытый тепловые потоки во все дни имели положительные значения. Незначительный вклад турбулентных потоков объясняется низкими скоростями ветра в летний период на Кодаре. В отдельные дни вклад турбулентного тепла в таяние возрастал до 30%, а вклад радиационного баланса падал до 40%. На тепло, поступающее с жидкими атмосферными осадками, приходилось около 2% энергии таяния.
Установлены статистически значимые связи между таянием и метеорологическими характеристиками. Положительные связи (r ≈ 0.46) обнаружены для температуры воздуха и атмосферного давления, а отрицательные (r от −0.35 до −0.60) – для облачности, атмосферных осадков и относительной влажности. Наибольшее влияние на скорость таяния оказывают факторы, контролирующие коротковолновый баланс – облачность и альбедо поверхности ледника. Существенно влияли на альбедо летние снегопады, во время которых скорость абляции не превышала 1/3 от средней сезонной. Связь между суточной абляцией и температурой воздуха определяется, главным образом, коротковолновой радиацией, а не турбулентными потоками. В целом прослеживается чёткая зависимость интенсивности абляции от смены погодных условий в ледниковой зоне (циклонических и антициклонических).
Тестирование двух температурных моделей абляции (регрессионной и модели “градус–день”) на высокоразрешающих данных позволило оценить точность этих моделей. Обе модели хорошо воспроизводят среднюю и суммарную абляцию (ошибка до 9%), однако суточные значения скорости таяния моделируются намного хуже (ошибка до 50%). Использование различных коэффициентов таяния для снега и льда значимо улучшает точность моделей (ошибка до 44%). При этом, наилучшим образом Т-индексные модели воспроизводят абляцию ледяной поверхности, учитывая до 68% суточной изменчивости таяния, что свидетельствует о набольшей достоверности Т-индексного моделирования в областях абляции кодарских ледников. В то же время значительные ошибки (до 53%) были получены при моделировании абляции в условиях снежной поверхности. Дальнейшее улучшение Т-индексных моделей в условиях Кодара возможно при учёте дополнительных параметров, характеризующих изменения коротковолнового баланса (коротковолновая радиация и альбедо) и синоптических условий.
Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 24-27-00165 “Гляциоклиматическое моделирование оледенения хребта Кодар”. Авторы благодарят В.С. Рыжего, С.Д. Логвиненко, И.В. Енущенко и В.А. Исаева за помощь в проведении экспедиционных работ.
Acknowledgments. This work was financially supported by the Russian Science Foundation project No. 24-27-00165 “Glacioclimatic modeling of glaciation of the Kodar Ridge”. The authors would like to thank V.S. Ryzhiy, S.D. Logvinenko, I.V. Enushchenko, and V.A. Isaev for their assistance in the expedition work.
About the authors
E. Y. Osipov
Limnological Institute, Siberian Branch of RAS
Author for correspondence.
Email: eduard@lin.irk.ru
Russian Federation, Irkutsk
O. P. Osipova
V.B. Sochava Institute of Geography Siberian Branch of RAS
Email: eduard@lin.irk.ru
Russian Federation, Irkutsk
References
- Gavrilova M.K. Heat regime of melting of a glacier in the region of Suntar-Khayata (Southern Verkhoyansk Range). Materialy Glyatsiologicheskikh Issledovaniy. Data of glaciological studies. 1964, 9: 149–153. [In Russian].
- Kotlyakov V.M., Khromova T.Yu., Nosenko G.A., Muraviev A.Y., Nikitin S.A. Glaciers in the Russian Mountains (Caucasus, Altai, Kamchatka) in the First Quarter of the 21st Century. Led I Sneg. Ice and Snow. 2023, 63 (2): 157–173. [In Russian]. https://doi.org/10.31857/S2076673423020114
- Osipov E.Yu., Osipova O.P., Vasilenko O.V. Meteorological regime of the Sygyktinsky Glacier (the Kodar Ridge) during the ablation period. Led I Sneg. Ice and Snow. 2021, 61 (2): 179–194. [In Russian]. https://doi.org/10.31857/S2076673421020080
- Osipova O.P., Osipov E.Yu. Influence of Atmospheric Processes on the Dynamics of Kodar Glaciers. Geografiya i prirodnye resursy. Geography and Natural Resources. 2023, 44 (4): 351–358. https://doi.org/10.1134/S1875372823040108
- Toropov P.A., Shestakova A.A., Smirnov A.M., Popovnin V.V. Evaluation of the components of the heat balance of the Djankuat Glacier (Central Caucasus) during the period of ablation in 2007–2015. Kriosfera Zemli. Earth`s Cryosphere. 2018, 22: 42–54. [In Russian]. https://doi.org/10.21782/KZ1560-7496-2018-4(42-54)
- Andreassen L.M., Van Den Broeke M.R., Giesen R.H., Oerlemans J.A. 5 year record of surface energy and mass balance from the ablation zone of Storbreen, Norway. Journal of Glaciology. 2008, 54: 245–258. https://doi.org/10.3189/002214308784886199
- Braithwaite R.J. On glacier energy balance, ablation, and air temperature. Journ. of Glaciology. 1981, 27 (97): 381–391. https://doi.org/10.3189/S0022143000011424
- Braithwaite R.J., Konzelmann T., Marty C., Olesen O.B. Errors in daily ablation measurements in northern Greenland, 1993-94, and their implications for glacier climate studies. Journ. of Glaciology. 1998, 44 (148): 583–588. https://doi.org/10.3189/S0022143000002094
- Ebrahimi S., Marshall S.J. Parameterization of incoming longwave radiation at glacier sites in the Canadian Rocky Mountains. Journ. of Geophys. Research: Atmospheres. 2015, 120 (24): 12536–12556. https:// doi.org/10.1002/2015JD023324
- Hock R. A distributed temperature-index ice-and snowmelt model including potential direct solar radiation. Journ. of Glaciology. 1999, 45 (149): 101–111. https://doi.org/10.3189/S0022143000003087
- Hock R. Temperature index melt modelling in mountain areas. Journ. of Hydrology. 2003, 282 (1–4): 104–115. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(03)00257-9
- Hock R., Holmgren B. A distributed surface energy-balance model for complex topography and its application to Storglaciären, Sweden. Journ. of Glaciology. 2005, 51: 25–36. https://doi.org/10.3189/172756505781829566
- Mölg T., Hardy D.R. Ablation and associated energy balance of a horizontal glacier surface on Kilimanjaro. Journ. of Geophys. Research: Atmospheres. 2004, 109 (D16). https://doi.org/10.1029/2003JD004338
- Müller F., Keeler C.M. Errors in short-term ablation measurements on melting ice surfaces. Journ. of Glaciology. 1969, 8 (52): 91–105. https://doi.org/10.3189/S0022143000020785
- Munro D.S. Comparison of melt energy computations and ablatometer measurements on melting ice and snow. Arctic and Alpine Research. 1990, 22 (2): 153–162. https://doi.org/10.1080/00040851.1990.12002777
- Ohmura A. Physical basis for the temperature-based melt-index method // Journ. of Applied Meteorology and Climatology. 2001, 40 (4): 753–761. https://doi.org/ 10.1175/1520-0450(2001)040<0753:PBFTTB>2.0.CO;2
- Osipov E.Yu., Osipova O.P. Glacier Changes on the Pik Topografov Massif, East Sayan Range, Southeast Siberia, from Remote Sensing Data. Geosciences. 2018, 8 (5). https://doi.org/10.3390/geosciences8050148
- Osipov E.Yu., Osipova O.P. Glaciers of the Levaya Sygykta River watershed, Kodar Ridge, southeastern Siberia, Russia: modern morphology, climate conditions and changes over the past decades. Environmental Earth Sciences. 2015, 74 (3): 1969−1984. https:// doi.org/10.1007/s12665-015-4352-4
- Osipov E.Yu., Osipova O.P. Mountain glaciers of southeast Siberia: current state and changes since the Little Ice Age. Annals of Glaciology. 2014, 55 (66): 167–176. https://doi.org/10.3189/2014AoG66A135
- Osipov E.Yu., Osipova O.P. Reconstruction of the Little Ice Age glaciers and equilibrium line altitudes in the Kodar Range, southeast Siberia. Quaternary International. 2019, 524: 102–114. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.11.033
- Osipov E.Yu., Osipova O.P. Surface energy balance of the Sygyktinsky Glacier, south Eastern Siberia, during the ablation period and its sensitivity to meteorological fluctuations. Scientific Reports. 2021, 11 (1): 21260. https://doi.org/10.1038/s41598-021-00749-x
- Osipova O.P., Osipov E.Yu. Objective classification of weather types for the Eastern Siberia over the 1970–2020 period using the Jenkinson and Collison method. Atmosphere Research. 2022, 277: 106291. https:// doi.org/10.1016/j.atmosres.2022.106291
- Pellicciotti F., Brock B., Strasser U., Burlando P., Funk M., Corripio J. An enhanced temperature-index glacier melt model including the shortwave radiation balance: development and testing for Haut Glacier d’Arolla, Switzerland. Journ. of Glaciology. 2005, 51 (175): 573–587. https://doi.org/10.3189/172756505781829124
- Sicart J.E., Hock R., Six D. Glacier melt, air temperature, and energy balance in different climates: The Bolivian Tropics, the French Alps, and northern Sweden. Journ. of Geophys. Research: Atmospheres. 2008, 113 (D24). https://doi.org/10.1029/2008JD010406
- Stokes C., Shahgedanova M., Evans I., Popovnin V. Accelerated loss of alpine glaciers in the Kodar Mountains, south-eastern Siberia. Global Planetary Change. 2013, 101: 82–96. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2012.12.010
- Sun W., Qin X., Ren J., Yang X., Zhang T., Liu Y., Cui X., Du W. The Surface Energy Budget in the Accumulation Zone of the Laohugou Glacier No. 12 in the Western Qilian Mountains, China, in Summer 2009. Arctic, Antarctic and Alpine Research. 2012, 44: 296–305. https://doi.org/10.1657/1938-4246-44.3.296
- van den Broeke M., van As D., Reijmer C., van de Wal R. Assessing and improving the quality of unattended radiation observations in Antarctica. Journ. of Atmospheric and Oceanic Technology. 2004, 21 (9): 1417–1431. https://doi.org/10.1175/1520-0426(2004)021<1417:AAITQO>2.0.CO;2
- Wagnon P., Sicart J.E., Berthier E., Chazarin J.P. Wintertime high-altitude surface energy balance of a Bolivian glacier, Illimani, 6340 m above sea level. Journ. of Geophys. Research: Atmospheres. 2003, 108 (D6). https://doi.org/10.1029/2002JD002088
Supplementary files