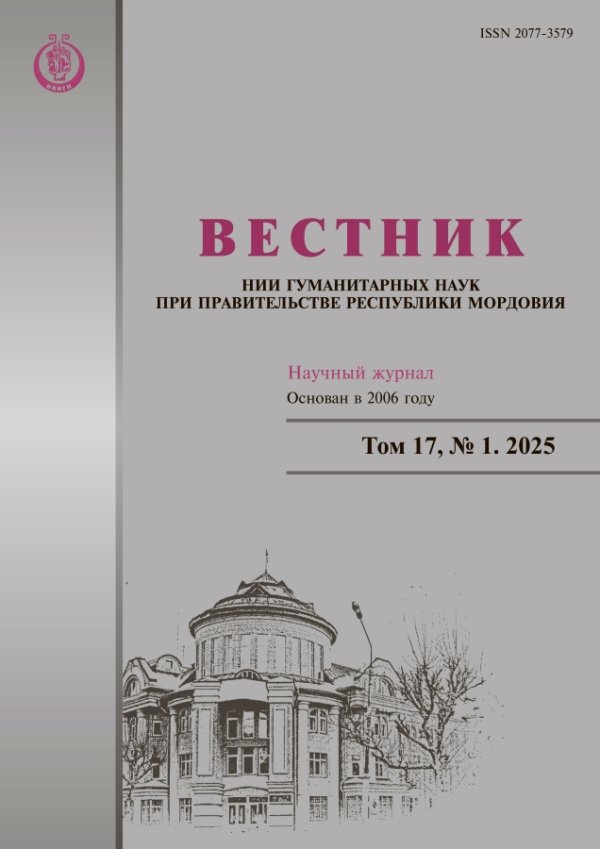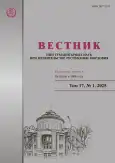On the problem of Russian-Chuvash literary relations (based on the material of Chuvash drama of the early ХХ century)
- Authors: Kirillova I.Y.1
-
Affiliations:
- Chuvash State Institute of Humanities
- Issue: Vol 17, No 1 (2025)
- Pages: 217-226
- Section: PHILOLOGICAL SCIENCES
- URL: https://journal-vniispk.ru/2077-3579/article/view/296059
- EDN: https://elibrary.ru/XKTBPM
- ID: 296059
Cite item
Abstract
Introduction. The study of inter-literary dialogue is one of the important problems of modern literary criticism. The contact and literary relations of Chuvash literature with Russian literary classics in the early twentieth century played a significant role in the formation of the genre thinking of Chuvash drama. In this regard, the study of dialogue, in which self-knowledge of native literature is realized through the perception of another, is relevant both in studying the literary process of the early twentieth century and identifying its characteristic features, as well as in revealing its genre origins.
Materials and methods. The article examines Chuvash dramatic works of the early twentieth century through the continuity of Russian and Chuvash literature (themes, issues, motivic structure, images, system of artistic means). The methods of structural, historical, typological and comparative analysis are used in the study of the dialogue between the two literatures.
Results and discussion. To achieve the purpose of the study, we analyzed the works of K. Ivanov, one of the brightest representatives of Chuvash poetry, who managed to enter into a dialogue with classical examples of world literature. The study of the interpretation of literary works in different cultural contexts is an important aspect of the problem of literary interrelationships. From this point of view, the drama “Zora” by N. Garin-Mikhailovsky is analyzed, which shows a picture of the Chuvash world, and its creative reinterpretation by I. Maksimov-Koshkinsky on the stage of the Chuvash theater.
Conclusion. The appeal to the traditions of Russian classical literature expanded the genre and artistic and aesthetic possibilities of Chuvash drama at the stage of its formation, stimulated the search for new means of depicting reality.
Full Text
Введение
Исследования межкультурного диалога, форм и видов взаимодействия литератур представляют собой актуальную задачу в современном литературоведении. Эта область изысканий позволяет расширить знания о литературных связях на разных этапах их развития, понять особенности не только родной литературы, но и инонациональной, помогая при этом выявить самобытность и идентичность каждой из них. Контактно-литературные связи чувашской литературы с русской литературной классикой прослеживаются с середины ХIX в. В начале ХХ в. они сыграли значительную роль в становлении жанрового мышления чувашской драмы, чем и вызван интерес к данной проблеме.
Обзор литературы
Исследование типологии межлитературных связей в чувашском литературоведении долгое время соотносилось лишь с теорией влияний и заимствований и сводилось к таким формам, как подражание, переложение, усвоение, использование и т. д. [4]. Сегодня мы говорим о диалоге литератур, в котором осуществляется самопознание и происходит понимание другого [1; 8]. Важно отметить, что проблема диалогизма в чувашской литературе анализируется в пространстве осмысления своей этнокультурной идентичности.
Особое внимание вызывает работа Ю. М. Артемьева, в которой исследуется диалог чувашского поэта К. Иванова с классическими образцами мировой литературы [2]. Как одну из форм русско-чувашских литературных связей можно рассматривать творческую рецепцию русской литературой чувашской действительности, которая стала объектом исследований Л. Н. Сарбаш [9].
Материалы и методы
В данной работе нами предпринята попытка исследования русско-чувашских литературных связей на материале русской литературы и чувашской драматургии начала ХХ в. В ходе работы применены методики структурного, историко-типологического и компаративного анализа.
Результаты исследования и их обсуждение
Русско-европейские культурные традиции начинают активно проникать в чувашскую среду во второй половине XIX в. на фоне набирающих силу социальных движений с характерными культурно-просветительскими задачами. Значительную роль в этом сыграла Симбирская чувашская учительская школа И. Я. Яковлева, как «светоносный очаг чувашского Возрождения», где через восприятие русско-европейских традиций шло активное формирование мировоззренческой основы национально-эстетической мысли [2, с. 138]. Здесь проводились литературно-музыкальные вечера, был создан школьный театр, в котором происходило становление первых чувашских драматургов и основателей профессионального чувашского театра (Г. Комиссаров, К. Иванов, И. Максимов-Кошкинский, Н. Шубоссинни и др.). Для школьных спектаклей были переведены «Женитьба», «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Недоросль» Д. И. Фонвизина, произведения А. С. Пушкина и многие другие. Значимость переводов прежде всего заключалась в том, что они подготавливали почву для развития чувашской драматургии, способствовали выработке художественного мышления и эстетического вкуса, устанавливали нормы литературного изложения и рамки литературных жанров.
Работа с произведениями русских писателей не только совершенствовала труд переводчиков, но и давала начинающим литераторам возможность почувствовать и увидеть художественную силу и выразительность, богатый эстетический потенциал родного языка и национальной культуры. Так, первые пьесы Г. Комиссарова «Чăваш туйĕ» («Чувашская свадьба», 1901), «Выртмара» («Ночное», 1903), «Авлану» («Женитьба», 1902) знакомят читателей с богатой духовной культурой чувашского народа. В их основе лежат сцены из свадебного обряда, через которые автор раскрывает национальный быт и характер веками сложившихся семейно-бытовых взаимоотношений народа.
Знакомство с русской словесностью благотворно повлияло на формирование художественно-эстетических взглядов писателя М. Акимова. Он сумел прочувствовать глубокий смысл природы сатиры Н. В. Гоголя и М. Е. Салтыкова-Щедрина, ощутил совместимость сатирических приемов и форм (иносказательность, гротеск, аллегория и т. д.) с социокультурной обстановкой эпохи. В своих произведениях вел разговор о наболевшем в драматично-ироничном тоне. Через переводы поэмы «Человек» и пьесы «На дне» М. Горького он постигал идеи гуманизма.
В драме «Ялти пурнăç» («Деревенская жизнь», 1907) М. Акимов повествует о вынужденном заискивании крестьян перед вышестоящей властью. Сама ситуация иронична: крестьянин Федор выслуживается перед сельской старостой Афонькой, возомнившим себя большим чиновником. Через него он хочет добиться заработанных у богатого односельчанина денег, который не хочет отдавать. В умелом раскрытии характера писаря, чувствующего свое превосходство и власть в селе, в индивидуализированной речи отдельных персонажей проявляются черты сатирических типов М. Е. Салтыкова-Щедрина и Н. В. Гоголя.
В финале пьесы приезжает начальство, перед которым уже заискивает Афонька. Шутливо-ироничный поворот событий не случаен для Акимова-памфлетиста, который в сатирической манере наглядно раскрывает реальные социально-бытовые проблемы и застойные явления чувашской деревни рубежа XIX — XX вв. В комичной на первый взгляд ситуации и персонажах он уловил трагичность эпохи — бедственное, зависимое положение крестьян и произвол местной власти.
Наличие переводной литературы и опора на русско-европейские литературные традиции в качестве предпосылок становления драматических жанров в национальных литературах рассматриваются и региональными исследователями [3; 4; 5]. Пьесы Ф. Шиллера, Ж. Мольера, Н. Гоголя, М. Горького, А. Островского, Л. Толстого, А. Чехова, Л. Андреева и других оказали существенное влияние на национальное мировосприятие молодой творческой интеллигенции и определили их художественные поиски.
В истории чувашской литературы и культуры поэт К. Иванов занимает исключительно важное значение. Являясь всеобъемлющим выразителем духовного мира чувашского народа, он через собственно национальное сумел выразить общечеловеческие эстетические ценности и философские идеи. Вступив в диалог с классическими образцами мировой литературы, его творчество перешагнуло границы национального и стало достоянием других культур мира [2, с. 10].
Своеобразие поэтики К. Иванова настолько сложно и оригинально, что оказалось невозможным объяснить его системами лишь какого-то одного общеизвестного художественного направления. Исследователи сходятся во мнении, что творчество К. Иванова необходимо рассматривать на стыке двух культур: традиционной чувашской, уходящей корнями в культуру Востока, и западной.
Из драматургических произведений К. Иванова до нас дошли сохранившиеся части трагедии в стихах «Шуйттан чури» («Раб дьявола»). Трагедия написана осенью 1907 г. Известно, что в творчески насыщенный период осенне-зимнего полугодия 1907 — 1908 гг. были созданы главные произведения поэта: «Раб дьявола», стихотворные сказки «Икĕ хĕр» («Две дочери») и «Тăлăх арăм» («Вдова»), баллада «Тимĕр тылă» («Железная мялка»), стихотворение «Выçăпа аптранăскерсем» («Голодные»), классическая поэма «Нарспи». Этот период можно сравнить с содержательной в творческом плане «болдинской осенью» Пушкина [2, с. 237].
Многие исследователи творчества К. Иванова отмечают типологическую и текстологическую связь трагедии «Раб дьявола» с традициями европейской и русской трагедии, ее наполненность общими для всего творчества поэта темами, мотивами и образами, их связь между собой. Генезис жанра и архитектонику трагедии они возводят к «Маленьким трагедиям» А. Пушкина, «Фаусту» В. Гете, трагедиям У. Шекспира [2, с. 242]. К. Иванова интересовали драматические формы А. Пушкина, в которых поэт делает открытия в области человеческой психологии. В «Маленьких трагедиях», которые исследователи рассматривают как цикл трагедий, в острой сюжетной ситуации глубоко и правдиво раскрывается душа человека, охваченная какой-либо страстью, ставшей главным содержанием всей жизни [10, с. 139]. Каждой отдельной страсти посвящен определенный трагический сюжет: в «Скупом рыцаре» — стремление к богатству, в «Моцарте и Сальери» — зависть, сжигающая душу героя, в «Каменном госте» — наслаждение любовью и жизнью любой ценой, в «Пире во время чумы» — игнорирование факта смерти и следующей за ней вечности. При этом в них человеческая жизнь показана на пределе жизни и смерти. Их объединяет стремление к гармонии с собой и миром и невозможность ее обрести.
Написанные в одно время произведения К. Иванова также объединены идейно-философским единством. Подчеркивая связь между ними, В. Г. Родионов называет их «универсальной „пятерицей“», в которой охвачены все блоки ценностей-первооснов [8, с. 45]. Действительно, предложенные автором конфликтные завязки стихотворных сказок и баллады способствуют более глубокому пониманию художественного мира первой чувашской трагедии в стихах «Раб дьявола». В связи с этим мы будем рассматривать их как единый цикл, основной внутренний закон которого заключен в движении трагической темы. Трагическое реализуется в каждом из этих произведений, раскрывается в противостоянии Добра и Зла и осознается через распад родственных уз [7, с. 104]. Истоки трагического необходимо искать прежде всего в мироощущении поэта, мировосприятии, его трагической судьбе. Свое непосредственное влияние на творчество К. Иванова оказали и переводы священных текстов Евангелии и Библии.
Произведения из цикла имеют форму драматических сцен. Так, в движении сюжета в первой стихотворной сказке «Две дочери» активно участвует диалог. В основу ее идейной составляющей в творчески трансформированном виде положена поэтика шескпировской трагедии «Король Лир». В ответах старшей и младшей дочерей на вопросы отца (что тучнее, слаще и мягче на земле?) раскрываются две составляющие основы миропорядка. Старшая дочь, угождая нраву отца, хвалит сивого коня, душистый мед, перины и подушки в отчем доме. Младшая оказывается бескорыстной: для нее во всей вселенной нет тучней земли, нет слаще сна, нет мягче человеческих рук, за что и была изгнана из дома. В небольшой сказке автор затрагивает мысль, которая не давала покоя пушкинскому Сальери: «Нет правды на земле, но нет ее и свыше».
К. Иванов намеренно создает такие конфликтные ситуации, в которых добрые и честные герои становятся жертвами злых сил. Намеченная в сказке основная коллизия будет иметь продолжение в трагедии «Раб дьявола». В ней между двумя братьями возникает конфликт из-за совместно награбленного мешка с золотом. Характеры героев раскрываются через их отношение к богатству, которое и является движущей силой конфликта, доводящего события до полного трагизма: старший брат под подстрекательством дьявола убивает младшего, чтобы единолично владеть награбленным. Младший, осознав греховность своих действий, раскаивается. Скупость, страсть к накоплению денег, нежелание их тратить разрушительно действуют на психику человека, влияют на семейные отношения. Человеческая скупость как результат социально-исторической эпохи показана А. С. Пушкиным в «Скупом рыцаре».
В балладе «Железная мялка» близкие родственники отказывают в помощи родной сестре, «убийственный поступок» которых отмечает Ю. М. Артемьев: «Две ее сестры и брат оказались намного опаснее чужих» [2, с. 240 — 241], что мы видим и в «Рабе дьявола», и в «Двух дочерях». Основная трагическая коллизия разворачивается между близкими родственниками и доходит до трагического накала. В каждом случае К. Иванов показывает «критическую точку», в которой отражается комплекс морально-нравственных проблем, восходящих к своим изначальным корням (как и у Пушкина в «Маленьких трагедиях»). Признание значения и ценности каждого из произведений не исключает более широкого осмысленного прочтения их в рамках цикла и даже позволяет в этих цельных образованиях увидеть «опыт изучения» предшествующих фольклорно-мифологических и культурных эпох.
У А. Пушкина к трагедиям имеются подзаголовки: «Скупой рыцарь» — «Сцены из ченстоновой трагикомедии «Тhe Covetous Knight» (в реальности не существует), «перевод с немецкого» к «Моцарту и Сальери» (немецкий оригинал не существует), «Пир во время чумы» — «Отрывок из вильсоновой трагедии «The city of the plague» (трактуется как «вольная переработка сцены из трагедии Вильсона «Город чумы»). При этом пушкинские трагедии обладают смысловой и композиционной завершенностью и являются оригинальными произведениями. Опираясь на некоторые источники европейской литературы, поэт переосмысливает их в контексте русских культурно-религиозных традиций [10, с. 140].
У К. Иванова тоже есть подзаголовок трагедии: «Халăх калавне улăштарса çырнă» («Переделка народного рассказа»). Народные предания о разрушающей силе золота, толкающего человека на убийство другого человека, брата по наставлению Дьявола, в чувашском фольклоре не найдены. Однако имеются сюжеты, где люди за то, чтобы научиться какому-нибудь мастерству, например игре на скрипке, заключают договор с «Усал / Шуйттан» — Дьяволом — и закрепляют его кровью, т. е. отдают ему свою душу1. В трагедии поэт умело синтезирует фольклорно-мифологические картины мира чувашей и актуальные для начала XX в. нравственно-этические и философские проблемы.
Идейно-философский стержень произведений, заключающийся в борьбе Добра и Зла, раскрывается в трагедии «Раб дьявола» через диалогическую антитезу образов Дьявола («шуйттан» можно рассматривать в одном семантическом ряду с «дьяволом», «демоном», «бесом») и Ангела («пирĕшти»). В русле русской духовной традиции и романтического направления в образе дьявола показана власть многоликого и лукавого духа зла над душами людей (демон-искуситель Пушкина, Лермонтова и др.), а ангел направлен для спасения души человека от дьявольского влияния: младший брат перед смертью осознал свои ошибки. К. Иванов показывает цепную реакцию зла, берущую начало с нарушения простых истин: почитание богов, божеских заповедей, родителей, разрушение родственных уз и т. д. Это идет еще с античных трагедий и имеет продолжение в европейских и русских литературных традициях. Главным источником зла, который губит человечество, писатель считает зло, находящееся внутри самого человека (страсти, пороки): «Нет сильнее человека // Во вселенной никого: // Он на суше и на водах // Стал хозяином всего. // Но владыка мира, миру // Человек покорен сам, // Светлый разум омрачает // Страсть его к вину, деньгам»2.
Такой прием, как переплетение реального и ирреального, направленный на размышление о временных и вечных понятиях, стал одним из художественных принципов в чувашской драматургии последующих периодов, а трагедия «Раб дьявола» — важным творческим ориентиром и образцом.
Художественно-эстетическое сознание К. Иванова развивалось в русле всестороннего осмысления законов и жанровых особенностей трагического искусства. В поисках новых художественных идей, пробуя себя в разных жанровых формах, он вошел в межкультурный диалог с русской и европейской литературой.
Немалую роль во взаимодействии литератур сыграло обращение русских писателей и публицистов к инонациональной тематике. В условиях этнического многообразия России они не раз обращались к описанию быта разных народов, расширяя при этом восприятие других национально-культурных традиций. О чувашском народе с его жизненным укладом, традиционной обрядовостью и самобытной духовной культурой писали П. Мельников-Печерский («На Горах»), С. Аксаков («Детские годы Багрова-внука»), Н. Лесков («Очарованный странник») и др. За малочисленностью собственно чувашских пьес эти произведения не раз ложились в основу первых постановок Чувашского театра. Так, для инсценировки по роману-дилогии П. Мельникова-Печерского («В лесах», «На Горах») первый чувашский режиссер И. Максимов-Кошкинский выбрал сюжетные линии, связанные с жизнью чувашского народа. Второй опыт — постановка спектакля «Эли» по драме «Зора» Н. Гарина-Михайловского.
Действия в романтической драме «Зора», написанной на рубеже XIX — XX в., происходят во второй половине XIX в. в чувашской глубинке, куда приехал молодой британский промышленник Гарри и влюбился в прекрасную Зору, дочь местного жреца. Н. Гарин-Михайловский в драме противопоставил два мира: мир культуры — промышленной цивилизации, которую стремится развить в чужом краю иностранец, и традиционный мир с его патриархальным укладом жизни, в котором народ живет в гармонии с природой, согласно законам своих богов и духов. Автор прочувствовал национальное мифосознание народа и через мифологические образы и традиционные обряды сумел показать чувашский патриархально-природный мир. В романтическом ключе он описывает чувашские хороводы и традиции, задается вопросами о ценности и смысле культуры, о власти и силе первобытной стихии в человеке, о слабости и ничтожности науки, техники и искусства перед первозданной стихией [9, с. 166 — 176].
В постановке 1922 г. режиссер И. Максимов-Кошкинский адаптировал пьесу к чувашской действительности. Им были внесены некоторые трансформации в сюжет, героям даны чувашские имена, введены новые персонажи: Эли (Зора), Атнер (Зораим), Юманкка, Уркка, Пикпав, Ÿтемĕш и др. Англичанин Гарри, приехавший в чувашскую глубинку с намерением построить город с фабриками и заводами, заменен на барина Энкирея, захватившего земли народа и поработившего его, что соответствовало социально-общественной обстановке начала 1920-х гг. Режиссер акцентировал внимание на борьбе чувашей за национальную свободу.
Переработанная инсценировка возмутила писателя-публициста, историка М. Юмана. По его утверждению, в чувашском варианте потерялось авторское восхищение веками сохранившейся национальной самобытностью народа. В постановке не оказалось заявленной в анонсах спектакля масштабной массовки, не были представлены чувашский хор и народные танцы и т. д.3 Воспринимая оригинальную драму как одно из лучших произведений иноязычного писателя, показавшего чувашский мир, М. Юман художественно точно перевел его для национального читателя под названием «Сарпике»4. Переводчик ратовал за сохранность оригинального чувашского языка. Учитывая замечания М. Юмана, И. Максимов-Кошкинский по мотивам «Зора» написал драму «Уй чÿк» («Полевое жертвоприношение»), усилив в ней идею национального единения и свободы, и в 1925 г. снял фильм «Сарпике».
Творческая рецепция русской литературой чувашской действительности, т. е. воспроизведение одной национальной модели мира через призму другой, способствовала развитию межкультурного диалога, расширению идейно-художественных представлений о мире.
Заключение
Формированию жанрового мышления драмы в чувашской литературе содействовали как переводы и прямые переложения с русского на чувашский язык, так и преемственные связи между произведениями разноязычных писателей (проблема, структура, система художественных средств и т. д.). Жанровая поэтика чувашской драмы через русскую литературу обогатилась сюжетами, мотивами и героями. К. Иванов сумел чувашское национальное литературно-художественное сознание включить в диалог с классическими произведениями общемировой культуры. Более активную форму данный диалог приобрел в 1920-е гг., в период становления чувашского профессионального театра.
1 Чăваш халăх пултарулăхĕ: Мифсем, легендăсем, халапсем = Чувашское устное народное творчество: Мифы, легенды, предания. Шупашкар, 2004. С. 206, 465, 469.
2 Иванов К. В. Нарспи: поэма. Чебоксары, 2024. С.
3 [Дмитрий Петров-Юман]. Д. П. К постановке «Зоры» в Чувашгостеатре // Чувашский край. 1922. № 41 (24 мар.).
4 Гарин (Михайловский) Н. Г. Сарпике (Вăйă калавĕ) / Юман М. куçарнă. Шупашкар, 1924. 60 с.
About the authors
Irina Yu. Kirillova
Chuvash State Institute of Humanities
Author for correspondence.
Email: irinakir1@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-3720-4413
Vice Director on the Science and Development Sphere, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Russian Federation, 29/1 Moskovsky Ave., Cheboksary 428015References
- Amineva VR. Interliterary dialogue as a concept in comparative studies. Bulletin of the Tatar State Humanitarian and Pedagogical University. 2010;(1):118—124. EDN MBHCHF (In Russ.)
- Artemyev YuM. Konstantin Ivanov. Life. Fate. Immortality. Cheboksary;2013. (In Russ.)
- Akhmadullin AG. Tatar drama: history and problems. Kazan; 2012. (In Russ.)
- Vladimirova EV. Interethnic relations of Chuvash literature. Cheboksary;1970. (In Russ.)
- Zaitseva TI, Kondratieva NV, Ivshina MV. Udmurt dramaturgy of the second half of the XX — beginning of the XXI century: problems, artistic originality, genre searches. Izhevsk;2018. (In Russ.) EDN XSOZAI
- Ivanov AE. Mari drama: the main stages of development. Yoshkar-Ola;1969. (In Russ.)
- Kirillov KD. Tragic in the work of K. Ivanov-Prta. Guestions of poetics by K. Ivanova. Proceedings. Cheboksary;1991:103—106. (In Russ.)
- Rodionov VG. Chuvash literature of 1900 — 1908. History of Chuvash literature of the XX century. Cheboksary;2015;1:12—68. EDN UFTPMD (In Russ.)
- Sarbash LN. The Chuvash in Russian literature and journalism of the 19th century. Cheboksary;2024. (In Russ.)
- Taborisskaya EM. Pushkinʼs “Little tragedies” as a cycle (some aspects of poetics). Pushkin collection. Proceedings. Leningrad;1977:139—144. (In Russ.)
Supplementary files