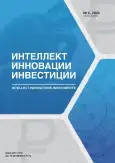Digital inequality as a new form of social inequality
- Authors: Platonova S.I.1
-
Affiliations:
- Udmurt State Agricultural University
- Issue: No 6 (2024)
- Pages: 139-149
- Section: Philosophical Sciences
- URL: https://journal-vniispk.ru/2077-7175/article/view/278878
- DOI: https://doi.org/10.25198/2077-7175-2024-6-139
- ID: 278878
Cite item
Full Text
Abstract
The relevance of the article is associated with the active development of digital technologies and the emergence of digital inequality as a new form of social inequality. The article considers the socio-philosophical aspects of digital inequality. The methodological basis of the study is general logical methods of analysis, generalization, comparison, classification, typification. The study used the principles of dialectical and systemic approaches: development, comprehensiveness of study, historicism. Attention is drawn to the fact that there are empirical studies of digital inequality, which consider the levels of digital inequality (global, social, individual), the evolution of forms of digital global inequality. However, a consistent socio-philosophical analysis of digital inequality, offering a theoretical basis and a categorical-conceptual apparatus for understanding this phenomenon, is not presented in scientific knowledge. Currently, there is no unified approach to the concepts of «digital inequality» and «digital capital». There is a need for a general definition of these concepts, which should serve as a starting point for further research of digital inequality and digital capital. Digital inequality exists in various forms related to access to the latest information technologies, the use of information and communication technologies, and social prospects for mastering ICT. The manifestation of digital inequality in the main spheres of society is considered: political, economic, social, and spiritual. Attention is drawn to the connection and interdependence of digital inequality and digital capital. Based on the theory of social capital and the concept of «habitus» by P. Bourdieu, the process of converting digital capital into other forms of capital is studied. The article shows that all types of capital are interconnected and an individual with economic, political, personal, and cultural capital can transform them into digital capital (the ability and skills to use the Internet). Digital capital, in turn, is converted into offline capital. It is concluded that the lack or limitation of access to the digital environment, a low level of digital competencies is one of the main sources of the development of digital inequality as a type of social inequality in a digital society. The article also draws attention to the need to take into account the social and cultural characteristics of individuals when studying the formation of digital capital and digital inequality. A conclusion is made about understanding digital inequality as an integral phenomenon associated with digital capital.
Full Text
Введение
В предисловии к книге «Цифровая социология» профессор университета Канберры (Австралия) Д. Луптон (D. Lupton), отметила, что сегодня мы живем в цифровом обществе [22, p. 2]. С этой точкой зрения согласны многие обществоведы. Создание и распространение компьютеров, изобретение Интернета началось в 80–90-х гг. XX века, а с наступлением XXI века цифровые технологии пронизывают буквально все сферы жизни. Продолжается активное использование разнообразных мобильных устройств, таких, как смартфоны, мобильные планшеты, «умные вещи», которые способны подключаться к Интернету и обмениваться информацией без участия человека.
Экономической основой формирования и функционирования цифрового общества является четвертая промышленная революция, начавшаяся в конце XX века. Ее чертами являются «мобильный Интернет, искусственный интеллект, обучающиеся машины, … взаимодействие виртуальных и физических систем производства, … синтез технологий и их взаимодействие в физических, цифровых и биологических доменах» [20, с. 11–12]. К особенностям четвертой промышленной революции можно отнести экспоненциальные темпы ее развития, широту и глубину происходящих изменений в «экономике, бизнесе, социуме, в каждой отдельной личности, … системное воздействие по всем странам, компаниям, отраслям и обществу в целом» [20, с. 9]. Можно согласиться с мнением К. Шваба о том, что четвертая промышленная революция «изменяет не только то, “что” и “как” мы делаем, но и то, “кем” мы являемся» [20, с. 9].
Обществоведы включились в активное обсуждение вопросов и проблем, связанных с особенностями цифрового общества, цифровой экономики, цифровизацией социальных процессов и развитием цифровых форм социального контроля, формированием виртуальной идентичности, появлением социотехнических объектов, новых форм познания мира. Одним из первых теоретиков цифрового общества является испанский социолог Мануэль Кастельс, по мнению которого информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), такие как социальные сети, играют важную роль в создании новой социальной структуры общества, глобальной экономики и новой виртуальной культуры [21].
Понятие «цифровизация» предложил американский специалист в области информационных технологий, основатель Медиа-лаборатории Массачусетского технологического института Н. Негропонте в книге «Быть цифровым» (Being Digital), опубликованной в 1995 г. [24]. Николас Негропонте отмечал, что он является цифровым оптимистом, так как цифровизация приведет к положительным качественным социальным трансформациям, связанным с изменениями рабочего ритма, пространственно-временных отношений, асинхронным общением [24].
Однако наряду с восторженными оценками развивающейся цифровизации подчеркивается, что «у каждой технологии есть темная сторона. Цифровизация не исключение» [8, с. 6]. Действительно, происходящие за последние десятилетия цифровые процессы акцентировали многочисленные проблемы и противоречия во всех сферах общества, включая формирование цифрового неравенства как новой формы социального неравенства.
Цель статьи связана с анализом феномена цифрового неравенства как новой формы социального неравенства. Важным является рассмотрение следующих проблем. Во-первых, это рассмотрение основных характеристик цифрового неравенства. Во-вторых, это анализ взаимосвязи цифрового неравенства с цифровым капиталом; в-третьих, это изучение проявления цифрового неравенства в разных социальных сферах. Поскольку цифровое неравенство является имплицитной характеристикой цифрового общества, необходимо предварительно рассмотреть основные характеристики цифрового общества.
Концептуализация цифрового общества: социально-философский анализ
Как отмечают многие исследователи, четкое определение понятия «цифровое общество» отсутствует [4, с. 113]. Несмотря на то, что количество публикаций, посвященных цифровому обществу, увеличивается, «теоретические основы, понятийный аппарат и методы изучения цифрового общества ... только формируются» [16, с. 131]. Как полагают А. Орехов и Н. Чубаров, цифровое общество – это «современный этап развития информационного (постиндустриального) общества» [11, с. 262]. С подобным определением цифрового общества согласен А. Смирнов, понимающий под цифровым обществом «современную стадию развития информационного общества, в которой важнейшее значение имеет не информация в целом, а прежде всего ее цифровой формат, методы оцифровки, кодирования и передачи информации. Ключевая роль в цифровом обществе отводится Интернет-среде, развитие которой служит источником множества общественных изменений» [16, с. 132]. А. Смирнов выделяет следующие признаки цифрового общества: «сверхсвязность, платформизация, датификация, алгоритмическое управление, характеризующие высочайшую степень проникновения цифровых технологий в повседневную жизнь человека» [16, с. 133-135]. Автор обращает внимание на взаимосвязь этих явлений: «Сверхсвязность создает основу для существования цифровых платформ и экосистем, которые генерируют большие данные, позволяющие осуществлять алгоритмическое управление социальными системами» [16, с. 135].
Д. Добринская цифровое общество определяет как «общество, инфраструктура которого функционирует посредством цифровых технологий (технологии больших данных и искусственного интеллекта, алгоритмов и алгоритмических систем, облачных вычислений и т. д.), а базовой формой организации и социального взаимодействия являются сетевые структуры и платформы» [4, с. 114]. Как можно заметить из приведенных характеристик цифрового общества, позиции А. Смирнова и Д. Добринской мало чем отличаются. Таким образом, осмысление цифрового общества опирается на признание таких его черт, как суперсвязанность, непредсказуемость и неравновесность, тотальность цифровых технологий, стирание пространственно-временных границ, формирование социотехнических объектов.
В социально-философской литературе используются и другие понятия, описывающие современное общество: «сетевое общество» [21], «метрическое общество» [23], «общество платформ» [28], «знающий капитализм» [27], «надзорный капитализм» [7]. Исследователи анализируют процессы мифологизации цифрового общества, создания ложных мифов, скрывающих интересы крупных компаний [25], возникновение «умной толпы» как массовой общности, самоорганизующейся посредством цифровых технологий [15], формирование цифрового разрыва [29].
С одной стороны, мы все больше становимся субъектами цифровых данных, поскольку активно производим цифровую информацию. С другой стороны, мы становимся одновременно и объектами цифровых данных, которые могут быть использованы крупными платформенными компаниями и государственными структурами для изучения нашего поведения, предпочтений, пристрастий и, в конечном счете, для извлечения большей прибыли и усиления социального контроля [13]. Люди оставляют «цифровые следы», связанные с их покупками, перемещениями, позиционированием в социальных сетях, виртуальной активностью, проявляемой в виде лайков, постов, блогов.
Поэтому цифровое общество характеризуется не только новыми возможностями для индивидов (Интернет-покупки; сетевое общение, перекраивающее пространственно-временные ограничения; Интернет-вещей, технологии «Умного Дома», предлагающие безопасность и комфорт жилья; геолокация; медицинские онлайн консультации и т. д.), но и приводит к социальным противоречиям качественно новой природы, формированию цифрового неравенства и связанного с ним цифрового капитала.
Цифровое неравенство как новая форма социального неравенства
Эпоха раннего Интернета декларировала доступность получения любой информации, освобождение от посредников в лице крупных газет, журналов, телевизионных компаний, определявших и решавших за нас, какие новости являются более важными, что подлежит освещению в прессе и как следует интерпретировать то или иное событие. Провозглашались демократия, свобода собственного мнения, свобода читать и смотреть, что хочется. Однако за видимой свободой доступа к информации на самом деле скрывается неравномерность доступа и использования информационного ресурса. Возникает цифровое неравенство как новая форма социального неравенства.
Цифровое неравенство понимается как «неравномерный и неравный доступ стран, социальных групп и отдельных пользователей к сетевой телекоммуникационной инфраструктуре, цифровым устройствам, услугам и контенту, что является следствием комплекса разных причин технологической, экономической, социально-политической, индивидуальной природы, ограничивающих возможности людей во всех сферах их жизни» [3, с. 4].
Цифровое неравенство становится объектом исследования социально-гуманитарных наук с конца XX века. Большую роль в анализе этого феномена сыграли (и продолжают играть) экономисты и социологи, специалисты по медиатехнологиям, демографы, политологи. Цифровое неравенство рассматривается с привлечением экономических показателей, социально-демографических данных (пол, возраст, раса, этничность, образование, профессия и др.). Например, было отмечено, что «на использование Интернета влияют социально-демографические показатели: возраст, образование, территория проживания (крупный город, пгт, сельская местность), должность, работа или безработный, образование, знание иностранного языка» [16, с. 141].
Тем не менее, исследования цифрового неравенства являются во многом эмпирическими и носят описательный характер [5, с. 159]. Отсутствует философский анализ этого феномена, позволяющий проанализировать цифровое неравенство не только с помощью статистических данных, но и предлагающий теоретические основы и категориально-понятийный аппарат для осмысления этого явления. Недостаточно исследованным является вопрос, связанный с тем, как и каким образом цифровое неравенство создает препятствия и угрозы для развития личности и общества в целом.
Прежде всего, можно выделить следующие уровни цифрового неравенства:
- глобальный уровень, характеризующий цифровой разрыв между промышленно развитыми и развивающимися странами;
- социальный уровень, связанный с использованием информационно-коммуникационных технологий различными социально-экономическими группами внутри отдельных национальных государств;
- индивидуальный уровень, связанный с применением ИКТ различными типами пользователей.
Традиционно цифровой разрыв существует между богатыми и развитыми странами Севера и бедными развивающимися странами Юга. Например, «по данным Международного союза электросвязи, количество домохозяйств, имеющих подключение к Интернету, в развитых странах почти в пять раз выше, чем в остальных регионах мира» [6, с. 110].
Наблюдается эволюция форм цифрового глобального неравенства. «Первая форма цифрового неравенства – воспроизводственная, характеризует цифровое неравенство на начальной стадии развития информационной экономики. Вторая форма цифрового неравенства – динамичное цифровое неравенство, возникающее в условиях высокой степени зрелости информационного общества: отдельные страны сознательно используют информационный прорыв для использования конкурентных преимуществ над другими странами» [18, с. 6].
Существуют интересные эмпирические исследования, прослеживающие формирование и функционирование цифрового неравенства в рамках отдельного государства. Цифровое неравенство существует не только между разными социально-экономическими группами в рамках отдельного государства, но и между разными регионами в пределах одного государства. В качестве примера можно привести существование цифрового неравенства в сфере медицины и биотехнологий между регионами в России. Цифровизация в медицине позволяет получить среди прочего качественную медицинскую помощь, повысить качество предоставляемых медицинских услуг, точность постановки диагноза, достоверность клинических исследований [10]. Однако существует неравномерная техническая и технологическая оснащенность территорий. «С 2018 г. лидером использования информационных медицинских технологий является Москва, ... по регионам показатели менее впечатляющие» [10, с. 682].
Для философов наибольший интерес представляет изучение цифрового неравенства как базовой характеристики цифрового общества; анализ природы и причин цифрового неравенства; выявление препятствий и последствий цифрового неравенства для развития личности, социальных институтов и общества в целом. Один из признанных специалистов в области изучения цифрового неравенства Ян ван Дейк в своей книге «Цифровой разрыв», опубликованной в 2020 году, ставит следующие вопросы: «Уменьшит ли цифровое неравенство существующие традиционные формы неравенства?» «Приведет ли цифровое неравенство к новым формам социального неравенства?» [29]. Ван Дейк предпочитает использовать понятие «цифровой разрыв» [digital divide], под которым понимает разделение между людьми, имеющими доступ к цифровым медиа и пользующимися ими, и теми, кто этого не делает [29]. Голландского социолога интересуют навыки использования цифровых технологий и социальный эффект от их использования. При этом Ян ван Дейк выделяет четыре этапа внедрения ИКТ: мотивация, физический доступ к ИКТ, цифровые навыки, результаты использования ИКТ [5].
В социально-философской литературе наблюдается трансформация представлений о причинах и природе цифрового неравенства. И в качестве причин выделяют не только уровень дохода индивидов, но и образование, возраст, гендер, профессию, территорию проживания и др. В настоящее время общепринятым считается подход, согласно которому цифровое неравенство следует понимать комплексно, многомерно, как «неравенство в цифровых навыках и мотивации, различие в практиках использования цифровых ресурсов и их влияние на жизненные шансы» [16, с. 136].
Отметим понимание цифрового неравенства как «нового вида социальной дифференциации, связанной с обладанием различными возможностями использования современных ИКТ» [6, с. 109]. Здесь цифровое неравенство определяется, прежде всего, как одна из новых форм социальной дифференциации, а исследовательский интерес смещается в сторону анализа этого феномена как сложного интегрального социального явления. Д. Добринская и Т. Мартыненко предлагают разработать комплексную модель цифрового неравенства, «которая бы учитывала наличие физического доступа к Интернету и специальных навыков, необходимых для использования ИКТ, и позволяла бы оценивать жизненные шансы, гарантируемые доступом и полноценным использованием интернет-ресурсов» [6, с. 117].
Таким образом, в изучении цифрового неравенства можно выделить несколько этапов. «Если доминантой исследований первого этапа изучения цифрового неравенства была проблема доступа, то на втором этапе была отчетливо сформулирована проблема навыков пользователей … На третьем этапе исследования цифрового неравенства исследовательское внимание переместилось на анализ его новых форм, вызванных развитием и проникновением Интернета, и их негативных последствий для общества и индивидуумов» [3, с. 8].
Цифровой капитал: к определению понятия
Цифровое неравенство ведет к формированию цифрового капитала, который в условиях цифрового общества приобретает большое значение. Данное понятие пока не получило точного и четкого определения. Д. Добринская и Т. Мартыненко определяют цифровой капитал как «совокупность опыта, навыков, знаний, компьютерной грамотности и др.» [6, с. 114]. По мнению М. Рагнедды, «цифровой капитал – это накопление цифровых компетенций (информация, коммуникация, безопасность, создание контента и решение проблем) и цифровых технологий» [26, p. 2]. Возможно определение цифрового капитала в терминах П. Бурдье: это «набор интернализованных способностей и умений (цифровые компетенции), а также экстернализованных ресурсов (цифровые технологии), которые могут быть исторически накоплены и перенесены с одной арены на другую» [26, p. 2]. Определение цифрового капитала, предложенного М. Рагнеддой, представляется более точным, подчеркивающим взаимосвязь владения цифровыми навыками с последующей их конвертацией в социальные ресурсы.
В философии и социологии изучаются разные виды капитала: экономический, культурный, личный, политический. Широко используется понятие «социальный капитал», который рассматривали П. Бурдье, Р. Патнэм, Дж. С. Коулман. С точки зрения П. Бурдье, «социальный капитал представляет собой совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью … институционализированных отношений взаимного знакомства и признания» [2, с. 66]. Иными словами, социальный капитал – это определенная репутация, это членство в группе, в партии, в клубе для избранных, это сеть социальных связей и отношений. Такое понимание социального капитала указывает на его взаимосвязь с экономическим и культурным капиталом. Как справедливо отмечает П. Бурдье, «различные индивиды получают слишком неравные прибыли при практически равном капитале (экономическом или культурном), – в зависимости от степени, в какой они способны мобилизовать капитал через свою близость к группе» [2, с. 66].
Французский философ размышлял о возможности трансформации социального и культурного капитала в экономический капитал. П. Бурдье предполагал и обратную конвертацию экономического капитала в социальный и культурный, считая при этом, что «возможность конвертации [convertability] различных типов капитала служит основой стратегий, направленных на обеспечение воспроизводства капитала посредством превращений, минимизирующих затраты и потери, с которыми сопряжено само превращение» [2, с. 72]. П. Бурдье, рассуждая о формах капитала, не выделяет такую форму, как «цифровой капитал». Однако в его работах можно встретить понятие «информационный капитал», который понимается им как культурный капитал.
Е. Вартанова и А. Гладкова, развивая идеи П. Бурдье, считают, что цифровой капитал связан с другими видами капитала и является «интегральным капиталом, объединяющим компетенции преодоления трех уровней цифрового неравенства – первого (доступ к технологиям), второго (цифровые навыки и компетенции) и третьего (социальные преимущества использования цифровых технологий)» [3, с. 10]. С подобным интегральным пониманием цифрового капитала можно согласиться, отметив еще одну особенность: цифровой капитал также может конвертироваться в другие виды капитала, как и другие виды капитала имеют возможность трансформироваться в цифровой капитал.
О взаимосвязи и конвертации разных видов капитала пишет М. Рагнедда, подчеркивая, что цифровой капитал трансформирует офлайн-активность в цифровую деятельность (время, проведенное в Интернете, найденная информация и знания, приобретенные ресурсы и навыки, виды деятельности и т. п.), а такая онлайн-активность преобразуется в наблюдаемые извне социальные ресурсы (лучшая работа, лучшая зарплата, более широкая социальная сеть, лучшие знания и т.д.) [26]. Важна мысль М. Рагнедды о том, что все виды капитала взаимосвязаны и индивид, обладающий экономическим капиталом (доход, профессия), политическим капиталом (гражданская активность), личным капиталом (запас личного опыта, мотивация, уверенность в себе), культурным капиталом (образование, знания, развитие навыков), может трансформировать их в цифровой капитал (умение и навыки пользования Интернетом). Цифровой капитал, в свою очередь, конвертируется в капиталы офлайн. Таким образом, цифровой капитал переплетается и взаимодействует с уже существующими капиталами, трансформируя онлайн активность в офлайн социальные ресурсы, связанные с социальным статусом, продвижением по службе, высоким доходом, качеством жизни. Поэтому отсутствие или ограничение доступа к цифровой среде, низкий уровень владения цифровыми компетенциями является одним из главных источников развития цифрового неравенства как вида социального неравенства в цифровом обществе.
Тем не менее, необходимо отметить, что простой доступ (первый уровень цифрового неравенства) и навыки использования ИКТ (второй уровень цифрового неравенства) не являются достаточными условиями для улучшения повседневной жизни человека. Большую роль в том, чтобы индивид был заинтересован в освоении и применении цифровых технологий играют его социально-демографические характеристики: образование, возраст, культурные нормы, семейное положение, этническая принадлежность, гендерная идентичность. Следуя логике П. Бурдье, на формирование цифрового капитала оказывает влияние габитус, понимаемый как «система устойчивых и переносимых диспозиций, … как принцип, порождающий и организующий практики и представления» [1, с. 45]. Габитус – это система определенных практик, которые, начинаясь в прошлом, продолжаются в настоящем и будущем. Поэтому определенные диспозиции, которые определяют место и положение индивида в обществе, будут детерминировать дальнейшие практики индивида. Вводя понятие габитуса, П. Бурдье пытается уйти от крайностей объективизма и субъективизма. Если объективизм понимает социальный мир как нечто внешнее по отношению к субъекту, то субъективизм интерпретирует социальное как индивидуальный опыт, как индивидуальную или групповую историю, не учитывающую существование социального мира.
Таким образом, для формирования цифрового капитала, его накопления и дальнейшего использования большую роль играют не только социально-демографические характеристики индивида, но и индивидуальные диспозиции (габитус в логике П. Бурдье), а также опыт практической деятельности индивида. Цифровой капитал взаимодействует с другими видами капитала, поэтому можно говорить о том, что существует определённая система такого взаимодействия. Разные виды капиталов (политический, культурный, личный, социальный, экономический), функционирующие офлайн, влияют на развитие цифрового капитала, который, в свою очередь, приводит к практикам внедрения цифровых навыков и ресурсов в социальную сферу.
Цифровое неравенство в современном обществе
Цифровое неравенство является характеристикой цифрового общества и пронизывает собой основные социальные институты и сферы общества. Придерживаясь сферного подхода к структуре общества, рассмотрим, как проявляется цифровое неравенство в основных социальных сферах общества.
Экономическая сфера. Экономическое неравенство заключается, в частности, в том, что определенный цифровой контент, создаваемый индивидами, используется затем крупными платформенными компаниями в коммерческих и финансовых интересах, для извлечения прибыли [22, p. 30–31]. Крупные интернет-компании (Facebook1, Google, Amazon), декларируя свободу получения и обмена информацией пользователями и возможность создания персонального цифрового контента, на самом деле извлекают коммерческую прибыль из действий индивидов. Как полагает Д. Луптон, любое коммуникационное действие с помощью цифровых носителей становится товаром. Коммуникации превращаются в товар, который можно выгодно продать [22, p. 8].
Внимания заслуживает позиция А. Орехова и Н. Чубарова, связавших цифровое неравенство с цифровыми благами и цифровой справедливостью. «Цифровое неравенство – это неравенство в доступе к цифровым благам, приводящее в конечном счете к нарушению принципов “цифровой справедливости” и “цифрового паритета”» [11, с. 264]. При этом цифровое благо понимается как «интеллектуальное благо, любое знание и информация, содержащее в себе какие-либо цифровые данные» [11, с. 266]. Авторы признают, что «концепт “цифровая справедливость” … мало задействован социальными учеными, но его можно считать гипотетическим развитием, например, такого понятия как “цифровое благополучие”» [11, с. 265]. Внимание авторов обращено на диалектическую взаимосвязь цифрового равенства (неравенства) с цифровым благом и цифровой справедливостью: «справедливость может состоять и в равенстве, и в неравенстве, и свою очередь, состояние равенства может быть как справедливым, так и несправедливым» [Там же]. Как итог, данные авторы полагают, что цифровая справедливость характеризуется ситуацией, «когда в условиях честного равенства возможностей каждый индивид получает количество цифровых благ, соответствующее его заработку; в случае ущемления политических и социально-экономических прав относительно этих благ предусмотрена компенсация» [Там же]. Таким образом, авторами обозначен еще один аспект цифрового неравенства: неравенство в распределении «знания и информации, содержащее в себе цифровые данные» [11, с. 266].
Социальная сфера. Цифровое неравенство приводит к формированию новых форм социального неравенства. В индустриальном обществе основное противоречие было между трудом и капиталом, в постиндустриальном обществе – между знанием и некомпетентностью, в цифровом обществе мы наблюдаем формирование нового вида противоречия – между цифровой компетентностью и цифровой некомпетентностью. Очевидно, что конкурентным преимуществом будут обладать индивиды, хорошо освоившие цифровые технологии и имеющие не только технические возможности для интернет-коммуникаций, но и доступ к большему количеству цифровых данных. Д. Добринская и Т. Мартыненко отмечают, что «для привилегированных социальных слоев характерна тенденция накапливать преимущества, обусловленные уровнем доступа и использования ИКТ. Даже если разрыв в физическом доступе практически преодолен (по крайней мере, в развитых странах), чтобы использовать весь потенциал ИКТ, необходимо достичь определенного уровня владения “цифровым капиталом”» [6, с. 113–114].
Политическая сфера. Цифровое неравенство связано с тем, что «технологически развитое меньшинство» будет влиять на «менее технологически подготовленное большинство» [9, с. 60]. Согласно Д. Луптон, «дифференцированные властные отношения и эксплуатация воспроизводятся в Интернете точно так же, как и на других социальных сайтах, бросая вызов само собой разумеющимся предположениям о “демократической” природе Интернета» [22, p. 30–31]. Интернет создает возможности для формирования общественного мнения, для манипулирования общественным мнением, контроля за поведением индивидов. Мы уже отмечали, что «в цифровом обществе функции архитекторов норм и ценностей выполняют крупные корпорации, осторожно формируя смыслы и культурные коды, как бы подталкивая потребителя к определенной модели поведения. У индивидов появляется ощущение свободы выбора, передвижений, полноты информации, выстраивания жизненных стратегий. Однако эти ощущения иллюзорны, а индивиды еще больше подпадают под власть и контроль государства, крупных корпораций и компаний. Свобода становится еще более иллюзорной, хотя у индивидов есть иллюзия этой ценности» [13, с. 232].
Духовная сфера. Культура, образование, наука. С формированием цифрового общества распространение получает тезис о том, что цифровое общество – это общество знаний, это экономика знаний. В таком обществе знания понимаются как «самоценный товар, капитал, как детерминанта развития общественных отношений, как основной производственный ресурс» [19, с. 189]. Несмотря на разные трактовки концепта «общество знания», многие исследователи отмечают, что в этом обществе необходимо уделять «внимание нравственным аспектам становления нового общества, его ценностным основаниям, проблемам социальной справедливости и образования» [19, с. 190]. Однако, по нашему мнению, Н. Шамардин не совсем прав, характеризуя цифровое общество как общество знания, так как базовой ценностью в цифровом обществе является не получение знаний, а навыки работы с информацией. Т. Лешкевич вносит уточнения: «Значение получает не само базовое знание о мире, а путь к информации» [9, с. 59]. Неслучайно оксфордский словарь английского языка объявил в 2016 году слово «постправда» словом года. С. Фуллер связывает постправду (постистину) с возможностью «отыскать любые данные, какие только захочется, и прийти к любому выводу, к какому только пожелаете» [17, с. 12]. С. Фуллер обращает внимание на то, что сторонники постистины напоминают софистов, желающих ослабить различие факта и вымысла и облегчить тем самым переключение между различными играми знания [17, с. 92–93].
Доступ к большим данным и вычислительным мощностям имеют крупные транснациональные компании, что позволяет этим компаниям влиять на научные исследования. Существует асимметрия в получении, аналитике и интерпретации больших данных между владельцами этих компаний, разработчиками искусственного интеллекта и учеными [12, с. 13; 14, с. 247]. Цели научного исследования с использованием цифрового контента у бизнеса и научного сообщества различны.
Заключение
Таким образом, цифровое неравенство является существенной характеристикой цифрового общества. Несмотря на попытки преодоления цифрового неравенства, оно, будет, видимо, углубляться, создавая разрыв между теми, кто использует цифровые технологии и теми, кто их не использует. Если неравенство доступа к цифровым технологиям преодолевается, то, напротив, увеличивается неравенство в получении и распределении информации, так как информационные ресурсы связаны с крупными компаниями и государственными структурами, контролирующими информационные потоки. Цифровое неравенство приводит к появлению цифрового капитала, способного конвертироваться в другие виды капитала, а также трансформировать онлайн активность в офлайн достижения. Дальнейшие социально-философские исследования цифрового неравенства должны быть направлены на выявление особенностей цифрового неравенства в сравнении с другими формами социального неравенства, на изучение негативных последствий цифрового неравенства для развития личности и общества в целом. Социально-философский анализ цифрового неравенства также предполагает дальнейшее уточнение, определение таких понятий, как «цифровое неравенство», «цифровая справедливость», «цифровой капитал», «цифровые блага» (вступая в дискуссию с другими понятиями и идеями, содержащимися, например, в теории капитала П. Бурдье), а также изучение взаимосвязи и взаимозависимости данных понятий.
1 Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.
About the authors
Svetlana I. Platonova
Udmurt State Agricultural University
Author for correspondence.
Email: platon-s@bk.ru
ORCID iD: 0000-0003-2145-2041
Doctor of Philosophy, Associate Professor, Professor of the Department of Social and Humanitarian Disciplines
Russian Federation, IzhevskReferences
- Bourdieu, P. (1998) [Structure, habitus, practice]. Zhurnal sociologii i social’noj antropologii [The journal of sociology and social anthropology]. Vol. 1. No 2, pp. 44–59. (In Russ.).
- Bourdieu, P. (2002) [Forms of capital]. Ekonomicheskaya sociologiya [Economic sociology]. Vol 3. No. 5, pp. 60–74. (In Russ.).
- Vartanova, E. L, Gladkova, A. A. (2021) [Digital divide, digital capital, digital inclusion: dynamics of theoretical approaches and political decisions]. Vestnik Moskovskogo uiversitenta. Ser. 10: Zhurnalistika [Vestnik of Moscow University. Ser. 10: Journalism]. Vol. 1, pp. 3–29. (In Russ.).
- Dobrinskaya, D. E. (2021) [What is the digital society?]. Sociologiya nauki i texnologij [Sociology of science and technology]. Vol. 12. No. 2, pp. 112–129. (In Russ.).
- Dobrinskaya, D. E., Martynenko, T. S. (2020) [Is digital equality possible? («The Digital Divide» by J. van Dijk)]. Sociologicheskie issledovaniya [Sociological research]. Vol. 10, pp. 158–164. (In Russ.).
- Dobrinskaya, D. E., Martynenko, T. S. (2019) [Perspectives of the Russian information society: Digital divide levels]. Vestnik RUDN. Seriya: Sociologiya [RUDN Journal of Sociology]. Vol. 19. No. 1, pp. 108–120. (In Russ.).
- Zuboff, S. (2022). Epokha nadzornogo kapitalizma. Bitva za chelovecheskoye budushcheye na novykh rubezhakh vlasti [The age of surveillance capitalism. The fight for a human future at the new frontier of power]. Moscow: Gaidar Institute Publishing House, 784 p. (In Russ., transl. from Eng.).
- Kuznetsova, T. F. (2019) [Digitalization as a cultural value and digital technologies]. Gorizonty` gumanitarnogo znaniya [Horizons of humanitarian knowledge]. Vol. 5, pp. 3–13. (In Russ.).
- Leshkevich, T. G. (2022) [The virtual person and transmitting cultural values to the digital generation]. Voprosy filosofii [The questions of philosophy]. Vol. 3, pp. 53–63. (In Russ.).
- Michon, E. V. (2021) [Digitalization of medicine and potential threats to regional healthcare]. Rossiya: tendencii i perspektivy razvitiya. Ezhegodnik [Russia: trends and prospects of development. Yearbook]. Moscow: INION RAN Publ. Is. 16. Part 2, pp. 681–683. (In Russ.).
- Orekhov, A. M., Chubarov, N. A. (2024) [Digital Inequality and Digital Justice: Social-philosophical Aspects of the Problem]. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Filosofiya [RUDN Journal of Philosophy]. Vol. 28. No. 1, pp. 260–272. (In Russ.).
- Platonova, S. I. (2020) [The fourth paradigm of scientifi c research and social sciences and humanities]. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology]. Vol. 23. No. 3, pp. 7–24. (In Russ.).
- Platonova, S. I. (2022) [Big data and social control in everyday life]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Filosofiya. Psihologiya. Pedagogika [Bulletin of the Udmurt University. Philosophy series. Psychology. Pedagogy]. Vol. 32. No. 3, pp. 228–234. (In Russ.).
- Plotichkina, N. V. (2020) [Media mythology of the social in the contemporary society]. Vestnik RUDN. Seriya: Sociologiya [Vestnik of RUDN. Series: Sociology]. Vol. 20. No. 2, pp. 239–251. (In Russ.).
- Rheingold, H. (2006) Umnaya tolpa: novaya social’naya revolyuciya [Smart Mob: A new social revolution]. Moscow: FAIR-PRESS Publ., 416 p. (In Russ., trans. from Eng.).
- Smirnov, A. V. (2021) [Digital Society: Theoretical Model and Russian Reality]. Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i social’nye peremeny [Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes]. Vol. 1, pp. 129–153. (In Russ.).
- Fuller, S. (2021) Postpravda: Znanie kak bor’ba za vlast’ [Post-Truth: Knowledge as a Power Game]. D. Kralechkin; A. Smirnov (Ed). Moscow: High school of Economics Publ., 368 p. (In Russ., transl. from Eng.).
- Shabashev, V. A., Shcherbakova, L. N. (2016) [Trends in digital equality/inequality in contemporary world]. Sociologicheskie issledovaniya [Sociological research]. Vol. 9(389), pp. 2–12. (In Russ.).
- Shamardin, N. N. (2015) [«Knowledge Society»: a philosophical and methodological critique of the concept]. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filosofiya. Sociologiya. Pravo [Scientific Vedomosti of Belgorod State University. Series: Philosophy. Sociology. Law]. Vol. 14(211), pp. 185–192. (In Russ.).
- Schwab, K. (2016) Chetvertaya promyshlennaya revolyuciya [The fourth industrial revolution]. Moscow: Eksmo Publ., 285 p. (In Russ., transl. from Eng.).
- Castells, M. (2000) The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy. Society and Culture. Vol. 1. United Kingdom: Blackwell Pub., 594 p. (In Eng.).
- Lupton, D. (2014) Digital Sociology. N. Y.: Routledge, 2014, 230 p. (In Eng.).
- Mau, S. (2019) The Metric Society: On the Quantification of the Social. Cambridge, MA: Polity Press, 200 p. (In Eng.).
- Negroponte, N. (1996) Being Digital. N.Y.: Vintage Books, 255 p. (In Eng.).
- Ossewaarde, M. (2019) Digital Transformation and the Renewal of Social Theory: Unpacking the New Fraudulent Myths and Misplaced Metaphors. Technological Forecasting & Social Change. Vol. 146, pp. 24–30. –https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.05.007. (In Eng.).
- Ragnedda, M. (2018) Conceptualizing Digital Capital. Telematics and Informatics. Vol. 35. Is. 8, pp. 2366–2375. – https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.10.006. (In Eng.).
- Thrift, N. (2005) Knowing Kapitalism. London: SAGE Publications Ltd, 264 p. (In Eng.).
- Van Dijck, J., Poell, T., Waal, M. de. (2018) The Platform Society: Public Values in a Connective World. Oxford: Oxford University Press, 226 p. (In Eng.).
- Van Dijk, J. (2020) The Digital Divide. Cambridge: Polity Press, 208 p. (In Eng.).
Supplementary files