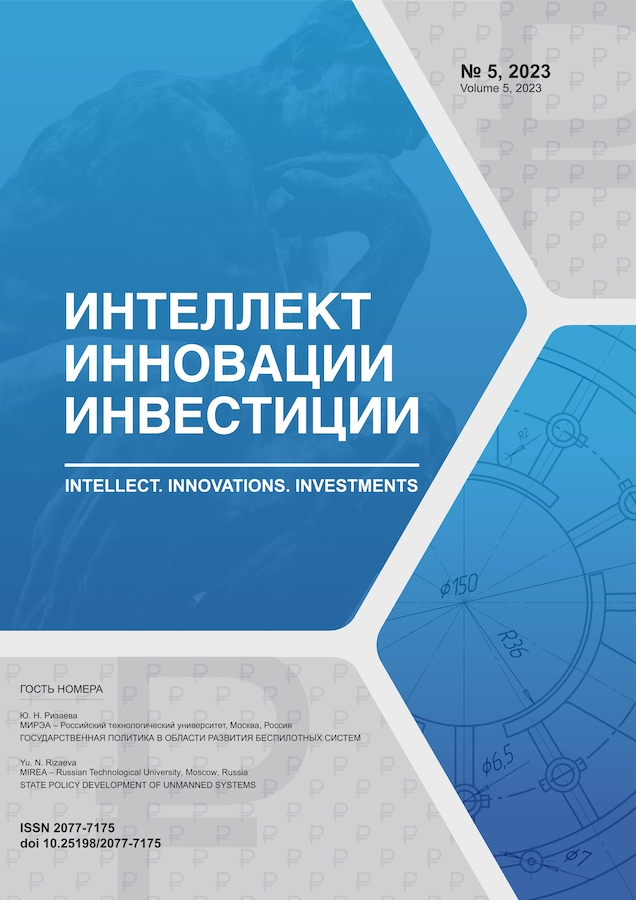К проблеме взаимосвязи христианского и эволюционного подходов в понимании антропогенеза
- Авторы: Казаков Е.Ф.1, Грицкевич Т.И.1, Логунова Л.Ю.2
-
Учреждения:
- Кемеровский государственный университет
- Новосибирский государственный университет экономики и управления
- Выпуск: № 5 (2023)
- Страницы: 111-120
- Раздел: Философские науки
- URL: https://journal-vniispk.ru/2077-7175/article/view/287099
- DOI: https://doi.org/10.25198/2077-7175-2023-5-111
- ID: 287099
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассматривается проблема соотнесения христианского и научного взглядов на возникновение человека, интегрирующим звеном между которыми может выступить христианская философия. Исходным для этого предстаёт положение «философии всеединства» об обретении целостного знания через синтез религии, науки и философии. Используются историко-генетический и сравнительно-исторический методы, позволяющие не только соотнести этапы формирования человека (и их трактующие концепции), но и показать их взаимосвязь. Прежде всего, человек есть душа, поэтому антропогенез предстаёт как душегенез.
С точки зрения христианства, Бог создал человека совершенным, но, в результате грехопадения, он теряет своё совершенство, одевается в «природные одежды», становится смертным. Этот послеэдемский человек и может быть определён исходной ступенью антропогенеза. Причиной, актуализировавшей возможность и потребность духовной и телесной эволюции, был сохранившийся в нём образ Бога и память о потерянном рае. Совершенствование души находит выражение в усложнении мыслительных процессов, актуализации чувства красоты, религиозных и моральных представлений. Совершенствование тела находит выражение в оформлении «гоминидной триады», усложнении мозга, развитии моторики руки. Homo habilis можно считать той ступенью грехопадения, с которой начинается восхождение в первозданное состояние (антропогенез). На ступени homo habilis и homo erectus душевное совершенствование выражается опосредованно, через телесное совершенствование.
Оформление «гоминидной триады» свидетельствует об усложнении мыслительных и волевых процессов. На ступени homo sapiens и homo sapiens sapiens (кроманьонец) душевное совершенствование выражается уже в непосредственном виде: появление анимизма, представлений о бессмертии души, табу. В послеэдемской истории борются две противоположные линии: восхождение в рай и продолжающееся отдаление от него. Последняя находит выражение в нарушении моральных норм, в конфликтах, приводящих к травмам и жертвам, в жестокости, кровной мести, каннибализме. Противоборство эдемского и падшего происходит и внутри человека: между первозданным и «потемневшим» планами его души. Характерная для предистории и истории интенция человека к совершенству (совершенному знанию, справедливости, красоте) могла быть заложена в него только Совершенным Творцом.
Антропогенез предстаёт, прежде всего, как душегенез. Становление человека есть постепенное «собирание» его души; что соотносимо с растянутым на сотни тысяч лет «вдыханием» Богом души в тело. С актуализацией высших планов души (разум, мораль, чувства красоты и любви) душегенез превращается в духогенез. Духовные качества являются выражением, на человеческом уровне, сущностных характеристик Творца. Актуализация этих качеств знаменует завершение антропогенеза, являющееся необходимым основанием для «возвращения» человека в первозданное состояние.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Проблема соотнесения христианского и эволюционного взглядов на возникновение человека – одна из актуальных в богословско-научных дискуссиях [20; 21; 22]. Эволюционный подход исходит из поступательного развития материи от простого к сложному, понимая антропогенез как часть и продолжение биогенеза, на определённой ступени, выходящего на сверхбиологический уровень (см., напр.: Райт, Р. Бриттен, Б. Свитек; С. В. Дробышевский, А. И. Марков, А. Б. Соколов) [6; 16; 18]. Христианский подход исходит из представления о творении человека Богом сразу в совершенном виде (Быт. 2:7). Ряд находок, занимающих промежуточное положение между обезьяной и человеком, ставят под вопрос последнее утверждение. Ответом на него являются разнообразные попытки интеграции религиозных и эволюционных представлений о появлении человека, которые существуют на протяжении нескольких столетий1.
В христианской традиции, которая и интересует нас в настоящем исследовании, некоторые положения эволюционизма можно найти в трудах Августина Блаженного и Ф. Аквинского2. Идеи теологического эволюционизма развивали представители как западной (Г. Осборн, Т. де Шарден, Ф. Айяла, М. Хеллер), так и русской мысли (В. В. Зеньковский, Н. Н. Фиолетов, А. Мень, А. Кураев, А. И. Осипов, В. Зеньковский, С. Ляшевский). В теологическом эволюционизме акцент делается на исследование проблемы происхождения вселенной, жизни; в настоящей же статье предмет исследования более узок: возникновение именно человека. И эта проблема не вписывается в более широкий контекст (как, например, у Т. де Шардена), а рассматривается как самостоятельная.
В рассмотрении проблемы появления человека авторы исходят из христианской традиции и философско-религиозных представлений, основывающихся на христианстве или близких ему. Особую важность для нас представляет понимание христианской философией антропогенеза как душегенеза; так как, в результате творения «стал человек душою живою» (Быт. 2:7). Сущностью души – мораль (по В. С. Соловьёву, «человек – существо стыдящееся»). Таким образом, в формировании человека важнейшей ступенью является возникновение и развитие морали.
Предметом исследования в статье является возникновение через призму соотнесения христианского и эволюционного подходов. Адекватным предмету исследования является историко-генетический метод, предполагающий выявление причинно-следственных связей при изучении формирования исторических явлений; последовательное обнаружение свойств изучаемой исторической реальности, что позволяет приблизиться к воссозданию реального генезиса изучаемого объекта в его процессуальности. Использован также сравнительно-исторический метод, позволяющий выявить своеобразие этапов формирования человека через выявление их сходства и различий. Данный метод позволяет не просто сравнить различные этапы антропогенеза друг с другом, но и выявить их взаимосвязь, характер перехода от одного к другому. Тем самым, рассматриваемый процесс предстаёт не как «сумма стадий», а как становящееся целое. Сравнительно-исторический метод также даёт возможность соотнести разные подходы к исследованию процесса возникновения человека (христианский и эволюционный, в частности), показав, наряду с различённостью, их взаимосвязь и взаимодополнение. Важнейшим теоретико-методологическим основанием исследования является положение «философии всеединства» (В. С. Соловьёв, П. А. Флоренский, С. Л. Франк) о необходимости постижения целостного мира посредством целостного знания, предстающего единством науки, философии и религии. Проблемой исследования является поиск возможной «точки пересечения» эволюционного и христианского подходов в понимании возникновения человека.
Антропогенез как актуализация образа Бога и памяти о рае
Творение человека так описывается в Библии: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2: 7). Из всех творений только в душу человека вложен образ Божий, в результате чего, его душа «облечена благородием, красотой, великолепием и бессмертием» [5, c. 168]. Бог создал человека совершенным как по телесной, так и по духовной природе [5, с. 167]. «Умалил еси его (человека) малым чим от Ангел, славою и честию венчал еси его. И поставил еси его над делы руку Твоею» (Пс. 8, 6–7).
В настоящее время известны ряд предков человека, существовавших в период антропогенеза (homo habilis, homo erectus и т. д.). Как же объяснить их существование, с христианской точки зрения, если совершенными по телесной и душевной организации их определить нет оснований? Бог сотворил совершенного человека, и пока он пребывал в раю, то таковым и оставался. Но, проявив своеволие, гордыню и непослушание, человек нарушил установленные Богом законы. В результате, душа человека «потемнела», стала «злой» (Быт. 41:8; Прит. 17:22). «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» (Быт. 3:21). Согрешивший человек потерял первозданное совершенство как души, так и тела.
В христианских канонических текстах душа определяется как оживляющее человека сущностное начало, синоним понятия «жизнь» (Быт. 2:7). С точки зрения античной философско-религиозной традиции, душа – это несущий в себе божественное начало «принцип жизни». У Аристотеля, душа – «суть бытия», «принцип жизни и развития», «акт», «причина», «действующее начало для созидания», «цель», «скульптор», «форма» телесного как «материала». «Некоторым образом душа есть всё сущее» [2, с. 139].
По определению В. С. Соловьёва, «тело – это становящая душа» [17, с. 88]. Первозданное тело – это «внутренний момент» душевной жизни, отличающийся от неё лишь меньшей степенью одухотворённости. С точки зрения Максима Исповедника, не только душа находится в теле, но и тело находится в душе [15, с. 96]. Душа – это активное, ведущее, оживотворяющее тело начало, «лепящее» его, в той или иной степени, подобным себе. Будучи причинной доминантой, душа направляет тело, а значит, несёт ответственность за него. Всё, что делает тело, есть воплощение замыслов, волевых усилий, переживаний души. Телесное – следствие душевных процессов, их отображение, поэтому «потемнение», деградация души не может не иметь своим следствием деградацию тела [19, с. 128].
Грехопадение приводит к тому, что душа становится телесной, а тело, теряя одухотворённость, становится природно-организмическим [8, с. 139]. Облачённые в «кожаные ризы» первые люди обрели «звериное естество» и стали смертными. Совершенный (эдемский, первозданный, бессмертный) душевно-телесный человек превращается в несовершенного (послеэдемского, падшего, смертного) телесно-душевного человека. Если эдемского человека можно назвать собственно человеком, то послеэдемского человека можно назвать (относительно его эдемской ступени) одновременно и постчеловеком и предчеловеком. В понятие «предчеловек» заложена возможность и направленность восходящей линии развития – к человеку. Грехопадение природу человека меняет достаточно кардинально, эдемский и послеэдемский человек предстают как антиподы. С какого-то момента деградация послеэдемского человека оказывается не единственной линией его эволюции. Одновременно с ней начинает актуализироваться линия совершенствования. Этот момент и можно считать исходной ступенью антропогенеза.
С точки зрения христианского представления, в эволюции человека можно выделить восходящую и нисходящую линии. Начальная восходящая линия развития имела место в раю до грехопадения. В это время Адам возделывает, оберегает Эдем, общается с Богом; вместе с Евой выполняет поручение по наименованию всех творений (для этого первые люди были наделены представлением о мире)3. То есть, происходит развитие знаний и умений первых людей, свидетельствующее об их совершенствовании. Нисходящая линия развития начинается с искушения, вкушения запретного плода с Древа познания. Душа человека «темнеет», теряет своё первозданное совершенство, и как следствие – теряет совершенство его тело.
Единая линия эдемской эволюции человека, в результате грехопадения, раздваивается. «Пришёл к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во мя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин. 1: 11–13). Как видим, есть люди, рождённые от «похоти и плоти» («плоть от плоти») и есть люди, рождённые «от Бога» («дух от духа»). И те и те относятся к одному роду живых существ, внутри которого осуществляется дифференциация: «чада Божии» следуют по линии восхождения, не «чада Божии» – по линии нисхождения. Данное раздвоение может происходить в одной и той же душе, где противостоят первозданный и падший планы [8, с. 49–50].
Грехопадение не становится гибелью первых людей, не приводит к полной потере человеческого облика, тем более, к исчезновению в небытие. Послеэдемский человек не остаётся навсегда на стадии расчеловечивания, неся в себе возможность и потребность совершенствования, спасения души и тела. Падение эдемского человека, достигая определённого предела, актуализирует в нём интенцию восхождения. Тем самым, начинается виток совершенствования, направленный на возвращение на новом уровне в первозданное состояние. Неоднозначность, сложность этого процесса заключается в том, что одновременно осуществляются взаимообратные, противоречащие друг другу, интенции. С одной стороны, происходит совершенствование душевной и телесной организации предчеловека (линия возвращения в потерянный рай). С другой стороны, продолжается деградация душевной и телесной организации (линия выпадения из рая).
В христианской истории, выражением первой линии было, например, обретение Моисеем скрижалей, позволивших отчётливо сформулировать систему моральных ценностей, следование которым вело к спасению. Сюда же можно отнести поиск народом, ведомым Моисеем, страны обетованной; в ходе которого сталкиваются материально-телесные и духовные устремления, и последние, в конце концов, побеждают. Выражением второй линии было убийство Каином Авеля, греховный образ жизни людей, обусловивший Всемирный потоп, гибель Содома и Гоморры. Противоположные линии эволюции не существовали параллельно, а сталкивались, «боролись» (как во внешней, так и во внутренней жизни человека). Восходящая линия, не просто выстаивала в этом противостоянии, но, в итоге, нередко, и побеждала (что нашло выражение, например, в истории Иова, который, несмотря на все беды и искушения, отстоял духовную веру).
В процессе антропогенеза, линия духовного совершенствования находит выражение, например, в актуализации мыслительных процессов, религиозных воззрений, чувства красоты, представлений о бессмертии души, в утверждении моральных норм (справедливости, правдивости, заботы о больных и раненых). Происходит и телесное совершенствование предчеловека, нашедшее выражение, например, в увеличении объёма головного мозга, развитии прямохождения и речевых способностей, уплощении стопы, противопоставлении большого пальца на кисти руки, усложнении её моторики. Духовная деградация проявляется, например, в нарушении моральных норм, жестокости, воровстве, лжи, произволе. Выражением этой тенденции на физическом уровне были конфликты, приводящие к травмам, жертвам, кровная месть, каннибализм по отношению к врагам [13, с. 94].
Человек – единственное существо на земле, способное не только к физической, но и к духовной эволюции. Одной из важных задач является нахождение причины, обусловившей восходящую линию развития от предчеловека к человеку. Около 2,5 млн лет наз. у нашего предка обнаруживаются особенности в строении и поведении, которых у более ранних гоминид не было и не должно было появиться4. Объяснить их мутациями, возникшими в результате воздействия радиации (климатических, космических катаклизмов), в достаточной мере, не удаётся.
Вариант решения этой проблемы и даёт идея религиозно-эволюционного синтеза. Образ Божий в послеэдемском человеке ослаб, «потемнел», но полностью потерян не был. Так, Августин Блаженный пишет об образе Бога, пребывающем как в душе, так и в теле послеэдемского человека [1, с. 240–241]. В человеческой душе сохраняется «память о Боге» [7, с. 348]. Актуализация образа Бога (несущего в Себе благо, истину и красоту), вероятно, и пробудила в предчеловеке соответствующие переживания, размышления и интенции. Их и можно считать той активной духовной причиной, которая обусловила восходящую линию развития.
Отдалившись от высшего мира, послеэдемский человек сохранил «крупицы» памяти о нём. На эту тему рассуждает Б. Паскаль: «Человек – единственное живое существо, которое страдает от того, что он смертен; значит, он помнит, что когда-то был бессмертен… Человек – единственное существо, страдающее от того, что он несчастен; значит, он помнит, что когда-то был счастлив» [14, с. 91]. А когда человек мог быть счастлив и бессмертен? Только лишь в раю. Память о потерянном рае, страдания из-за этого, чувство тоски, желание в него вернуться, вполне вероятно, и вызвали актуализацию сверхтелесных порывов в период антропогенеза.
Образ Бога, образ рая, в душе послеэдемского человека предстают латентным совершенным. «Потемневшее» в душевной и телесной организации, в результате грехопадения, предстаёт актуальным несовершенным. Таким образом, послеэдемский человек на исходной ступени антропогенеза предстаёт биполярным: в нём присутствует единство латентного совершенного (эдемского) и актуального несовершенного (послеэдемского). Эта различённость и обусловила его внутреннюю неравновесность, динамику и направленность развития.
Ступенью грехопадения, которая, в то же время, стала исходной точкой восхождения послеэдемского человека (начала антропогенеза) можно считать первого представителя рода homo – homo habilis (жившего, примерно, 2,5 млн лет наз.)5. На этой ступени проявления духовного, в непосредственном виде, ещё не существовали. Но, как отмечалось выше, опосредованным выражением душевных изменений являются изменения в телесной организации. У homo habilis появились анатомические особенности, которых нет у других гоминид («гоминидная триада»: больший объём черепа, укороченные передние конечности, более выпрямленный позвоночник). Это своеобразие было опосредованным выражением усложнившихся волевых, мыслительных процессов (способности анализировать, выстраивать причинно-следственные связи, моделировать результат действий). Homo habilis начинает целенаправленно раскалывать камень и использовать получавшиеся осколки для определённых целей [9, с. 213]. Мыслительные процессы функционируют на уровне рассудка – способности делать выводы из чувственного опыта. Homo habilis начинает «выбираться» из телесности обезьяны, его облик делает первый робкий шаг к «возвращению» в первозданное состояние. Он уже не ограничивается только интенцией органично «вписаться» в послеэдемскую реальность, а пытается её частично менять.
Данные процессы продолжают развёртываться на ступени homo erectus (1,8 млн лет наз.) [9, с. 212]. Делается следующий шаг к первозданному состоянию: «гоминидная триада» развивается, анатомия становится более очеловеченной. Непосредственные проявления душевной жизни здесь также не обнаружены, но опосредованным выражением её совершенствования являются уже не просто расколотые, а целенаправленно двусторонне обработанные каменные орудия; изготовленные из шкур одежды, используемый для приготовления пищи огонь. Начинает оформляться собственно трудовая деятельность [8, с. 71]. Всё это говорит о дальнейшем усложнении волевой и мыслительной активности. Продолжаются интенции к выходу за границы послеэдемского бытия.
Первые непосредственные свидетельства душевной жизни выявлены на ступени homo sapiens (200–150 тыс. лет наз.) [9, с. 213]. Появляются речь, умение добывать огонь, чувство красоты (создаются узоры на керамике); рождаются первые религиозные представления (анимизм), дающие основание говорить о начале духовного постижения мира [12, р.11]. За реальностью, видимой физическим зрением, начинает открываться мир, наполненный духами и душами. Пробуждается потребность искать духовные первопричины происходящих событий. Анимизм предстаёт «окном», открывающим посюстороннему миру потустороннее бытие; показывающим способ их взаимосвязи.
Сквозь послеэдемский (в основном, материально-телесный) мир начинает «проступать», пока ещё не очень отчётливо, духовный мир. Способность его видеть свойственна уже не рассудку, а разуму, предстающему «оком души» (Мф. 6: 22–23). У homo sapiens актуализируется способность духовного видения и духовного общения, свойственная эдемскому человеку. Память у homo sapiens начинает проясняться, из окутывающего её плотного послеэдемского «тумана» начинает проступать образ разумного первозданного бытия. Создать разумное бытие, вложить разум в душу человека, мог только разумный Творец (см.: Иов. 12: 3; Притч. 2: 6)
Невидимый духовный мир понимается как главный, обуславливающий процессы и взаимодействия материально-телесного мира. Происходит «возврат» к субординации душевного и телесного, свойственный эдемскому миру. Около 70 тыс. лет наз. появляются древнейшие ритуальные захоронения, свидетельствующие о появлении веры в жизнь после смерти [12, с. 55]. У homo sapiens пробуждается память о бессмертии, присущем человеку эдемского мира.
50–40 тыс. лет наз., с формированием homo sapiens sapiens (кроманьонца) завершается период антропогенеза [9, с. 213–214]. Телесный облик «возвращается» в первозданное состояние (отрефлексируют это, намного позже, древние греки, открывшие совершенные «божественные» пропорции человеческого тела) [8, с. 96]. «Возвращение» тела в первозданное состояние не может не быть выражением «возвращения» в это состояние части души.
В данное время оформляются моральные нормы, «запечатывающие» в человеке зверя [4, с. 29]. Табу были как воспрещающего (запрет на инцест, убийство соплеменников), так и разрешающего (пользование общей собственностью, распределение пищи по справедливости) характера. Совсем не случайно, телесное оформление человека и оформление моральных основ его жизни оказываются в соотносимом временном промежутке. С появлением внешних (групповых) норм поведения, обязанностей по отношению к «своим», рождается (как переживание вины из-за их нарушения) чувство стыда6.
В эдемском мире были и воспрещающие нормы (запрет вкушать плод с Древа познания), и разрешающие (наименование зверей и птиц), и обязывающие (оберегание райского сада). Чувство вины и стыда пробуждается у первых людей после вкушения запретного плода (когда они вдруг увидели, что наги, и устыдились этого). Актуализацию моральных переживаний у кроманьонца невозможно «вывести» из природного (падшего) мира, но можно объяснить пробуждением памяти об устройстве эдемского мира.
Человек изначально был создан не только как существо разумное (способное к духовному познанию и общению), но и как «стыдящееся животное» (В. С. Соловьёв), свободное, выбирающее, способное испытывать моральные переживания. Интенцию к справедливости, праведности мог вложить в человека только тот, кто ею обладает (см.: Пс. 7:12; 74:8). Пробуждение моральных переживаний в послеэдемском человеке можно объяснить актуализацией в его душе образа взыскующего справедливости Бога.
Созданный Богом Эдем есть воплощение совершенной красоты (см.: Пс. 110:3). Память о ней остаётся в душе послеэдемского человека, начиная актуализироваться на ступени homo sapiens, и обретая отчётливость у homo sapiens sapiens. 35–30 тыс. лет наз. он начинает изготавливать разнообразные украшения (это уже не только обереги, но и «красота ради красоты»); рождаются настоящие шедевры первобытной живописи [3, с. 165]. Один из них – «Пасущийся олень» (пещера Фон же Гом, Франция), рога которого изображены в виде полумесяца. Таких рогов у оленя быть не может, но с ними он становится гораздо совершеннее. Человек видит красоту окружающего мира, восхищается ей, но… ему мало этой красоты; и он начинает привносить дополнительные её степени.
Чувство недостаточности красоты послеэдемского мира могло появиться только в том случае, если в душе человека сохранилась память о совершенной красоте райского мира. Душа не видит этой красоты в окружающем мире и у неё рождается чувство тоски. А из тоски появляется желание вернуться в первозданный мир или воссоздать его подобие на земле. Привнося в послеэдемский мир новые степени красоты, человек начинает его «возвращение» в рай. Душа его имеет надмирную природу, она – не только от мира сего, но и, в важной своей части, «соткана» из первозданного бытия, стремящегося к восхождению из латентного состояния в проявленное.
В это же время, человек пытается представить душу не только в виде посюсторонних явлений (дыхания, тени), но и в виде фантастической женщины-птицы [11, c. 25]. Возникает чувство, что душа прилетела из какой-то иной реальности, память о которой пробудилась в ней, актуализировав желание вернуться. Изображая «палеолитических Венер», кроманьонец подчёркивал родотворное начало женского тела (см., напр., «Виллендорфская Венера», Австрия). Полностью выбивается из этого ряда «Девушка, собирающая мёд» (пещера Арана, Испания, 10 тыс. лет наз.) [9, с. 214]. Её, вовсе не материнский, а девичий облик, отличается певучестью, грациозностью, возвышенностью. Так нарисовать девушку мог только влюблённый в неё художник (красиво то, что любимо). Вероятно, в слове человек выразить полноту чувств ещё не мог, но он смог это сделать в рисунке. Возможно, здесь мы видим первое признание в любви, свидетельство пробуждения этого чувства в его духовной составляющей. Сотворённый Богом мир был наполнен любовью, ведь Бог и есть Любовь (1 Ин. 4:8-9). Пробуждением в душе человека памяти о наполняющей Эдем духовной любви, и можно считать актуализацию этого чувства на завершающем этапе антропогенеза.
Заключение
Проведённое исследование даёт основание утверждать, что становление послеэдемского человека – не «точка», а процесс, растянутый примерно на 2,5 млн лет. На протяжении этого периода человек постепенно «собирается», как будто из «пазлов». Выстроенная последовательность этого «собирания» исходит из имеющихся на настоящий момент артефактов, поэтому не является окончательной и безусловной. Генезис человека – это «построение», прежде всего, его души.
Становление послеэдемского человека, как бы, повторяет стадии творения человека Богом. Вначале актуализируются собственно человеческие признаки тела («гоминидная триада» у habilis); лишь косвенно мы можем говорить, что они являются выражением актуализации и усложнения мыслительной активности, образа жизни в целом. На уровне sapiens тело, в основном, «останавливается» в своём развитии. И «эволюционный импульс» переходит уже, со всей очевидностью, к душе (усложняется мыслительная активность, появляются чувство красоты, анимизм, представления о потусторонней жизни, искусство, мораль и чувство любви).
Как будто, повторяется, растянутый на сотни тысяч лет «выдох» Бога: душа постепенно входит в тело, от самых простых своих состояний (собственно, душевных) – ко всё более сложным (духовным). Вначале антропогенез предстаёт, преимущественно, как телогенез, затем – как душегенез. Собственно человек оформляется тогда, когда актуализируются высшие уровни его души (разум, мораль, чувства красоты и любви), предстающие выражением, на человеческом уровне, Божественной сущности. Душегенез, в основном, завершается 30-10 тыс. лет назад, именно к этому периоду и можно отнести становление предчеловека в человека, а значит, начало собственно человеческой истории.
Предистория и история человека – это стремление (не всегда отрефлексированное) вернуться в рай. Первозданное в душе стремится в рай небесный, «потемневшее» – в рай земной (представляемый как «золотой век», «утопия», «город солнца» и т. д.). Обе эти интенции говорят о неудовлетворённости существующим, а значит, дают основание предположить запечатлённость образа более совершенного (нередко, в искажённом виде) мира в душе.
Рай земной – это рай для тела и телесной души, он оформился ещё в дохристианских сказках о «тридевятом царстве», где нет голода, старости, смерти (потому что есть скатерть-самобранка, живая и мёртвая вода, молодильные яблоки). Кажется, что дольний рай должен быть «дверью» в рай горний. Но, если с «потемневшей» частью души, «потемнела» вся душа, весь человек (и «око духа» померкло), тогда земной рай представляется достаточным, единственно возможным. В этом смысле, земной рай предстаёт не только противоположностью небесного, но и препятствием в стремлении к нему, симулякром, уводящим от подлинного (с христианской точки зения) бытия.
В человеческой душе запечатлён образ всесовершенного Бога, отсюда – её стремление к бесконечному совершенствованию. В отличие от всех других существ, человек стремится познать не только среду обитания, но весь мир: далёкое и близкое, важное и неважное, полезное и вредное, реальное и иллюзорное. Он – вечный максималист, страдающий от своих неутолимых желаний, но не способный их отменить. Он никогда, в полной мере, не удовлетворён ни прошлым, ни настоящим, а устремлён в теряющееся вдали светлое будущее (или прошлое). Это стремление выходит за рамки целесообразности и полезности, в соответствии с которыми устроен послеэдемский мир.
Человек есть «середина между ничто и всё» [14, с. 120]. В нём заложено абсолютное потенциальное, стремящееся стать абсолютным реальным. Если в эдемском человеке содержится почти что всё, то в падшем – почти что ничто. Предистория и история человека – это восхождение от абсолютного потенциального к абсолютному реальному, от ничтошности ко всёшности (с одновременной интенцией нисхождения в обратную сторону) [10, с. 162]. «Стремление человека к совершенному счастью может удовлетворить только Совершенный Творец» [14, с. 121]. Интенция человека к всёшности (всезнанию, всесчастию, всесправедливости, всемогуществу, всесовершенной красоте) есть актуализация пребывающей в его душе интенции к Богу, который только и есть Всё.
Археология, палеоантропология, лингвогенетика открывают всё новые артефакты, позволяющие уточнять различные аспекты антропогенеза. Поэтому предложенная концепция не ставит «последнюю точку» в его изучении, но задаёт одно из направлений анализа. Проблема антропогенеза является междисциплинарной, поэтому дальнейшее её исследование требует интеграции различных научных изысканий. Перспективным может быть более широкий контекст, включающий антропогенез в космогенез (в его научной и христианской версиях). Эвристический потенциал имеет проблема незавершённости антропогенеза, его продолжения (в каких-то аспектах) до настоящего времени. Актуальна проблема одновременного «собирания» и «потери» человеческого в человеке (образа Бога в нём), учитывая вхождение в стадию постчеловека.
1 Гоманьков А. В. Как писать историю мира? Теория эволюции, креационизм и христианское вероучение // Журнал Московской патриархии. 2010. – № 9. – С. 82–89.
2 Ватикан признал теорию Дарвина. – URL: https://lenta.ru/news/2009/02/11/vatican/ (дата обращения: 08.03.2023).
3 Харпалева Н. Адам и Ева: что случилось с ними в раю // Фома. – 2022 7 декабря. – URL: https:// foma.ru/adam-i-eva-chto-sluchilos-s-nimi-v-raju.html (дата обращения: 08.03.2023).
4 Оксфордская иллюстрированная энциклопедия: в 9 т. – М.: Весь мир, Инфра-М, Oxford University Press, 2000. – Т. 3. Всемирная история с 1800 года и до наших дней/ред. Гарри Джадж. – 408 с.
5 Оксфордская иллюстрированная энциклопедия: в 9 т. – М.: Весь мир, Инфра-М, Oxford University Press, 2000. – Т. 3. Всемирная история с 1800 года и до наших дней/ред. Гарри Джадж. – С. 93.
6 Данилова Ю. Н. Возникновение вины и стыда в архаичных и древних культурах // Вестник Курганского государственного университета. – 2016. – № 1. С. 50–53.
Об авторах
Евгений Фёдорович Казаков
Кемеровский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: kemcitykazakov@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0902-0513
доктор культурологии, профессор кафедры философии и общественных наук
Россия, КемеровоТатьяна Игоревна Грицкевич
Кемеровский государственный университет
Email: taigree@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-6479-504X
доктор философских наук, профессор кафедры философии и общественных наук
Россия, КемеровоЛариса Юрьевна Логунова
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Email: vinsky888@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-8417-913X
доктор философских наук, доцент, старший научный сотрудник Междисциплинарной научной лаборатории социально-гуманитарных проблем транзитивного общества
Россия, НовосибирскСписок литературы
- Аврелий Августин. О Троице. – Краснодар: Глагол, 2004. – 216 с.
- Аристотель. Сочинения в 4 т. – М.: Мысль, 1975. – Т. 1. – 550 с.
- Гроссе Э. Происхождение искусства. – М.: Мысль, 2011. – 304 с.
- де Вааль Франс Истоки морали. – М: Альпина нон-фикшн, 2014. – 295 с.
- Духовные рассуждения и нравственные уроки Схиархимандрита Иоанна Маслова / Под ред. Н. В. Маслова. – Москва: Самшит-издат, 2011. – 816 с.
- Дробышевский С. В. Достающее звено. Книга 2. Люди. – М.: Corpus, 2023. – 592 с.
- Иванова Е. В. Теологичность памяти в христианской антропологии Августина // Христианское чтение. – 2016. – № 6. – С. 341–349.
- Казаков Е. Ф. Душа европейского человека. – Кемерово: изд-во КемГУ, 2012. – 463 с.
- Казаков Е. Ф. Проблема начала истории // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. – № 1–2 (61) – С. 211–215. – EDN: TOLBMH.
- Казаков Е. Ф. Человек между «всё» и «ничто» // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. – № 4–2. – С. 160–164. – EDN: VAUFXP.
- Кормин Н. А. Онтология эстетического. – М.: Наука, 1992. – 117 с.
- Матюхина Ю. А. Мировые культы и ритуалы. Могущество и сила древних. М.: Рипол Классик, 2011. – 304 с.
- Пасешниченко И. С. О природе возникновения морали (источники формирования нравственности) // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. – 2010. – № 4(158). – С. 91–96. – EDN: MUCJKB.
- Паскаль Б. Мысли. – М.: Азбука, 2022. – 352 с.
- Преподобный Максим Исповедник: Полемика с оригенизмом и моноэнергизмом. – М.: изд-во О. Абышко, 2014. – 672 с.
- Свитек Б. Кости: скрытая жизнь. – М.: Бомбора, 2019. – 304 с.
- Соловьёв В. С. Чтения о Богочеловечестве. – М.: Рипол Классик, 2018. – 382 с.
- Соколов А. Б. Странная обезьяна. – М.: Альпина нон фикшн, 2021. – 576 с.
- Франк С. Л. Предмет знания. Душа человека. – СПб.: Наука, 1995. – 656 с.
- McClellan III J.E., Dorn H. (2006) Science and Technology in World History: An Introduction? Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 311 р.
- Gavrilov E. O., Gavrilov O. F., Kazakov E. F. Metamorphoses of religion and the human in the modern world // Smart Innovation, Systems and Technologies. 2019. Т. 139. P. 716–724.
- Gritskevich T. I., Zolotukhin V. M., Kazakov E. F. Sociocultural grounds for transforming the concept of «man without essence» // Smart Innovation, Systems and Technologies. 2019. Т. 139. С. 743–751.
Дополнительные файлы