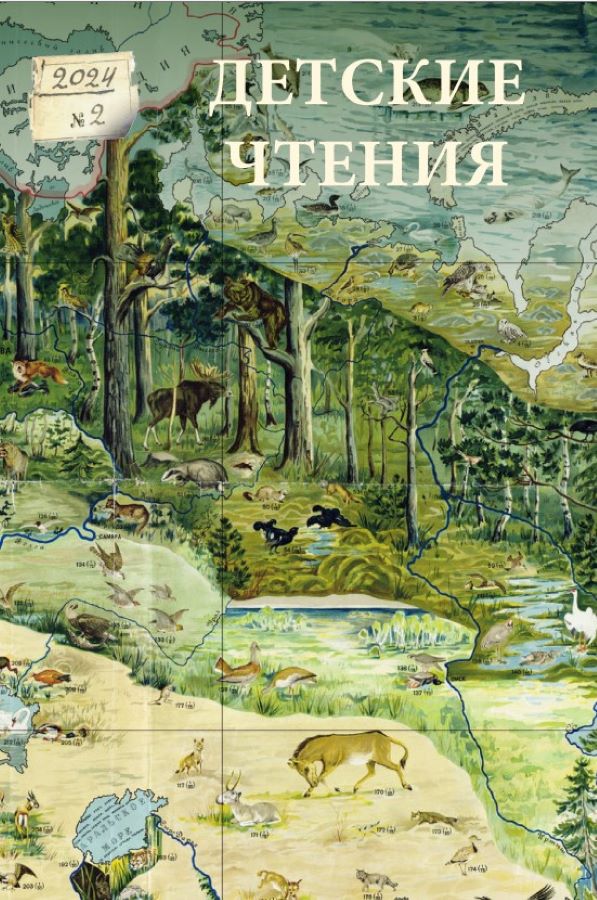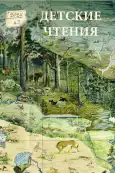«Striving for world knowledge»: Discussions on children’s geographical literature from the last third of the 18th to the first third of the 20th century
- Authors: Dimianenko A.1, Kazakova E.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 26, No 2 (2024)
- Pages: 9-32
- Section: ARCHIVE
- URL: https://journal-vniispk.ru/2304-5817/article/view/280615
- DOI: https://doi.org/10.31860/2304-5817-2024-2-26-9-32
- ID: 280615
Cite item
Full Text
Abstract
In the introduction to the «Archive» section, a retrospective review of critical reviews concerning travel literature, guidebooks, popular science literature on geographical themes, as well as educational aids on regional studies and maps, is proposed. The aim of the article is to present the history of the emergence and development of ideas by educators, critics, geographers, and writers about the types of publications and genre forms of travel literature, travelogues, and popular science literature used as material for learning geography. The enlightening nature of this topic prompts critics to discuss various forms of interaction with readers: from visual narratives in maps and globes to the academic presentation of material in descriptions of expeditions undertaken by geographers and travelers. The absence of a conventional definition of geographical literature as a genre creates diverse ways of its interpretation by educators, critics, and scholars, as well as discussions related to defining its audience. In turn, the multidimensionality of geography as a science, encompassing natural science, economic-political, and applied aspects, generates debates around approaches to its study.
Full Text
«География — наука, отвечающая одной из самых всеобщих, самых захватывающих человеческих склонностей: путешествовать» — этими словами начинается рецензия на первый номер географического ежегодника для детей «Глобус» [Агапов 1938, 15]. Так, писатель Борис Агапов определяет географию как самую «человечную» науку, благодаря которой человек получает новое знание и открывает для себя мир. Предложенное Агаповым определение географии буквально связано с мобильностью через освоение пространства человеком — путешествиями. Этот способ познания мира и его присвоения, предложенный рецензентом ежегодника, характерен для целого ряда предшественников, участвовавших в создании литературы для детей и ее оценке. А сама идея воображаемых путешествий по реальным и экзотическим местам всего мира воплотилась в специальном жанре — литературе путешествий, который начинает появляться в детском чтении в конце XVIII в. и стоит у истоков оригинальной литературы для детей, написанной на русском языке.
В дворянской среде путешествие или обучение за границей считалось частью образовательного процесса и маркером будущей успешной карьеры, поэтому обучение наукам о земле и устройстве окружающего мира являлись подготовкой к социализации ребенка. Уроки географии и практические навыки чтения карт были обязательными предметами в образовании будущего гражданина Российской империи [Бокова 2010]. В этом контексте анализ восприятия пространства ребенком изначально был связан с атласами, картами и пособиями по изучению географии. Изучение художественной литературы и оценка текстов географической тематики — явление, получившее развитие только с 1860-х гг. Поскольку для географической литературы появление новых типов изданий и развитие жанровой дифференциации тесно связано с историей идей и представлений о географической науке, то мы будем анализировать статьи критиков, посвященные художественной литературе и учебным материалам, в которых эти идеи формулировались.
География в литературе путешествий и биографиях путешественников
Одна из первых книг, адресованных ребенку, повесть Марии Гладковой «15-тидневное путешествие, 15-тилетнею писанное, в угождение родителю и посвящаемое 15-тилетнему другу» (1810), написана в форме путевого дневника, описывающего путешествие из Москвы в Петербург. В повести впервые в истории детской литературы появляется реальное российское пространство; главная героиня, молодая девушка путешествует с семьей из Москвы в Петербург, чтобы воссоединиться с находящимся в столице отцом, она берет на себя обязательство писать письма «любимому Папиньке» каждый день. Героиней подробно описан маршрут путешествия и остановки, однако повествование Гладковой не фокусируется на красоте природы или особенностях архитектуры, как это принято в сентиментальной повести, а больше сосредоточено на той пользе, которую приносят города и регионы: «...въезжая в Тверскую Губернию видно, что пошва земли оной довольно хлебородна и производит достаточно лен и пеньку, чем жители по удобности водяного сообщения со многими местами торгуют, да и кроме сего торга занимаются они водоходством, ибо в Тверской Губернии протекает Волга... и почитающаяся первою рекою в России не токмо по величине, но и по судоходству» [Пятнадцатидневное путешествие 1810, 22–23]. Писательница убедительно демонстрирует свое знакомство с литературными приемами сентиментализма, опираясь на эпистолярное наследие Н. М. Карамзина и А. Н. Радищева [см. Димяненко 2021], и с интересом наблюдает за укладом жизни людей в незнакомых ей местностях.
Дальнейшее развитие жанра «литературы путешествий» для детей выражалось в дифференциации материалов географической тематики. В XIX в. стали выходить беллетризованные описания путешествий и географических открытий в сериях для детей («Библиотека путешествий мужей знаменитых, как то: Колумба, Кука, Бридона, Турнбулла, Бирона и многих других, в коих описаны занимательные и необыкновенные предметы в природе и жизни человеческой: пер. с нем.: [в 3 ч.]» (М., 1826) и др.), путеводители и научно-популярные издания Л. Ярцовой «Прогулка с детьми по Киеву» (1859), А. Ишимовой «Каникулы 1844 года, или Поездка в Москву» (1846), В. Бурнашева (В. Бурьянов) «Прогулка с детьми по С. Петербургу и его окрестностям» (1838) и «Прогулка с детьми по земному шару» (1936–1937) и т. д.
В анонимной статье «Чтение и литература для юношеского и детского возраста», опубликованной в 1866 г. в «Педагогическом сборнике», в общем ряду литературы, рекомендованной по естественным наукам и истории, в отдельный подраздел выделена и «географическая литература». Перечисляя книжные рекомендации, рецензент отмечает сложившуюся популярность географической тематики, которая выражается в возросшем количестве текстов на книжном рынке и публикаций переделок уже известных взрослому читателю журнальных статей и приключенческих сюжетов в литературе для детей:
Географическая (здесь и далее курсив в источнике — А. Д., Е. К.) литература возросла до чрезвычайных размеров. Простейшие ее произведения составляют описания путешествий, как напр. Гарниша (16 том, 1821–32) и Рихтера (10 том, 1731), отличающиеся педагогическим выбором, но недостаточно хорошо обработанные или еще описания открытий, напр. Кука (обработанное Реденбахером, 3 т. 1847–50), Джона Росса (1844), Джемса Росса (1848), Кена (Экспедиция к северному полюсу. 1859). Вместе с подобными сочинениями, которые поучают и нравственно возвышают читателя изображением действительности и проявлений силы воли, появилась в новейшее время особая, весьма замечательная литература «географических характеристик» (Фогеля, Грубе, Томаса, Венцига, Пютца и др.). Эти характеристики составляют обработанные или непосредственные извлечения из больших сочинений и дают целую галерею географических описаний для юношества, но серьезное внимание, которого достойны многие из этих сочинений, отвлекается другими сочинениями, имеющими целью представить географию в форме романа. Подобная тенденция, заключавшаяся уже в 100 вариациях «Робинзона» Дефо и «Острова Фельзенбурга», в новейшее время обнаруживается целым потоком Робинзонад, путевых приключений на море и суше, панорам, косморам1, путевых картин, картин природы и других сочинений под самыми разнообразными заглавиями. Здесь из всевозможных книг и, большею частью, из сочинений новейших туристов и журнальной литературы, собраны разнообразные картины с религиозным колоритом. Выбирается все самое чудесное, необыкновенное и невероятное и представляется прихотливому вкусу маленького читателяЧтение 1866, 7982.
Рецензентами и критиками педагогических журналов признается несомненная польза от чтения этих книг: сведения об окружающем мире — это базовые знания подрастающего гражданина своего государства. Характерно, что представление критиков о том, реальное, основанное на фактах или выдуманное путешествие совершается в тексте, не имеет значения в контексте получения знаний и извлечения пользы. Так, этнографические исследования «Очерки Печерского края» (1858) и «Очерки Зауральской степи и внутренней или Букеевской орды» (1958–1859), по мнению Аделаиды Симонович (1844–1933), теоретика дошкольного воспитания и основательницы первого детского сада в России и журнала «Детский сад», рекомендуется «читать вперемежку с Майн-Ридом, так как цель ее одна: знакомство со страною, для русского ребенка тем более интересное, что он кое-что да слышал о степях» [Симонович 1869, 57–58]. Вероятно, знакомство читателей с местностью с различных жанровых позиций, по мнению критикессы, позволит представить ее полнее. Фантастический элемент в повести Ж. Верна «Англичане на северном полюсе, приключения капитана Гаттераса», по мнению того же критика, дополняет сведения из географии:
Книга эта полезна не только в отношении сообщения географических познаний, но и тем, что приключения капитана, совершенно безысходное, по-видимому, положение, в котором он часто находится и которое грозит ему погибелью, находчивость его в изобретении средств для спасения себя и своего экипажа, изобретательность, основанная на научных познаниях доктора Клаубани, производят увлекательное и вместе с тем полезное влияние на молодых читателей. Это в своем роде Робинзон Крузо [Там же, 49].
Литературу географической тематики не затронут обвинения в неправдивости и искажении действительности, которые на протяжении всего времени своего существования в детском чтении будут обращены к сказке. Наиболее частые ограничения, относящиеся к географической литературе, были связаны с возрастом читателей. Для одних критиков запрет на чтение географических книг детьми «раннего возраста» обусловлен образовательной незрелостью, отсутствием базовых представлений об окружающем мире: «Езда по Сибири, Пятигорск и подобные требуют знакомства с географией. Очевидно, что помещать их в книги для детей, только что начинающих учится и, значит, незнакомых с географией, совсем нелогично» [Корсаковский 1865, 20]. Критик под псевдонимом Ек. О. в педагогическом журнале «Детский сад», как и критик Корсаковский Гр. 3 в журнале «Журнал для родителей и наставников», обращается к руководителям детского чтения — педагогам и родителям. Помимо того, что родители представляли собой участников книжного рынка, они же принадлежали к воспитывающему классу, вкладывающему деньги в образование своих детей. В этом контексте оценочное отношение экспертов к детской литературе как к прикладному инструменту только усиливалось:
Не говоря уже о том, насколько подобное чтение облегчит ребенку позднейшие серьезные занятия, оно имеет ту хорошую сторону, что научит его вдумываться в явления, происходящие перед его глазами, наблюдать, всматриваться, делать заключения. Знакомство с ближайшим, окружающим миром, с природой, элементарные сведения из физики и естественных наук, доставят ребенку такой запас сведений, что при позднейшем, систематическом изучении, он в состоянии будет усвоить и понять более сложные явления. Но и подобное чтение может принести пользу только тогда, когда оно правильно организовано, т. е. выбор книг безусловно хорош, дети читают с толком, а воспитатель обращает внимание их на все особенно замечательное в книге, объясняет им непонятные слова и выражения и заставляет отдавать отчет в прочитанном. Таким образом ребенок приобретает способность понимать читаемое и сознательно усваивать рассказываемое, а тем самым приготовляется к самостоятельной учебной работе [Ек. О. 1873, 403].
Многие родители... покупают своим детям пустенькие французские сказки и повести, но изящно переплетенные и украшенные уродливыми картинками. Они оставляют без внимания, напр., книгу «Природа и люди» без картинок и в простой бумажной обертке, тогда как первые вопросы дитяти всегда относятся к природе; подобные же вопросы решаются в географии, а не в сказке. Почему же не удовлетворить естественному требованию детского ума? <...> Напротив того, аферисты, зная вкус публики, издают книги, где помещают несколько анекдотов, заимствованных у различных путешественников, и прикрашивают их разными лубочными картинками и красивым переплетом [Семенов 1860, 140].
В других случаях критике подвергается содержательная сторона текста: описание жестокости, смерти, охоты или экзотических обычаев туземцев. Автор рецензии предупреждает, что если пренебречь возрастом восприятия научного знания,
...вместо пользы может произойти вред: маленькие дети начнут бредить страшными рассказами о львах, тиграх и др. диких животных, не понимая значение и роли этих животных во всей природе. Поэтому рассказ не годится также как материал для рассказа маленьким детям [Симонович 1869, 51].
С середины XIX в. репертуар изданий географической тематики непрерывно увеличивался. Это происходило во многом за счет включения в рекомендательные списки книг, написанных не для детей, но адресованных детям рецензентами и критиками. Такой подход сложился благодаря народническому нарративу и был характерен для библиографических пособий, а не педагогических журналов. Исторически закрепленная за детским чтением специфика, выражавшаяся в дидактизме и назидательности, пересекалась с идейной прагматикой конструирования читателя, поэтому во второй половине XIX в. издание книг для массового читателя (крестьянина) отождествлялось с детским чтением и наделялось схожими чертами. В известном трехтомном критическом указателе «Что читать народу?» (1884–1906), подготовленном кружком учительниц Харьковской частной женской воскресной школы, раздел «География и путешествия» представлен учебниками, описаниями России и Европы, путешествиями, этнографическими повестями, художественными описаниями. Еще в вводной статье учительницы отмечают недостаток популярных изданий этой тематики, собственно, для малообразованного читателя:
В общем, книги географического содержания, изданные для народного чтения, поражают необдуманностью плана, бессистемностью сообщаемого и нередко и неверностью. Очевидно, для некоторых составителей книг для народа представляется совершенно достаточным пока собрать в книгу первые, попавшиеся в жизни или книге занимательные, по мнению их, сведения. Что же касается до лучших книг этого отдела, то недостатки их, несоответствие потребностям читателей происходит от недостаточного знания составителями тех, для кого они пишут [Отдел географический 1889, 752].
Общее недовольство материалом для чтения свидетельствует не о недостатке книг на рынке, а о поиске языка для изложения научных сведений при этом понятных массовому читателю. Решением этих задач, по мнению учительниц, должен был стать отказ от приключенческих и фантастических элементов, способных отвлечь и увлечь (курсив наш – А. Д., Е. К.) во время чтения:
Рассказы Майн Рида и Жюля Верна читаются в народной среде детьми и молодежью с таким же увлечением, как и юношеством и детьми достаточных классов. <...> ...следует ли содействовать распространению этих произведений, содержащих гораздо больше вымышленного и несообразного, чем полезных и верных сведений? Ответ должен бы был быть отрицательный, если бы взамен этих «увлекательных» книг мы могли бы дать доступные научные книги, того же содержания. Но их нет пока, а Майн Рид и Жюль Верн в лучших своих рассказах все же дают кое-какие сведения, а главное — пробуждают интерес к чтению путешествий и описаний незнакомых стран [А. К. 1889а, 794].
Методические поиски педагогов имели настолько беспощадный характер, что опале подвергся исконный для детской литературы жанр — травелог:
Изложение географических сведений в виде путешествия детей с заботливо поучающими их взрослыми спутниками — форма, издавна употребляемая авторами книг для детей и юношества. Форма эта, может быть, и представляет некоторые удобства, но зато и отрицательные стороны ее являются очень существенными. Она неизбежно ведет за собой известную отрывочность, поверхностность в сообщаемом, вводит в рассказ отвлекающие от главного, забавные, но малосодержательные разговоры и вставочные эпизоды [А. К. 1889, 793].
Составительницы указателя предлагают оставить художественное и «деловое» [А. К. 1884, III] описание предметов из области географии и этнографии, а также по возможности использовать иллюстрации в качестве дополнительного материала. «Деловой» нарратив был обусловлен «серьезным взглядом на жизнь самого читателя — народа»:
Жизнь для него не наслаждение, а труд и долг, непрерывная борьба с природой, от умения пользоваться которой зависит его благосостояние (это он понимает и умеет отличить ее значение от иных сил, также влияющих на благополучие). Следовательно, ядром описания должно быть изображение этой борьбы, т. е. сведения о том, чем и как кормит себя человек, а затем уже должно следовать описание его нравов, верований, забав и т. д. [А. К. 1884, I–II].
Кроме учебников и пособий по работе с географическими картами, рецензенты советуют обращать внимание на научно-популярные издания об отдельных регионах, беллетризованные биографии путешественников и ученых, описания экспедиций, путевые дневники, а также произведения классиков — сочинения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова. Экспедиционные отчеты и биографии путешественников продолжали рекомендоваться детям в период, значительно удаленный от рецензий кружка учительниц Харьковской школы, — в 1923–1933 в эмигрантском журнале «Русская школа за рубежом», издаваемом при Педагогическом бюро по делам средней и низшей школы за границей. За рубежом книги географической тематики рецензировались преимущественно Е. А. Елачичем, писателем и преподавателем природоведения, химии и немецкого языка в 1-й Русской мужской гимназии в Белграде. Все книги, вышедшие в серии «Путешествия и приключения», в издательстве С. Ефрона рекомендуются в качестве основного или дополнительного материала «ученической библиотеки» [Елачич 1923, 211]. В них описаны экспедиции ученых, мореплавателей, путешественников — С. Гедина, А. Норденшельда, Г. Вегенера и др. Характерно, что в рецензии преимущественно оценивались факты из биографии ученых и их личные качества, в которых подчеркивалась образованность, находчивость, непоколебимое следование собственным принципам, выносливость:
Мужественная фигура Стэнли, никогда не теряющего присутствия духа и бодрости, невольно привлекает к себе симпатию читателя. Интересны и ярки описания могучей тропической природы, нравов и обычаев туземцев [Елачич 1923а, 214].
Помимо ознакомления с оригинальным бытом тибетцев и величием природы этого удивительного горного плоскогорья, интересна также и сама сторона приключений, полных неожиданностей и опасностей. Спокойная, сильная воля, твердая и настойчивая личность самого путешественника оставляет яркое впечатление [Елачич 1923b, 213].
Экипаж с невероятными лишениями и трудностями стал пробираться к югу, но избежали гибели лишь немногие. Описание найденного дневника Де Лонга, который он вел, по-видимому, до последнего дня жизни своей, действительно является удивительным документом величия человеческого духа, и его жутко читать. Вся книга читается с неослабным интересом, и её нельзя не рекомендовать как прекрасное, полезное чтение для учащихся, начиная с четвертого класса. Очень интересны описания скитаний по северу Сибири, в устьях Лены, в дебрях Якутской губернии [Елачич 1923c, 213–214].
Мотивы борьбы с природой, выносливость, преодоление тяжелых условий экспедиций и путешествий, которые ценили и продвигали рецензенты и критики на рубеже XIX–XX вв. в чтении крестьян (Х. Д. Алчевская, Н. А. Рубакин), вновь воплощаются в критике литературы для детей в середине 1920-х гг. Рецензии в педагогическом журнале «Русская школа за рубежом» отражали выбор персоналий из истории географии и этнографии, которые могли бы стать для ребенка примером и образцом для подражания, тех, кто обладал социально одобряемыми личными качествами и ценностями.
Беллетризованные биографии и описания экспедиций прочно закрепились в жанрово-тематическом репертуаре изданий для детей. Так, в 1930 г. в критико-библиографическом журнале «Книга детям» выходит статья А. Кормилиной, посвященная серии «Библиотека экспедиций и путешествий» (БЭП), выпущенная издательством «Молодая гвардия», в которой она подробно анализирует «...путешествия и экспедиции, путевые очерки, заметки путешественников и организаторов экспедиции в разные страны» [Кормилина 1930, 19]. Несмотря на то что критики всё так же яростно отстаивают необходимость тщательной проверки фактов и негодуют из-за ошибок и неверных сведений, подробный анализ каждой книги серии и выводы рецензентки отражают наметившийся перелом в определении специфики книг для детей. Практически все издания из этой серии оцениваются как сложные для восприятия или попросту неинтересные: «...книги БЭП не войдут в детской библиотеке в число ходких, легко читаемых наряду с беллетристикой книг. Ребята берут и будут брать ее как «научную книжку»» [Кормилина 1930, 23]. В общем отношении Кормилина признает неуместность книг научного содержания в детском чтении. Вместо скучных бессюжетных биографий рецензентка предлагает читать другие книги:
...Мак-Ларена, Арсеньева, Скосырева. Все они написаны вовсе не специалистами писателями и не выдающимися художественными дарованиями, но у всех есть общая роднящая их черта — живой темперамент, умелый и зоркий взгляд наблюдателя, который любит то, что он описывает, и умеет передать мягкий, но вместе с тем бодрый лиризм своих переживаний, незаметно вплести его в повествование и тем придать теплоту и живую искренность страницам своих книг. Правда, тонкая поэзия Арсеньева будет доступна лишь очень развитым подросткам, не моложе 14–17 лет, трудна для их самостоятельного чтения и книга Скосырева, но Мак-Ларен заразит их упорной борьбой пионера цивилизации на цветущем, но диком острове, жаждой жизни и новых впечатлений. Отдельно от остальных стоит книга Фольца «Римба». Книга несколько пресыщена лиризмом, местами переходящим даже в философию и намеренную поэтичность отдельных мест. То, что для взрослого читателя может быть особенной прелестью книги, для рядового подростка останется недоступным и загружающим впечатление балластом. Правда, картина безвыходной власти девственного леса (римбы) дана настолько эмоционально убедительно, что книга все же приобретет небольшую группу читателей среди развитых подростков 13–17 лет [Кормилина 1930, 23].
Идея о том, что детям необходима специальная литература, сочетающая в себе черты научно-популярной литературы, вновь возникает при описании выставки детской географической книги, проходившей с 21 марта по 17 апреля 1938 г. в читальном зале Исторического музея. Географ и преподаватель географии в Харьковском университете Николай Измайлович Дмитриев (1886–1957), выступает с неожиданной репликой:
Нашим издательствам есть чему поучиться в этой старине. За двадцать лет революции не было издано ни специальных, ни общих детских энциклопедий. Ребята ждут от Детиздата выпуска специальных энциклопедий (конечно, наряду с общей) [Дмитриев 1938, 48].
В своем обзоре Дмитриев перечисляет издания XIX в., останавливаясь не только на жанровой литературе путешествий и путеводителях, но и подробно описывает карты и пособия для изучения географии в школе. Критик отмечает, что атласы и игры «были первым географическим материалом, знакомившим детей с родиной» [Дмитриев 1938, 48]. Очевидно, что в картах и атласах, так же как и в путеводителях, транслируется не только представление об окружающем мире, но и о социальных и политических обстоятельствах того времени.
География как школьный предмет: учебные пособия и взгляд методистов
Помимо художественной и беллетризованной географической литературы, которая предназначалась для домашнего, семейного или внеклассного чтения, существовала и сфера разного рода учебных пособий, которые должны были обеспечивать преподавание географии в школе. Несмотря на общепризнанную значимость, география на протяжении XIX – начала XX вв. нередко описывается, как дисциплина, обойденная вниманием: «Парадоксом покажется с первого взгляда, если мы скажем, что из всех наук география пользуется в нашем отечестве наименьшим почетом; но это не парадокс» [Ушинский 1958, 270]; «[один] из важнейших и вместе с тем наиболее забытых предметов» [Петри 1892, I]; «Нет предмета более забытого и заброшенного, чем география: никто из тех, кому дана власть вершить судьбу школы, не интересуются ею» [Нечаев 1914, 9].
В первой половине XIX в. подход к изучению географии в гимназиях и училищах преимущественно состоял в заучивании номенклатуры — названий губерний, их городов, перечислении их примечательных особенностей и занятий населения. Такая методика приводила к автоматическому зазубриванию требуемого, причем зачастую в полном отрыве от картографических сведений, не принося пользы и не соотносясь с другими науками. Критически оценивая такую методику, географ и педагог Дмитрий Дмитриевич Семенов (1835–1902) констатировал: «...исключительным достоянием географии осталась по-прежнему одна только голая номенклатура, и вот поле, которое географы принялись усердно разрабатывать, распространяя немилосердно запас собственных имен...» [Семенов 1860, 136]. Школьные учебники географии ориентировались прежде всего на Петербург и Москву. Поскольку инициатива в педагогике по-прежнему исходила из столиц [Лоскутова 2011, 245–246], авторы лучше их знали и имели в виду учеников этих городов. На этом фоне выделялся учебник Ф. Студитского [Студитский 1843], в котором изучение географии «начинается с воображаемого путешествия маленьких читателей, отправляющихся на корабле из Пскова по реке Великой в Балтийское море и далее вокруг света с возвращением домой через Черное море, вверх по Днепру и Западной Двине» [Лоскутова 2011, 244].
Начиная с 1860-х гг. получило развитие так называемое родиноведческое направление в преподавании географии, в рамках которого обучение начиналось со знакомства с родным городом и краем, охватывая все большие территории, а изучение картографических принципов велось поэтапно, чтобы подготовить ребенка к пониманию символического языка карт. Предполагалось, что пространственные представления ученика должны формироваться постепенно, начиная с плана классной комнаты и переходя к окрестностям школы, к городу, уезду, губернии и, наконец, стране. При этом следовало опираться не на специальные знания, а на собственные наблюдения детей. Идеи эти были заимствованы у немецких педагогов, которые ввели в школах предмет Heimatkunde — краеведение. Одним из главных апологетов такого подхода был К. Д. Ушинский, который познакомился с ним, изучая организацию географического образования в немецких и швейцарских школах. Реализовывать эти идеи пытался его современник и друг Д. Д. Семенов: «Основные понятия науки о земном шаре дитя усваивает себе из собственного наблюдения; глаза дают ему бессознательное понятие о том клочке, на котором оно живет. Учение должно ввести в сознание детей этот тесный круг познаний и распространить его» [Семенов 1860, 142]. В своем пособии «Отечествоведение» (1864–1869) он дает очерки бытового и этнографического характера, призванные описать разные регионы империи.
В это же время П. Н. Белоха работает над своим «Учебником географии» (1862–1863), ставшим впоследствии необычайно популярным и множество раз переиздававшимся. Он начинался с раздела «Родиноведение», где описывался Петербург и его окрестности, а также давался план, по которому можно было составить такое описание для любой местности — в зависимости от того, где находились ученики.
С 1870-х гг. начали появляться и пособия по родиноведению для губернских и уездных городов, в которых последовательность знакомства со страной начиналась с того места, где располагались школа или училище [Лоскутова 2011, 248]. Вышли такие издания как «Учебный курс географии Новгородской губернии. (Родиноведение)» (1878) И. П. Можайского, «Город Ростов и его уезд (Опыт преподавания курсов географии для местных училищ)» (1881) А. А. Соколова, «Описание Костромской губернии. Опыт географии губернии для городских училищ» (1885) В. П. Ширяева, «Описание Архангельской губернии для народных училищ (родиноведение)» (1892) В. Белова, «География Владимирской губернии. Курс родиноведения» (1896) И. С. Смирнова.
Целесообразность родиноведческого подхода разделялась многими участниками образовательного процесса. Так, авторы обзора книг по географии «для народного и детского чтения» критикуют формулировки «не имеют ничего замечательного» и «принадлежит к числу незначительных», которыми в тексте пособия сопровождаются упоминания малых городов: «Затрудняемся определить цель таких сообщений. На всероссийское значение могу претендовать, конечно, немногие города; но суть-то не в них, а в росте, изучении жизненных условий именно всех этих незначительных, незамечательных центров жизни» [А. К. 1884, 13]. Составители указателя намекали на отсутствие внимания к городам и населенным пунктам в региональной части России, поскольку в качестве читательской аудитории таких изданий подразумевали крестьян и негородское население.
Републикуемая ниже рецензия Александры Михайловны Калмыковой «С севера на юг» [Калмыкова 1891] на книгу путешественника и специалиста по зоогеографии М. Н. Богданова «Из жизни русской природы» (1889) также исходит из концепции родиноведения, хотя книга не маркируется как пособие по краеведению. Калмыкова призывает родителей и преподавателей знакомить детей с природой страны, устраивая прогулки и путешествия. Зоогеографические очерки Богданова, по мнению рецензентки, заставят читателя «заглянуть туда, где ему, быть может, никогда не удастся побывать», и «возбудят здоровую любознательность — любовь и интерес к жизни русской природы» [Калмыкова 1891, 160]. Ценность рецензии Калмыковой состоит в том, что она фиксирует изменения, произошедшие в освоении пространства детьми. Привычные для детей второй половины XIX в. места — усадьбы и загородные поместья — утрачивают значимость как места знакомства с природой, на смену им приходят «тесные ряды дач» [Там же, 161]. Нельзя не отметить, что в качестве художественного персонажа, объединяющего очерки, Богданов вводит журавля, с высоты птичьего полета показывающего читателю природу тех местностей, над которыми он совершает свой перелет. Калмыковой такая точка зрения представляется неудобной для читателя и делающей рассказ несколько искусственным [Там же, 160]. Однако такой способ репрезентации географической информации станет популярным и поставит эту книгу в один ряд с «Чудесным путешествием Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлеф. Идеи родиноведения реализовывались в краеведческом подходе 1920-х гг. и продолжили существовать и в 1930-е гг. [см. Дорогутин 1926; Радченко 1928; Краеведение 1930; Эрдели 1939].
На протяжении всего рассматриваемого периода одним из вопросов, который обсуждался методистами, была дефиниция самого предмета: Ушинский в попытках сформулировать на русском суть Heimatkunde конструирует слово «окрестнография» [Ушинский 1906, 82], с развитием идеи изучения родного края появляются термины «родиноведение», «отчизноведение», «отечествоведение», «краеведение». Терминологическая дискуссия продолжилась и в 1920" е, поддерживаемая работами, в которых география трактовалась довольно широко [Аржанов 1918; Семенов-Тян-Шанский 1925]. В числе главных достоинств хорошего географического пособия авторы перечисляют достоверность фактического материала, отсутствие сухости в изложении, хороший слог, занимательность и разнообразие, наличие иллюстраций, а целью такой книги видят «возбуждение любви к науке» [Семенов 1860, 140] — такие требования и дальше будут применяться к научно-популярной литературе.
Дискуссия о методиках преподавания географии детям на рубеже XIX–XX вв. велась преимущественно в среде крупных ученых и университетских профессоров. В методических статьях обсуждается и разрабатывается наиболее целесообразный подход к преподаванию географии, балансирующий между «статистико-административным государствоведением» с историческим уклоном и естественнонаучным. Кроме того, их общая мысль состоит в том, что картографические пособия не могут быть универсальными — для обучения нужны специальные карты и постепенное знакомство ученика с «картографической азбукой».
В раннесоветский период краеведческое направление продолжили развивать в своих работах ученые-географы и методисты — С. П. Аржанов «Методика географии» (1918), Я. И. Руднев «География в школе» (1925), Ю. М. Шокальский «Из истории географии» (1926) и др., зарекомендовавшие себя прежде. Большинство проблем, активно обсуждавшихся в дореволюционную эпоху, остались и в поле внимания авторов первых советских десятилетий.
Познавательное и развлекательное: пособия для игр и учебы
Поиски альтернативных форм пособий, которые сочетали бы в себе не только содержательную, информативную составляющую, но и развлекательную, велись параллельно с появлением новых жанровых форм. География была одной из самых популярных тем для познавательных игр начиная с XVIII в. [см. Костюхина 2013]. В качестве одного из ранних примеров можно привести описание домашней географической игры, организованной, судя по всему, силами самих участников. В «Детском чтении для сердца и разума», первом журнале для детей, издаваемым Н. Новиковым, публикуется переписка отца с сыном, отправленным в деревню для получения знаний об устройстве поместья и обучению наукам. Там герой встречается со своими братьями, которые предлагают ему игру по поиску городов на географической карте:
Пришедши в ту комнату, где надеялся я найти карты, брат мой подал мне несколько ланд-карт. <...> Он принес мне коробочку с подклеенными бумажками, на которых написаны были имена разных провинций и городов. — Из этой коробочки, говорил он, — вынимаем мы иногда по нескольку билетцов, и батюшка заставляет каждого из нас приискивать на карте тот город, которого имя он вынял (так! — А. Д., Е. К.) и после что-нибудь о нем рассказывать [Переписка 1785, 123–124].
Игровой метод постепенно проникает в обучение географии. Один из форматов географических игр восходил к игральным картам, которые к вошли в досуговый обиход. В 1799 г. известным путешественником и географом А. П. Шелиховым были изданы карты «В пользу и забаву малолетним детям». В прилагаемом к колоде описании её автор сообщал, что для него «побудительною причиною было то, чтоб чрез забавное препровождение времени могли дети играючи оными затвердить как города и реки, так и краткое топографическое описание Российского Государства» [Миролюбова 2008, 105]. На картах изображены условные символы крупных городов каждой из губерний и полуфигуры, держащие в руках картуши с описанием губерний.
В 1829 г. К. М. Грибанов выпускает колоду игральных карт под названием «Географические карты России с изображением гербов, костюмов и назначением верст от двух столиц для пользы юношества» [Грибанов 1829]. На картах был изображен герб губернии, перечислены ее крупнейшие города, а также изображена фигура в традиционной для этой губернии одежде. На обороте карт располагалась схематическая карта губернии с указанием расстояния до Санкт-Петербурга и Москвы, обозначением соседних губерний, указаны гидрографические объекты и транспортные пути. Хотя на лицевой стороне каждой карты была указана масть, это было скорее рудиментом такого формата, потому что для настоящей азартной игры эти карты не годились — их «рубашки» не были одинаковыми, а количество превышало стандартную колоду. Но в 1856 г. Грибанов издает усовершенствованную версию таких карт в виде «Альбома географических карт России, расположенных на 80 листках по бассейну морей, или замечательный и поучительный детский гран-пасьянс» [Грибанов 1856]. На этих картах уже не было обозначения масти, и они лишь условно напоминали игральные и выполняли исключительно просветительскую функцию. Каждая карточка содержала сведения об одной из административных единиц Российской Империи, дополненные изображениями герба, ландшафтных видов, характерных народных костюмов и основных занятий населения. Вероятно, одно из изданий-предшественников этих карт описывает в упомянутом выше обзоре выставки Н. И. Дмитриев, говоря о нем как о курьезе.
Географические игры призваны были стать одним из инструментов, объединяющих в себе просветительскую и развлекательную функцию, о чем свидетельствовали их названия: «Географическая игра или новейший способ самим собою научиться всеобщей географии» (1816), «Новейшая географико-историческая игра или первый курс географии и истории» (1824), «Новейшие географические карты, служащие как для обыкновенного играния, так и для легкого и забавного... изучения географии» (1814) [Обольянинов 1916].
Как и в случае с педагогическими идеями, образцы географических игр нередко заимствовались: «По моделям немецких и французских «почтовых игр» были сделаны игры под названием «Путешествие по России» (игровая схема позволяла легко менять «начинку», подставляя разные географические пункты)» [Костюхина 2013, 196]. Стремясь привнести новизну в формат таких игр, издатели старались разнообразить игровые схемы и делать игры многооадресными, предназначенными для использования «в компании взрослых, жаждущих знаний, в учительской деятельности и для развлечения с детьми» [Там же, 230].
Помимо разнообразных карт издавались, например, складные глобусы земного мира и небесной сферы. Они были составлены из карт, каждая из который разрезана на 6 полос, соединенных верёвочным механизмом, придающим им объемную форму [Кротов 1849]. Они сопровождались пояснительной брошюрой, рассказывающей об основных понятиях географии [Кротов 1849a]. Складной глобус, который на выставке 1938 г. стал «предметом самой острой зависти всех его обозревавших» [Дмитриев 1938, 48], — это «Новоизобретенный складной небесный глобус для детей, с астрономической при оном географией» [1824], который описан как «роскош.[но] грав.[ированный]» «на шелковинках» [Обольянинов 1916, 20] — то есть на лентах, которые позволяли его собирать.
Интерес к подобного рода игровым пособиям сохранился и в советскую эпоху. М. Горький в своих заметках описывает две идеи для детских географических игр, основанных на принципе пазла — сборной модели: «Сделать из папье-маше глобус, разрезать его сообразно пластам... пород... Складывая из кусков шар, ребенок незаметно для себя ознакомится со строением земли и ее богатствами»; «Дать на толстом картоне карту Союза, показать на ней крупнейшие реки, лесные массивы, горные хребты, крупнейшие города и промстройки, ярко раскрасить ее и фигурно разрезать на куски. Собирая эти куски в целое, ребенок получит весьма точное представление о географии своей страны» [Горький 1939, 1].
Подобные игры воплощали идею о наглядности как необходимом атрибуте географических пособий, а кроме того — идею интерактивности, которая, хотя и не была сформулирована эксплицитно, несомненно, была частью представлений о «полезном и забавном».
Заключение
Как показывают материалы, собранные в архивном блоке, представления критиков о том, какой должна быть географическая литература для детей, на протяжении XIX в. и первой трети XX в., имеют общую прагматику: географическая литература рассматривалась как инструмент получения новых знаний об окружающем мире. В педагогических журналах и указателях рецензии на книги географической тематики традиционно располагались вместе с исторической прозой, которая, в отличие от соседнего географического отдела, наделялась пометкой «для детского чтения». Просветительский аспект географической тематики усиливал размывание границ адресации, поэтому значительная часть рецензий посвящена определению возраста читателя этой литературы. Важно также и то, что просветительские задачи связывались не с содержанием литературы, а с вопросами оформления издания, доступности изложения материала и вовлечения детей в читательский процесс. Традиция, сложившаяся вокруг изданий по географии, предполагала анализ художественной литературы в одном ряду с учебными материалами. Признавая отсутствие необходимой формы изложения материала для ребенка-читателя, критики предлагали включать в детское чтение научно-популярные издания, путеводители, приключенческие повести, путевые дневники, описания экспедиции, географические карты, которые не были адресованы детям.
Проблема дефиниции географии как области знания и учебной дисциплины порождала и разнообразие подходов к ее преподаванию. Если в первой половине XIX в. географические знания оставались в большой степени номинальными и входили, скорее, в необходимый набор образованного дворянина, то начиная с 1860-х гг. география начинает восприниматься в более широком диапазоне, включающем и практические знания по экономической географии, и знакомство с родным краем: «наука теперь воспитывала граждан для служения своей нации» [Лоскутова 2011, 237]. В советскую эпоху географическая литература и картографические пособия также использовались в качестве идеологического инструмента.
Можно резюмировать, что набор требований, которые критики, педагоги и методисты предъявляли к географической литературе, не претерпел радикальных изменений на протяжении XIX — начала XX вв. Стоит также отметить, что публичная дискуссия о географической литературе велась преимущественно в среде исследователей и практикующих преподавателей. В журнале «Детская литература» авторами обзоров и рецензий выступают ученые-географы, зачастую довольно высокого уровня. Например, профессор В. К. Дахшлегер, заведовавший кафедрой экономической и социальной географии саратовского университета, геоморфолог Н. В. Думитрашко, более 50 лет проработавшая в Институте географии АН СССР, доцент экономической географии МГУ Е. Д. Прозоров. Это свидетельствует о том, что несмотря на тенденции к популяризации знания, авторитетные позиции сохраняли представители академического подхода.
Источники
А. К. 1884 — А. К. Отдел географический: География физическая и политическая и этнография // Что читать народу?: Критический указатель книг для народного и детского чтения / сост. учительницами Харьковской частной женской воскресной школы Х. Д. Алчевскою, Е. Д. Гордеевой, А. П. Грищенко [и др.]. Т. [1]–3. Т. 1. СПб.: тип. т-ва «Обществ. польза», 1884. С. I–III.
А. К. 1889 — А. К. [Рецензия] // Что читать народу?: Критический указатель книг для народного и детского чтения / сост. учительницами Харьковской частной женской воскресной школы Х. Д. Алчевскою, Е. Д. Гордеевой, А. П. Грищенко [и др.]. Т. [1]–3. Т. 2. СПб.: тип. т-ва «Обществ. польза», 1889. С. 793. Рец. на кн.: Иллюстрированная географическая библиотека / сост. О. И. Шмидт. Вып. 1: Путешествие вокруг света, 1885.
А. К. 1889а — А. К. [Рецензия] // Что читать народу?: Критический указатель книг для народного и детского чтения / сост. учительницами Харьковской частной женской воскресной школы Х. Д. Алчевскою, Е. Д. Гордеевой, А. П. Грищенко [и др.]. Т. [1]–3. Т. 2. СПб.: тип. т-ва «Обществ. польза», 1889. С. 794. Рец. на кн.: Верн Ж. Необычайные приключения капитана Гаттераса: Путешествие к сев. полюсу: с 16 рис. / Переделано с фр. М. А. Бекетовой. М.: И. Д. Сытин и К°, 1888.
Агапов 1938 — Агапов Б. Хорошее начинание: [рецензия] // Детская литература: критико-библиографический двухнедельник ЦК ВЛКСМ. 1938. № 15–16. С. 9–12. Рец. на кн: «Глобус»: Географический ежегодник для детей. М.; Л.: Детиздат. 1938. 372 с.
Аржанов 1918 — Аржанов С. П. Методика географии. СПб.: Отд. подготовки учителей Ком. нар. прос. Союза коммун Сев. обл., 1918.
Гаврилов 1916 — Гаврилов В. Книги Н. Березина по географии // Что и как читать детям. 1916. Вып. 5/6. С. 143–148.
Горький 1939 — Горький М. Заметки о детской литературе // Детская литература. 1939. № 6. С. 1–2.
Грибанов 1829 — Грибанов К. М. [География России: Собрание карт]: [Карты]. [СПб., 1829].
Грибанов 1856 — Грибанов К. М. Альбом географических карт России, расположенных на 80 листах по бассейнам морей или Замечательный и поучительный детский гранд-пассианс / сост. Константином Грибановым. СПб.: В типографии Главного Штаба Его Императорского Величества по Военно-учебным Заведениям, 1856.
Дорогутин 1926 — Дорогутин Н. А. Краеведение, его современное значение и роль любителей в деле изучения страны // Первые шаги краеведа: сб. ст. / под ред. Н. А. Дорогутина, М. В. Муратова. Иваново-Вознесенск: Основа, 1926. С. 5–22.
Дмитриев 1938 — Дмитриев Н. О выставке детской географической книги // Детская литература. 1938. № 13. С. 46–48.
Ек. О. 1873 — Ек. О. Значение детской литературы и чтения // Детский сад. 1873. № 4–5. С. 228–237.
Елачич 1923 — Елачич Е. А. [Рецензия] // Русская школа за рубежом. 1923. № 5–6. С. 214. Рец. на кн.: Гедин С. Сухим путем в Индию. Берлин: Изд. С. Ефрона, [между 1920 и 1933]. Вып. 5. 191 с. (Путешествия и приключения).
Елачич 1923а — Елачич Е. А. [Рецензия] // Русская школа за рубежом. 1923. № 5–6. С. 211–212. Рец. на кн.: Стэнли Г. М. Мой первый путь к Конго. Берлин: Изд. С. Ефрона, [между 1920 и 1933]. Вып. 7. 175 с. (Путешествия и приключения).
Елачич 1923b — Елачич Е. А. [Рецензия] // Русская школа за рубежом. 1923. № 5–6. С. 213. Рец. на кн.: Гедин С. Трансгималаи. Новые приключения в Тибете. Берлин: Изд. С. Ефрона, [между 1920 и 1933]. 202 с. (Путешествия и приключения).
Елачич 1923c — Елачич Е. А. [Рецензия] // Русская школа за рубежом. 1923. № 5–6. С. 213–214. Рец. на кн.: Гильдер В. Г. Гибель экспедиции Жаннетты. Берлин: Изд. С. Ефрона, [между 1920 и 1933]. Вып. 4. 165 с. (Путешествия и приключения).
Калмыкова 1891 — Калмыкова А. М. К вопросу о книге в жизни наших детей и юношества // Русская школа. 1891. № 2, февр. С. 151–166. Рец. на кн.: Богданов М. Н. Из жизни русской природы: Зоол. очерки и рассказы М. Н. Богданова, проф. С.-Петерб. ун-та. СПб.: тип. Н. А. Лебедева, 1889.
Кормилина 1930 — Кормилина А. БЭП (Опыт характеристики) [Библиотека экспедиций и путешествий] // Книга детям. 1930. № 5/6. С. 19–26.
Корсаковский 1865 — Корсаковский Гр. О детских книгах и хрестоматии Г. Басистова // Журнал для родителей и наставников. 1865. Т. 4, № 13. С. 12–22.
Краеведение 1930 — Краеведение на новые пути! // Краевед массовик. 1930. № 2. С. 1–2.
Кротов 1849 — Кротов В. К. Земной глобус. Небесный глобус: [Карты]. [СПб.]: Издание книгопродавца В. П. Полякова, 1849.
Кротов 1849a — Кротов В. Руководство к первоначальному изучению географии, составляющее приложение к составленным В. Кротовым глобусам земному и небесному. СПб.: тип. Штаба Отд. корпуса внутр. стражи, 1849.
Нечаев 1914 — Нечаев А. П. Наглядность в преподавании географии и самостоятельные работы учеников. СПб.: П. В. Луковников, 1914.
Обольянинов 1916 — Обольянинов Н. А. Заметки о русских иллюстрированных изданиях: Игры детские. М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1916.
Отдел географический 1889 — Отдел географический // Что читать народу?: Критический указатель книг для народного и детского чтения / сост. учительницами Харьковской частной женской воскресной школы Х. Д. Алчевскою, Е. Д. Гордеевой, А. П. Грищенко [и др.]. Т. [1]–3. Т. 2. СПб.: тип. т-ва «Обществ. польза», 1889. С. 751–754.
Петри 1892 — Петри Э. Ю. Методы и принципы географии: руководство по методике географии. СПб.: Издание Картографического заведения А. Ильина, 1892.
Переписка 1785 — Переписка отца с сыном о деревенской жизни // Детское чтение для сердца и разума. 1785. Ч. 2, № 21. С. 113–125.
Пятнадцатидневное путешествие 1810 — Гладкова М. 15-тидневное путешествие, 15-тилетнею писанное, в угождение родителю и посвящаемое 15-тилетнему другу. 1810-го года августа месяца. СПб.: В тип. Губернского правления, 1810.
Радченко 1928 — Радченко А. И. Краеведение в политпросветработе. М.: тип. «Красная Пресня» (3-я «Мосполиграф») [и] 14-я тип. «Мосполиграф», 1928.
Семенов 1860 — Семенов Д. Д. О преподавании и современном значении географии // Журнал министерства народного просвещения: Часть неофициальная. 1860. Август. Отдел первый. С. 134–148.
Семенов-Тян-Шанский 1925 — Семенов-Тян-Шанский В. П. География и искусство // География в школе: сборник статей / под ред. Я. И. Руднева, С. П. Бобина. М.; Л.: Московское акционерное издательское общество, 1925. С. 5–25.
Студитский 1843 — Студитский Ф. География России для детей. СПб.: Издатель Ю. А. Юнгмейстер, 1843.
Ушинский 1858 — Ушинский К. Д. Внутреннее устройство североамериканских школ // Журнал для воспитания. 1858. Т. 4. [Кн. 7–12]. С. 250–274.
Ушинский 1906 — Ушинский К. Д. Руководство к преподаванию по «Родному слову». СПб.: Типография М. Меркушева, 1906.
Чтение 1866 — [Модзалевский К. Н.] Чтение и литература для юношеского и детского возраста // Педагогический сборник. 1866. № 11. С. 763–803.
Штейнберг 1933 — Штейнберг Е. Национальная окраина в детской литературе // Детская и юношеская литература: критико-библиографический бюллетень. 1933. № 5. С. 11–15.
Эрдели 1939 — Эрдели В. Г. Руководство к работе с географическим атласом для 3 и 4 классов начальной школы. М.: Редбюро ГУГК при СНК СССР, 1939.
Примечания
1 Косморамы представляли собой разновидность наглядного пособия с изображениями исторических событий, бытовыми зарисовками, видами городских достопримечательностей или просто забавных сценок, сопровождаемыми подписями в раешном стиле. В том числе, там могли оказаться изображения географической тематики — виды городов и природных ландшафтов: Петергоф и Летний сад, Царскосельская железная дорога, гора Этна, швейцарский вид, море близ Фонтенбло, Неаполь, Венеция [Обольянинов 1916]. Некоторые из косморам издавались в виде альбомов с картинками, а некоторые — в виде набора листов с дополнительными оптическими эффектами, они просвечивали и меняли вид при разглядывании на свет.
2 Здесь и далее текст в цитатах воспроизводится по современным правилам орфографии и пунктуации. Стилистические особенности, сокращения и написания имен собственных — сохраняются как в оригинале.
3 Предположительно священник православной церкви — Александр Александрович Корсаковский (р. 1848).
About the authors
Anna Dimianenko
Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: dimyanenko@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-7378-0613
Russian Federation, Saint Petersburg
Elena Kazakova
Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
Email: elena.mail.kazakova@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-4600-4050
Russian Federation, Saint Petersburg
References
- Bokova 2010 — Bokova, V. M. (2010). Otroku blagochestie blyusti: kak nastavlyali dvoryanskikh detey [Otroku piety to guard: how noble children were instructed]. Moscow: Lomonosov.
- Dimianenko 2021 — Dimianenko, A. A. (2021). «Pervyy trud neopytnoy pisatel’nitsy»: E. P. Privalova o knige M. Gladkovoy [«The first work of an inexperienced writer»: Ekaterina Privalova about the book by M. Gladkova]. Detskie chtenia, 2(20), 230–257. 10.31860/2304-5817-2021-2-20-230-257.
- Kostyukhina 2013 — Kostyukhina, M. S. (2013). Detskiy orakul: po stranitsam nastol’no-pechatnykh igr [Children’s oracle: on the pages of board-printing games]. Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2013.
- Loskutova 2011 — Loskutova, M. (2011). S chego nachinaetsya rodina? Prepodavanie geografii v dorevolyutsionnoy shkole i regional’noe samosoznanie (XIX — nachalo XX veka) [Where does the motherland begin? Teaching geography in pre-revolutionary school and regional self-consciousness (XIX — early XX century)]. In Izobretenie imperii: Yazyki i praktiki [The Invention of Empire: Languages and Practices] (pp. 223–262). Moscow: Novoe izdatel’stvo.
- Mirolyubova 2008 — Mirolyubova, G. A., Plotnikov, S. L. (2008). Igral’nye karty dlya yunoshestva, sochinennye Konstantinom Gribanovym [Playing cards for youth, composed by Konstantin Gribanov]. Trudy Gosudarstvennogo Ermitazha. 40: Kul’tura i iskusstvo Rossii, 104–121.
Supplementary files