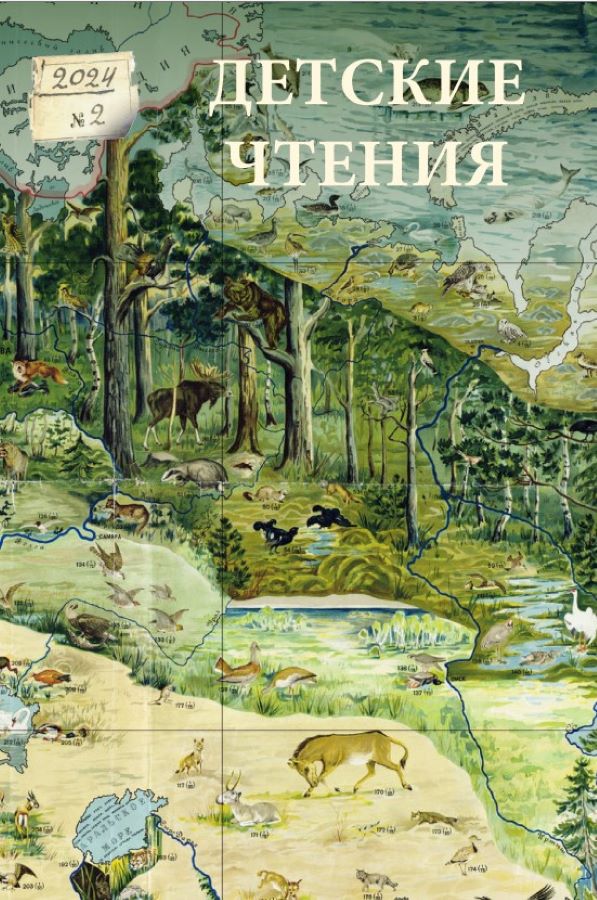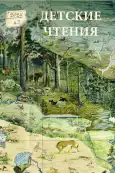Landscape of the Soviet borderland in children’s literature of the 1930s
- Authors: Ilyukha O.1
-
Affiliations:
- Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 26, No 2 (2024)
- Pages: 81-105
- Section: RESEARCH
- URL: https://journal-vniispk.ru/2304-5817/article/view/280775
- DOI: https://doi.org/10.31860/2304-5817-2024-2-26-81-105
- ID: 280775
Cite item
Full Text
Abstract
The author of the article explores the Soviet experience of creating the image of a fortress-country with impregnable borders, examining it through the prism of children’s literature. The corpus of texts on this topic is vast, including works of various genres. The construction of the literary canon of representation of the Soviet borders began in the late 1920s simultaneously with the emergence of the ideologeme «the border is locked» and continued throughout the 1930s. In the article artistic representations of the border are studied from the perspective of landscape, based on historical and anthropological analysis. It demonstrates that the natural landscape and spatial images have a functional character, they are subordinated to the solution of the task of revealing relations and hierarchies within local society. The triad «border guard – spy – child» forms the structural basis of the plot, through it the socio-cultural landscape of the Soviet borderland is defined, in which the figure of the spy, coming from abroad or from anti-space, introduces a temporary dissonance. The border portrayed as the most important part of the state’s territory, as a peacetime front and a site of heroic self-expression for the people. The theme of the border provided fertile ground for producing texts that presented children with an imaginative and accessible semantic scheme of the world’s space, vividly portraying the images of their familiar and strangers.
Full Text
В русле развития междисциплинарного направления по изучению государственных границ и их влияния на жизнь людей (border studies) в последнее десятилетие специалисты, работающие в самых разных отраслях гуманитарных наук, стали уделять внимание проблеме восприятия границы детьми [Borderland 2017; Halicka, 2017; Kaisto, Brednikova, 2019; Sandberg, 2016]. В частности, ставятся задачи получения знаний о том, как в представлениях детей живут символические и реальные границы, выяснения роли различных акторов, (де)конструирующих образы границы. Подчеркивается значение политико-идеологического и социального контекста, образовательно-воспитательных институтов в формировании образа государственной границы [Дюллен 2019; Ilyukha, 2019; Venken, Kaisto, Brambilla, 2021]. В этой связи безусловный интерес представляет советская детская литература о рубежах родины. Художественные тексты оказывают влияние на выстраивание детьми собственных представлений о границе, которые складываются в результате синтеза личного опыта и информации, полученной из различных источников.
В статье представлены результаты анализа литературных произведений различных жанров о советской границе, созданных в 1930-е гг. для детей школьного возраста. Задача автора — показать особенности изображения пространства пограничья как части страны; на основе историко-антропологического анализа выявить, как в литературе такого рода соотносятся природный ландшафт и ландшафт социокультурный, понимаемый как пространство, населенное людьми и освоенное утилитарно, ценностно и символически [Каганский 2011, 28], где разворачиваются социальные отношения и складываются иерархии. Предпринята попытка выявления особенностей изображения пограничного ландшафта и круга основных образов, создававшихся профессиональными писателями в идеологической парадигме «граница на замке». Взгляд на художественные тексты сквозь призму репрезентации пограничного ландшафта позволяет высветить одну из несущих конструкций пространственной картины мира, которую взрослые предлагали детям.
География и физиология советских границ. Формирование канона репрезентации
С первых лет советской власти в средствах пропаганды звучал мотив надежной охраны Красной армией государственной границы, которую пытаются нарушить многочисленные враги, чтобы ослабить, а затем и уничтожить молодую советскую республику. Параллельно формулировалась идея о том, что коммунизм сокрушит границы в результате неизбежной мировой революции. Оформление единого нарратива о границе началось с конца 1920-х гг., когда в партийных верхах возобладала теория построения социализма в отдельно взятой стране и появилась метафора «граница на замке», определявшая в дальнейшем подходы к построению литературных сюжетов1. Становление советского канона репрезентации государственной границы как священного рубежа и советского пограничья как особой территории происходило на протяжении всего предвоенного десятилетия. Критики неотступно следили за качеством и характером раскрытия темы в литературе для детей. В конце 1930-х гг. на страницах журнала «Детская литература» признавалось, что «острый дефицит» произведений о границе устранен, указывалось на вклад в решение этой проблемы детских журналов, отвечавших «интересам детей к вопросу обороны страны». В то же время автор статьи сетовал, что «бесчисленное» количество рассказов2 созданы в «погоне авторов за авантюрными сюжетами», «по установившейся схеме, с некоторыми несущественными вариациями... о том, как пограничник задерживает диверсантов» [Красноставский 1939, 14].
Детские периодические издания, решая задачу создания «оборонной литературы», охотно предоставляли свои страницы авторам, освещавшим тему охраны советских границ. Показательна история стихотворения «Песня о пограничнике», написанного Львом Ошаниным в 1936 г. Сначала «Песня» была опубликована без нотного сопровождения в июньском номере «Мурзилки»3 [Ошанин 1936, 9], а уже в следующем месяце журнал «Затейник» напечатал ее основательно переработанную версию с нотами мелодии А. Хачатуряна [Ошанин 1936а, 3]. Более объемные прозаические произведения, будь то рассказы или повести, также зачастую печатались сначала в периодических изданиях, получали оценку читателей и критиков, а затем выходили в виде книг. Например, повесть Рувима Фраермана вышла под заголовком «Приключение на границе» в журнале «Пионер» в самом начале 1937 г., а затем под названием «Шпион» в виде книги ее дважды в довоенное время выпустил Детиздат ЦК ВЛКСМ (в 1937 и 1938 гг.). Повесть Раисы Торбан «Снежный человек» была опубликована в «Пионерской правде» весной 1938 г. и в том же году выпущена Детиздатом отдельной книгой. Эти две повести выбраны для анализа в качестве основного материала, поскольку создавались практически в одно и то же время и, несомненно, несут общий идеологический заряд; обе написаны в приключенческом плане, а их главными героями являются советские пограничники и школьники. Важным основанием обращения к этим текстам является то, что в каждой из повестей действие разворачивается в таежном ландшафте советского пограничья: в одном случае западном, в другом — восточном. Если Р. Торбан рассказывает о жизни на границе с Финляндией, в северной части Карелии, то Р. Фраерман повествует о районах Приморья, сопредельных по суше с Кореей и Китаем, а по морю — с Японией. При этом важно учитывать, что в географическом и временном определении советского пространства ось Запад-Восток является наиболее значимой [Шкайдерова 2007, 21].
Географические координаты границ в советских газетных колонках новостей, включая детскую периодическую печать, обычно размыты: «на западных границах», «на южных рубежах», «на восточном пограничье», «на N-ской заставе». Географическая условность описываемых событий на границе сродни эпической модели репрезентации пространства: «в некотором царстве, в некотором государстве». Скупы в отношении координат местности публицистические тексты о подвигах пограничников. В них географическая привязка осуществляется за счёт историко-культурных маркеров, часто имеющих негативные коннотации: столкновения на границах с самураями, шляхтичами, лахтарями. Информация о границах советского отечества контролировалась цензурой во избежание разглашения государственной тайны4, что являлось причиной географической нечеткости в описаниях событий и служило их мифологизации [Илюха 2018].
В отличие от газетной новостной информации, в художественной литературе встречаются более конкретные географические ориентиры. Наряду с обозначением широкой пограничной области (дальневосточная граница, граница с Финляндией, с Польшей и т. д.) можно увидеть название поселка и деревни, заставы и колхоза. В поле зрения читателей повести Р. Фраермана оказываются расположенные на берегу Японского моря поселения Малый и Большой Тазгоу, мыс Находка. В повести Р. Торбан действие также вписано в реальную поселенческую сеть: неподалеку от заставы находится родная деревня главного героя пограничника Онни Лумимиези5 — Камень-озеро, и поселок Ухта — родина предателя Кондия Ярвимяки. В литературе встречается и новая, советская топография — вымышленная или реальная, но всегда символичная: «Неусыпно свой несет дозор / Наша пограничная застава / У советской станции «Отпор»» [Жаров 1936, 4].
В художественных текстах о границе представлены различные отрезки ее протяженного периметра, проходящие через белорусские леса и карельскую тайгу, дальневосточное Приморье, среднеазиатские степи и пустыни, Закавказье, воды Черного моря и льды Арктики. Эти дискретные части символически связывает Москва, куда с застав летят донесения, рапорты, откуда поступают приказы и награды. Москва требует, настаивает и наставляет, спешит на помощь. Одна из основных линий связи со столицей выражена в виде заботы о раненых при задержании врага: либо их доставляют в столичные больницы («теперь его лечат в Москве доктора» [Маршак 1938, 27]), либо лучшие московские доктора, вызванные «по прямому проводу» прилетают на заставу, как это происходит в повести Р. Торбан. Москва — сердце родины — связана с пограничной периферией через «кровеносную систему» электропроводов, «нервную систему» радиосвязи: на всех заставах страны бойцы «внимательно слушали у радиоприемника первомайский гул далекой Москвы» [Рыклин 1937, 45]. Пульс границы четко следует политическому ритму столицы. Граница одушевлена, она «живая» — зовет, призывает, слышит.
Эти «физиологические» характеристики границы служат дополнительным аргументом в пользу определения советской довоенной культуры как «культуры воспаленных границ» [Добренко 2007, 482]. Физиология границы выражена в литературе через обостренные реакции и напряжение органов чувств живущих здесь людей: зоркость, остроту обоняния и слуха. Как пограничники, так и местные колхозники и пионеры — хорошие нюхачи, слухачи и умелые следопыты. «Быть зорким», «не страдать близорукостью», — эти призывы с конца 1920-х гг. мелькают на страницах детской периодической печати, они актуальны для всей страны, призванной бороться с классовой беспечностью, чтобы «видеть и понимать, кто наш враг».
В литературе о пограничье все персонажи «начеку». Живущие здесь люди обладают «собачьим чутьем», а опытные пограничники наделены еще и «большевистским нюхом» или «большевистской ноздрей», они умеют безошибочно распознавать врага. Бинокль, усиливающий видимость, и собака с ее острым обонянием и слухом, быстротой реакции и выносливостью расширяют физические и физиологические возможности пограничника. Всматривание, замирание, принюхивание, прислушивание, прикладывание уха к земле — необходимые как пограничникам, так и местным жителям и привычные для них техники выявления «непрошенных гостей», требующие мобилизации всех систем восприятия организма человека. С другой стороны, у этих людей предельно развит самоконтроль, они должны «держать язык за зубами», ведь враг совсем близко.
Природный ландшафт пограничья
Общая черта в описании границы, вне зависимости от географических координат — особая, напряженная тишина, делающая объемными любые звуки. Всенародно известное, песенное: «На границе тучи ходят хмуро, / Край суровый тишиной объят»6, — характеризуя и военную угрозу, и состояние бдительности, имеет множество образных параллелей. «Океан тишины», «напряженное безмолвие» границы — внесезонный фактор, который с особой силой проявляется зимой, когда тишина становится «ледяной», «могучей». Выражение «глухая тайга» используется не только для характеристики непроходимой чащи, но и для передачи «оглушающего безмолвия». Звуки леса едва уловимы, они сливаются в «шепот тайги». Шелест листвы, шуршанье песка, хруст валежника — здесь не легкие и расслабляющие, а настораживающие и подозрительные шумы, оттенки которых нужно различать, поскольку их источником может быть не природа, а человек, враг. Борис Лебедев прямолинеен в своих предупреждениях: «Крадутся к границам ее на разведку / Шпион, диверсант и бандит... / Вот шорох раздался... вот хрустнула ветка... / Гляди, пограничник, гляди!» [Лебедев 1936, 2].
Настораживают шорохи и маленьких жителей пограничья, героев повести Рувима Фраермана, в описаниях которого тишина дает возможность услышать даже то, «как шагает туман по кустам, как шуршит он, как трясет листьями», а безмолвие тайги обманчиво: «Лесная тишина вышла на дорогу, и только справа раздавался еле уловимый шорох: может быть, это бурундук обходил муравейник или просто выпрямлялись и потягивались ветки, собираясь поудобней заснуть. А может быть, кто-то шел тут рядом?» [Фраерман 1937а, 11]. Тишина — «зоркая как птица», она требует концентрации чувств, их слияния.
Природный ландшафт в текстах о границе порой не представлен вовсе, обозначаются лишь его единичные элементы. Г. Рыклин, например, в широко тиражировавшихся «Рассказах о пограничниках» указывает на образующие ландшафт объекты. В сюжете о конфликте на границе с Манчжурией у него фигурирует сопка, в описании инцидентов с Финляндией — «леса и болота, болота и леса», с Польшей — «польский берег» реки. Герой рассказа «Комсомольский билет» прибывает служить на Дальний Восток и читателю сообщается лишь, что здесь «места новые, интересные» [Рыклин 1937, 44].
Жанр произведения, несомненно, влиял на объем представленной в нем информации о пограничном ландшафте. Относительно развернутое описание пейзажа дает М. Слонимский в повести «Подвиг Андрея Коробицына», сравнивая граничащие с Финляндией пределы советской страны с типичными сельскими картинами: «...граница мало чем разнилась от тех деревенских просторов, из которых прибыло большинство бойцов. Коробицын не увидел здесь ни заборов, ни стен. Только пограничные столбики расставлены были вдоль границы на большом расстоянии друг от друга, да вилась колючая проволока. Леса и поля здесь были поярче и поцветистей, чем в родной деревне Коробицына, но всё же это были с детства знакомые лесные дебри, с детства любимая и понятная, рождающая хлеб земля. Деревья одеты были в снежные одежды. Ослепительно бело вокруг. И ледяная могучая тишина не нарушалась даже стуком топора. Вот, значит, какова граница зимой!» [Слонимский 1938, 9]. Писатель оживляет характер летнего ландшафта с помощью образа ветра, с которым в окна погранзаставы «врывались запахи трав, цветов, смолы, птичий гомон, человечьи звонкие голоса» [Слонимский 1938, 34]. Эти признаки жизни растворяют пограничный пейзаж в усредненной картине российской периферии, на мгновенье объединяют его с сельскими просторами страны, решая авторскую задачу — показать цельность и единство страны-государства, неоспоримую монолитность его территории. Лишь наличие редко стоящих пограничных столбиков и вьющейся колючей проволоки выдавало особый характер местности и показывало, что сила границы и надежность защиты страны не столько в мощи оборонительных сооружений, сколько в руках преданных бойцов.
Формирующие ландшафт природные объекты — овраги, ущелья, деревья, кусты — представлены как препятствия на пути нарушителя и как укрытия для пограничников. То есть сама природа — «наша», она на стороне положительных героев. Ландшафтообразующие растения на границах СССР в Карелии и на Дальнем Востоке — ели. В изображениях этих отрезков советского порубежья ели представлены широко. Они присутствуют в литературных и публицистических текстах, в кинофильмах, на картинах и рисунках, в мелкой пластике, орнаментах, что обусловлено ролью ели как в повседневности жителей таежной зоны, так и в символике. Кроме того, ель — дерево-убежище, способное укрыть человека под своими ветвями и от непогоды, и от врага, сделав его невидимым7. Под таким деревом пограничник в одном из рассказов Ю. Германа создает особенное место — секрет: «Пришел пограничник к елке, раскопал немного снег и устроился поудобнее. Так устроился, что совершенно не видно его. Снег белый и пограничник белый. И будто не человек под елкой притаился, а просто намело такой сугроб — горкой. Тепло, удобно» [Герман 1938, 25]. Маскирующие свойства этого дерева давали поэтам повод для метафорического объединения образа елей и часовых: «в шинелях защитных тонконогие ели сбегают в овраг» [Богатырев 1938, 10]. В поисках новой эстетики советские писатели находили гармонию островерхой ели и с будёновкой пограничника, и со штыком его винтовки. Вместе с тем деревья с густой кроной требовали повышенного внимания и пограничников, и местных жителей, поскольку враг тоже мог использовать дерево как укрытие. В повести Р. Фраермана пограничник докладывает о замеченном на высоком дереве шпионе: «Скрыт от дозора верхушкой елового леса» [Фраерман 1937а, 22].
Лес обитаем, в нем словно растворились невидимые пограничники. Опасность для жизни человека в пограничной тайге, горах или степи исходит не столько от диких животных, сколько от человека-зверя — нарушителя, шпиона. Поэтому животный мир, в реальности наполняющий и оживляющий таежный ландшафт, почти не представлен; в повествованиях о границе он иногда присутствует метафорически. Летучая мышь — хтоническое животное и символ ночных сил тьмы передает отношение автора к «заграничью»: «Крыльями / Большой летучей мыши / Показались сопки вдалеке» — так поэт описывает открывающуюся взору пограничника вражескую сторону [Жаров 1936, 4].
Земля за линией границы молодому призывнику Андрею Коробицыну видится в ином, чем своя земля цвете, и сам воздух кажется враждебным: «Лесами закрыта земля, и хотя похожи они на родные, как везде, дебри, но есть в них вот там, недалеко, черта, словно другой цвет начинается. Там — чужие леса, чужая жизнь...» [Слонимский 1938, 22]; «Каждый боец знал и чувствовал, что воздух сопредельных стран враждебен ему и несет смерть» [Слонимский 1938, 28]. Мифологизация пограничья проявляется не только в характеристике соседней страны как анти-мира и анти-пространства, но и в символике элементов «своего» ландшафта, отмеченного присутствием врага, например, перекрестка как средоточия темных сил: «на перекрестке двух дорог им повстречался враг» [Михалков 1938].
Художественная литература усиливала созданное государственной границей ощущение разрыва пространства, деля, казалось бы, неделимое: «Бурлит море у берегов Кронштадта. Здесь, в Финском заливе, проходит граница между СССР и Финляндией. Границу заливает волнами. Вот наша советская волна укатила за границу. А вот чужая, финская волна прибежала к нам, перебравшись через морской рубеж» [Рыклин, 1938, 26]; «Совсем близко граница. Вот та разлапистая ель на пригорке уже не советская, а заграничная. И снег тот уже не советский» [Герман 1938, 26]. Даже эфемерные морская волна и снег могут быть маркированы знаком государственно-идеологической принадлежности, они под сенью государства и, вне всякого сомнения, на его стороне.
Социокультурный ландшафт пограничья
Государственная граница размежевывает пространство на свое и чужое, она — хребет ландшафта, политический барьер и медиатор [Замятин 2003, 109]. Советское пограничье, смыкающееся с враждебным миром — фронт мирного времени, место подвига.
Одна из самых высоких точек ландшафта, освоенного человеком, — пограничная вышка. У Фраермана открывающийся с высоты живописный вид тайги, интересен трем людям, рассматривающим ее с разных точек зрения. С пограничной вышки школьник Ти Суови любуется, пограничник Сизов наблюдает, в то время как шпион, поднявшись на рослое дерево, наносит чертеж местности на бумагу. Пейзаж, видимый из поднебесья — вместилище социальных связей и отношений:
Ти Суеви тоже огляделся вокруг с любопытством. Он увидел леса, с земли он никогда их не видел такими. Они клубились по сопкам как тучи, они качались будто туман. Но воздух был прозрачен над ними. Океан поднимался вверх, к горизонту, и край его казался выше гор. Ти Суеви отвел глаза. Теперь перед ним был весь Тазгоу. Вот школа, вот поле, вот пять высоких скал. Где же тут Натка? Ти Суеви повернул голову в другую сторону. Теперь он увидел дорогу. Она выбегала из лесу и падала в море, как река. Из глубины тайги вышли на дорогу два красноармейца. Они несли кого-то на руках. По дороге скакал всадник [Фраерман 1937а, 20].
Присутствие в пейзаже военных людей наполняет безмятежный вид тайги тревожностью. Дороги и тропы, стягивающие пространство приграничья, замыкаются на заставе: к ней спешат пионеры и колхозники, заметившие незнакомого человека, именно туда доставляют задержанного врага. Это политическая доминанта ландшафта, средоточие властных отношений (приказ начальника заставы выполняют не только бойцы, но и мирные жители), значимость которой выше административного центра местности (поселкового или сельского совета), где сконцентрированы в большей мере хозяйственные функции8.
Пограничник, будь это начальник заставы или рядовой, находится на вершине иерархии локального социума; это исключительно положительный персонаж, образец для подражания. Юрий Герман в своих рассказах порой не дает главному герою имени, называя его просто пограничником и подчеркивая тем самым высокий социальный статус этой военной профессии. У Германа характеристика пограничника приобретает каноническую формульность: «...высокий, сильный, красивый и очень смелый человек. И очень умный. Никто его не мог перехитрить, и ни один враг не перешел нашу границу — невозможно было обмануть товарища Авдеева» [Герман 1938, 13–14]. Неслучайно этот текст в дальнейшем был включен в учебник для обучения чтению школьников Карелии [Герман 1952]. Местный природный ландшафт пограничник освоил досконально, это его стихия, привычная среда: «Он знал лес так хорошо, как каждый из нас знает свою комнату. Вот тут сломанная сосна. А тут большой пень. А дальше овражек. А дальше две одинаковые елки. Точь-в-точь как в комнате: тут стул, тут маленький столик, тут кровать...» [Герман 1938, 24]. Зеленая фуражка и зеленый велосипед летом, белый маскировочный халат зимой, бесшумное перемещение — все это делает пограничника неотделимой частью природного ландшафта. Это человек-функция, все тело которого «насторожено чутко к каждому предмету и звуку» [Фраерман 1937а, 22].
Качества пограничника как сверхчеловека особенно ярко проявляются в ходе преследования и задержания нарушителя: «Сизов бежал без малейшего звука. Сапоги его не скользили. Ружье не стучало; как живые существа расступались перед ним кусты» [Фраерман 1937а, 22]. Образ пограничника близок к образу былинного героя, что особенно четко проявилось в новинах — фольклорных стилизациях, которые широко публиковались, предназначались и для взрослой, и для детской аудитории. Пограничник, как и былинный богатырь, обычно узнаёт о появлении врага в лесу (в поле) по следу, разглядывает далекого неприятеля в бинокль (богатырь — «в трубку серебряную»), тот и другой принимают бой «ночью темною» [Илюха 2018]. Спутником пограничника является собака, которая нередко наделяется субъектностью, становится активно действующим агентом, но при этом остается в полном подчинении своего проводника — «властелина собачьей души» [Торбан 1938, 23]. Произведения разных жанров, где собака является героем наравне с пограничником, составляют значительную часть детской литературы, в которой особым успехом у читателей пользовались «Рассказы о пограничнике Карацупе и его собаке Индусе» (в изданиях после приезда Неру в СССР собаку переименовали в Ингуса) [Ронен 2000, 975].
Взрослые жители пограничья в его социокультурном ландшафте почти не видны, они на периферии повествования, поскольку заняты своими обычными делами: ловят рыбу, валят лес, возделывают колхозные поля, пасут стада. Это немногословные, добрые в отношении своих и суровые в отношении врагов люди. Их фигуры проявляются масштабно в момент угрозы и встречи с врагом. Поймавшие шпиона «Красноармейцы, рыбаки, часовые стояли вокруг молча. Взгляды их были суровы, зубы стиснуты крепко» [Фраерман 1937а, 23]. В часы преследования и поимки нарушителя мирные жители действуют наравне с пограничниками. Все вместе они образуют сплошную цепь, которую невозможно разорвать врагу: «Из Тазгоу, как красноармейцы, цепью бежали по берегу рыбаки. Они только что вернулись с моря. Их тяжелая обувь из резины блестела на песке. Бежал учитель Василий Васильевич Ни, бежал председатель колхоза Пак, легко толкая вперед свое старое тело. Из-за прикрытий выбегали часовые». Именно в эти часы природный ландшафт наполняется жизнью: «И край этот, черный от хвойных лесов, прежде казавшийся Ти Суеви пустынным, вдруг ожил. Ти Суеви остановился, задыхаясь. «Как много их!» — с изумлением подумал он, глядя на людей, цепью окружавших лес. А Ти Суеви-то казалось, что он один стережет и любит его» [Фраерман 1937а, 22]. Мотив социальной сплоченности и идейной монолитности советского общества на всех уровнях и в пространствах даже самых далеких от центра частей страны звучит здесь отчетливо.
В социокультурном ландшафте пограничья дети составляют одну из опор устойчивого треугольника «пограничник-шпион-ребенок», образующего каркас литературного сюжета. В систему общественных связей могут быть включены руководители различных ведомств и рангов: начальник заставы, директор школы, директор лесопункта, председатель сельсовета или колхоза, но в центре сюжета — дети и пограничники, которых объединяет общая мечта — задержать шпиона. Молодой боец Андрей Коробицын сокрушается: «Вот уже несколько месяцев он на границе, его товарищи уже имеют задержания, — а он? Он живет без подвига» [Слонимский 1938, 36]. Самый маленький герой повести Р. Торбан хотя и боится шпионов, но тоже втайне мечтает встретить одного из них и получить шанс стать взрослым: «А вдруг сюда, к нам забежит какой-нибудь! — со страхом и тайной надеждой сказал Юрики...» [Торбан 1938, 79].
Образ пограничника, ратный труд которого престижен, Юрики воспроизводит в игре с соответствующим милитарным антуражем: «На голове у него красовался старый шлем с новой красной звездой, вырезанной из бумаги, за плечами — деревянная винтовка, и у пояса — из того же самого материала револьвер и бомба. Юрики вел или, вернее, тащил на веревочке своего щенка... Пел и важно шагал по улице Юрики... Ребята окружили вооруженного до зубов Юрики и с открытым восхищением осматривали его со всех сторон» [Торбан 1938, 44]. Еще большее восхищение со стороны не только детей, но и взрослых, вызывают подростки, на деле участвовавшие в задержании врага. Облик девочек, совершивших подвиг, удостоен писательского сравнения с родным ландшафтом, его элементами. В повести Фраермана глаза Натки «...стали снова блестеть как два влажных камешка», какими усыпано близкое и хорошо знакомое ей побережье океана [Фраерман 1937а, 23]. В повести Торбан «Бойцы и лесорубы смотрели на Анни так, как будто до этого они никогда не видели эту маленькую девочку с длинными косами, голубыми, как ламбушки глазами и твердой, как их каменистая земля, волей...». Глаза Анни сравнивает с карельскими озерами и враг: «в глубоких, синих, как озера Карелии, глазах Анни он [диверсант] уловил торжество...» [Торбан 1938, 150]. Здесь твердость характеров сродни граниту, а душевная чистота подобна незамутненности карельских озер. Красота родной земля предстает и как эстетический эталон, с которым может быть сравнима внешность только лучших людей, и как источник патриотизма, силы и мужества.
Образ чужого в системе социокультурных координат пограничья
Пограничнику противостоит антигерой — нарушитель границы: шпион, диверсант, бандит. Из этих возможных вариантов, уточняющих недобрые намерения врага, в детской литературе чаще других используется статус шпиона, который стремится выведать тайну Великой страны. Судьба нарушителя, как и судьба пограничника, предопределена: «Бандиту конец, пограничнику слава» [Маршак 1938, 27]. Поверженный враг ничтожен — это и в его имени (у Фраермана шпион — майор Исикава Санджи Маленький), и в его облике («лицо майора, крошечное, плоское») [Фраерман 1937а, 23].
Шпион в социокультурном ландшафте пограничья — субъект, как правило, временный, он стремится проникнуть вглубь страны. Реже в детской литературе встречается типаж законспирированного врага: обычно он «из бывших», побывал за рубежом, вернулся на родину и теперь скрывается под маской «своего», как герой провести Р. Торбан Кондий Ярвимяки, имевший до революции лавки в Финляндии. Он избегает общения, живет обособленно в лесной избушке. Фигура шпиона, еще не разоблаченного, уже вносит диссонанс, искажает советское пространство, населенное коллективистами, сильными и красивыми людьми. Хромой, сутулый, рыжебородый, кряжистый, верзила или коротышка — далеко не полный перечень представленных в художественных текстах приметных физических особенностей, которые выделяют шпиона. Бабка, дед, седой незнакомец — типичные социовозрастные характеристики чужака в произведениях для детей. Политико-идеологическая дистанция поколений определялась сменой систем ценностей, а люди, несущие в себе следы царского прошлого, были подозрительны.
За внешней оболочкой, иногда даже за красноармейской формой советские дети должны были суметь разглядеть врага. Писатели как будто старались помочь в этом своим юным читателям, акцентировали внимание на не всегда очевидных деталях. Чужака могут выдать бегающий и злобный взгляд, вкрадчивый голос, искусственная речь («слишком правильная», выученная); неестественный смех (чтобы быть похожим на советского человека, шпион громко смеется, так как наслышан, что на советской стороне людям жить весело), натянутая улыбка («жесткая», «кривая»), неуместная одежда (нехарактерные для сельской или лесной местности элегантный плащ, шляпа); детали костюма, например, штанов, которые сшиты «не по-русски» [Долматовский 1939] и даже качество ткани: «...странная рубашка, / Заграничный шелк-сырец / На японский образец» [Дилакторская 1939, 8].
Шпион в детской литературе в целом — недочеловек или не человек вовсе. Это четко формулирует Женька, героиня повести А. Гайдара «Тимур и его команда», когда говорит напавшей на нее собаке: «Ты лови разбойников или шпионов, а я... — человек» [Гайдар 1940]. Внешность шпиона, пришедшего из зарубежья, другого мира, нередко соотносится с образами пресмыкающихся — мифологических посредников между мирами. Зооморфные характеристики касаются прежде всего глаз, взгляда (коварно-змеиного; хитрого, как у лисы или злого, как у волка), способного выдать сущность врага. В повести Р. Фраермана взгляд замаскировавшегося шпиона взывает смятение чувств советского мальчика, поскольку «то был взгляд маленькой гадюки» [Фраерман 1937, 56]. Смерть ему уготована соответствующая: «Рыбаки, огромные в своей одежде... подошли. Их тяжелая обувь, казалось, раздавит сейчас человека, растянувшегося на камнях как змея. Они молчали, но гнев качал их как океан» [Фраерман 1937а, 23].
Чужеродная для советского социокультурного ландшафта фигура шпиона маркирована чертами оборотня. В изображении Ю. Германа он «...роста огромного, лицо злое, от страха бледное, глаза светятся как у волка, — вот-вот зарычит» [Герман 1938, 17]. Схожий портрет человека-зверя рисует Р. Торбан: «Небольшого роста, кряжистый, с лицом, заросшим волосами, он легко, по-звериному, двигался по избе в своих мягких, подшитых кожей сапогах с острыми носами. Сходство со зверем дополнялось черными точками маленьких злобных глаз и короткой шеей. Рассеченная посередине губа обнажала ряд крепких желтоватых зубов» [Торбан 1938, 38]. Помещение оборотня в пространство границы соответствует мифологической традиции, согласно которой стык миров (освоенного и неосвоенного, своего и чужого) является локусом, где наиболее часто совершаются перевоплощения. В повести Р. Торбан сюжет развивается во временном отрезке, непосредственно предшествующем и затем совпадающем с празднованием Нового года, с новогодней елкой в школе. В пространстве возрожденного в середине 1930-х гг. праздника елки9 маскарадные маски могут скрывать сущности персонажей. Здесь ярко высвечивается конвертируемость оппозиционных образов пограничника и нарушителя, так же как шпиона и разведчика.
Нарушитель границы, пришедший «с той стороны» проявляет повышенный интерес к ландшафту. Карта, план местности, схема размещения оборонных коммуникаций составляют предмет вожделенной мечты шпиона, становятся уликой и средством идентификации врага. В повести Р. Фраермана шпион разоблачен как раз во время съемки местности, нанесения ландшафта на бумагу. В стихотворении Е. Долматовского враг опознан не только по оторвавшейся пуговке и фасону брюк, но и по содержимому карманов: «А в глубине кармана патроны от нагана / И карта укреплений советской стороны» [Долматовский 1939]. Сверхвысокая ценность карты подчеркивается тем, что ее уничтожают, съедая. В повести Фраермана это делает шпион, а улику добывает пограничник: «Он разжал ему зубы, засунул пальцы в рот и вынул куски еще не разжеванной прочной и тончайшей японской бумаги» [Фраерман 1937а, 23]. Героиня повести Р. Тобран пионерка Анни извлекает капсулу «с документом государственной важности» из куска капустного пирога, куда ее спрятал шпион.
Инцидент — столкновение с нарушителем границы — кульминационный момент сюжета, нередко происходит ночью, поскольку враг действует «под покровом темноты». Образ ночи, изначально враждебной человеку, широко использован с целью демонизации чужака. С семиотическим полем этого времени суток, отмеченным тишиной и темнотой, оказывается тесно связанной семантика тайны [Тихомирова 2010, 11–12]. Это и время предательских теней: «Слышен шорох осторожный... / Тень скользит в овраг» [Ошанин 1936а, 3]. «Манчжурская вьюга» [Маршак 1938, 27], «мгла и пурга», «туманом дымится глухая тайга» [Ошанин, 1936, 9], — все природные явления, затрудняющее и без того плохую ночную видимость, присутствуют в описаниях границы.
Выслеживание и поимка нарушителя границы разворачиваются по модели охоты, специфика которой в конкретной местности зависит от особенностей природного ландшафта. При этом охота на зверя, тысячелетняя практика выживания человека в тайге, в детской литературе о границе представлена периферийно, поскольку официально она ограничена: «Тикка знал, что охота на лося запрещена советской властью. Но он и не хотел убивать его. Старому охотнику хотелось только подкараулить, подсмотреть такого редкого зверя» [Торбан 1938, 100]. Охотничье оружие используется в противоборстве людей, скрывающих свои истинные намерения. С охотничьим ножом приходит на советскую сторону японский шпион («короткий и широкий нож, каким манчжурские гольды убивают оленей» [Фраерман 1937а, 23]), финский нож — часть экипировки шпиона и диверсанта в Карелии. Но советские люди не боятся врагов и готовы им противостоять. Советский ребенок «с пеленок» дозорный, а став октябренком, он, как и предписывает литература, мечтает охранять страну на дальних границах: «И хоть с кухонным ножом / Караулить самурая / За японским рубежом» [Борисова 1938]. В пограничье в ходу понятие облава — коллективные поиски нарушителя границы, поимка которого оценивается как добыча «крупного зверя» или «редкой птицы». Дети в этой традиционной схеме охоты выступают как вестники (сообщают о враге пограничникам), манщики (заманивают врага-зверя на заставу) или гонцы (пока бабушка печет хлеб для незваного гостя, ребенок мчится за пограничникам). Герой стихотворения Х. Левиной, которое в переводе с еврейского было опубликовано в 1938 г. в журнале «Мурзилка», видит себя в роли вестника и спешит сообщить о своих намерениях Сталину: «Ты спокоен будь в Кремле, — / Лягу ухом я к земле; / Если шорох вдруг раздастся, / Значит хочет враг подкрасться; / Я трубу свою возьму, / Разбужу сигналом тьму. / Загремит труба на славу: / «Эй, товарищи, в облаву!»» [Левина 1938]. Здесь выразительно представлена значимость пограничной периферии, бдительности больших и маленьких граждан для символического центра страны, его безопасности и спокойствия. Ситуация преследования, погони за врагом вносит динамику в жизнь тихого пограничья и придает повествованию приключенческий характер.
Если пришедшие из-за границы враги обречены, то оказавшиеся на советской территории крестьянские дети «с той стороны», хотя формально и являются нарушителями, тем не менее получают помощь от пограничников, поскольку они социально близки. В произведениях с подобным сюжетом представлен, хотя и пунктирно, социокультурный ландшафт по другую сторону границы с характерным для него неравенством людей, угнетением, безрадостной жизнью, который выгодно подчеркивает достижения советской страны и счастливую жизнь рожденных в ней детей. Юрий Герман в свою книгу «Часовые», состоящую из рассказов пограничников дальневосточной заставы, адресованных сыну одного из них, включил историю о китайском мальчике [Герман 1938, 47–55]. Восьмилетний Ю-Лин пришел через границу тайком «с другого берега». В родной деревне у него никого не осталось — японцы убили родителей и сестру и теперь ему нечего есть, а захватчик, японский офицер, развлекаясь, бьёт его хлыстом. На советской заставе Ю-Лина накормили, помыли, и, когда он стал «чистый, как стеклышко», надели костюм маленького сына пограничника, символически обратив его «в своего». Мальчик очень хотел остаться жить на заставе и стать красным пограничником, но его уговорили поехать в детский дом, где «еще лучше» и «есть даже педальные автомобили».
Мотив перехода границы ребенком также звучит в рассказе Николая Вирты «Иностранка», впервые опубликованном в 1937 г. в виде небольшой книжки и выдержавшем до войны несколько изданий. В зоне советско-польского порубежья выработался ритуал решения пограничных инцидентов: Жизнь на границе полна большими и маленькими происшествиями. То корова перейдет границу, и надо ее вернуть хозяину, то ребята заблудятся и, сами того не зная, очутятся в чужой стране, то случится еще что-нибудь. Тогда командиры советского и чужого пограничных участков сходятся в условленное место и разрешают накопившиеся за несколько дней дела [Вирта 1938, 7].
Когда маленькая дочь польского крестьянина Ася переходит ручей и оказывается в СССР, она слышит незнакомое слово «колхоз», видит, что при сходстве своей и чужой местности в советской стране все иначе: здесь поле обрабатывают машины, здесь вежливые военные, которые совсем не похожи на злых польских офицеров, дежуривших на пограничном мосту, и есть детские ясли, куда Асю взяли на ночлег и где чисто, уютно и сытно. Когда Ася с подарками возвращалась от новых друзей домой, за ручей, «опять в нужду, в грязь», то «часто оборачивалась назад, плечи ее вздрагивали: она плакала» [Вирта 1938, 11]. Иностранка как дочь крестьянина-бедняка классово «своя», это, главным образом, и определяет отношение к ней советских людей.
Ю. Герман и Н. Вирта представили контактную функцию границы, которая могла реализоваться в хорошо обжитых пространствах с относительно плотной сетью поселений. Советское пограничье в рассказах этих авторов показано как доступная взглядам зарубежных соседей часть притягательной страны-мечты, а открывающаяся взору советского человека территория их государств — это анти-пространство, лишенное перспективы, — и географической, и временной. Совпадающее с линией границы русло реки или ручья — природный и символический барьер, размежевывающий территорию на свою и чужую. Эти природные объекты могут утратить свою барьерную функцию, как это показано в переработанном («исправленном и дополненном») издании «Иностранки» 1939 г. Николай Вирта внес в книгу новые штрихи и изменил ее финал после того, как в сентябре в пределы Польши вошли части Красной Армии, а затем советское правительство объявило о присоединении Западной Белоруссии к СССР10. В новой версии книги няня из советского детского дома объясняет Асе, что ее семья больше не будет бедствовать, ведь теперь «Возьмут землю у панов и отдадут всем бедным». Девочка осознает, что она перестала быть иностранкой, а земля за ручьем (она смотрит на границу со стороны детского дома) «насовсем» стала советской, проволочное заграждение исчезло. Радуясь, Ася говорит няне: «Это очень хорошо, что Сталин велел вам идти за ручей, а то тут очень плохо, а у вас хорошо. Теперь нам вместе лучше будет» [Вирта 1939, 15]. Незыблемость советских границ здесь оказывается условной, они могут расширяться ради того, чтобы обеспечить соседям лучшую жизнь и уверенность в своем будущем.
Заключение
Рассмотрение детской литературы сквозь призму репрезентации ландшафта позволяет высветить базовые конструкции, использовавшиеся при создании мифа о советских границах, показывает приоритет социокультурного ландшафта, локальных социальных иерархий и отношений и подчиненность им ландшафта природного. Отчасти это определяется культурной и политической природой самой государственной границы.
К концу 1930-х гг. лекала описания советского пограничья были четко выверены. В литературе о границе повседневность представлена в той мере, в какой она поддерживает идею охраны страны. При этом авторы давали понять, что именно в пространстве пограничья происходит «настоящая жизнь», здесь в мирное время есть возможность совершить подвиг. Пограничник, ребенок и шпион в литературе для детей — главные фигуры социокультурного ландшафта, в котором на вершине иерархии находится пограничник, а шпион — фигура временная, искажающая советское пространство, его гармонию. Исход схватки сверхчеловека пограничника с недочеловеком врагом, шпионом предопределен, тем более что на помощь пограничнику всегда приходят и дети, и взрослые. Если образ врага определяют его зооморфные черты, то положительные герои наделяются внешними и внутренними качествами, сопоставимыми с ландшафтом родной земли. Метафорика ландшафта и его элементов используется для характеристик людей и их отношений, отражая определенные культурные стереотипы.
Характер изображения природного пейзажа поддерживает настроение тревожности, отвечающее задаче мобилизации общества в условиях подготовки к грядущей войне. На фоне растущей шпиономании второй половины 1930-х гг. детская литература формировала подозрительный взгляд ребенка на незнакомца, настраивала на повышение бдительности. Ночь или праздник — время особой активности врага, стремящегося застать советских людей врасплох, в совокупности с описанием природы приграничной территории образуют пространственно-временной континуум пограничного сюжета. Природный ландшафт влияет на характер преследования и задержания нарушителя границы, его декорации становятся важным фактором развертывания приключенческой составляющей книг для детей. Советская граница оказывается с одной стороны крепостной стеной, с другой — витриной достижений для соседей, при этом земля по другую сторону государственного рубежа наделяется чертами анти-пространства.
Источники
Белахова 1936 — Белахова М. Журнал «Мурзилка» // Детская литература. 1936. № 12. С. 26–27.
Богатырев 1938 — Богатырев В. Песня о стороже // Затейник. 1938. № 3. С. 9–10.
Борисова 1939 — Борисова Н. Мечта // Карелия: литературно"=художественный журнал Союза советских писателей Карельской АССР. 1939. № 3. С. 92.
Вирта 1938 — Вирта Н. Иностранка. 2-е изд. М.: Детиздат, 1938.
Вирта 1939 — Вирта Н. Иностранка. 3-е изд. М.; Л.: Детиздат, 1939.
Гайдар 1940 — Гайдар А. Тимур и его команда // Пионерская правда. 1940. № 117, 7 сент. С. 4.
Герман 1938 — Герман Ю. Часовые. М.; Л.: Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1938.
Герман 1952 — Герман Ю. Рассказ пограничника // Беляев И. С. Книга для чтения во втором классе карело-финской школы. Петрозаводск: Гос. изд-во Карело-Фин. ССР, 1952. С. 116–119.
Дилакторская 1939 — Дилакторская Н. Две кастрюли, три котла // Чиж. 1939. № 7–8. С. 7–9.
Долматовский 1939 — Долматовский Е. Пуговка. М.; Л.: Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1939.
Красноставский 1939 — Красноставский М. Литература о Красной армии // Детская литература. 1939. № 2. С. 9–16.
Лебедев 1936 — Лебедев Б. На чеку // Мурзилка. 1936. № 7. С. 2.
Левина 1938 — Левина Х. Тише, тише... / пер. с еврейского Т. Спендиаровой // Мурзилка. 1938. № 4. С. 14.
Маршак 1938 — Маршак С. Мы военные. М.; Л.: Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1938.
Михалков 1938 — Михалков С. Граница. М.: Изд. и фабрика детской книги Детиздата, 1938.
Ошанин 1936 — Ошанин Л. Песня о пограничнике // Мурзилка. 1936. № 6. С. 9.
Ошанин 1936а — Ошанин Л., Хачатурян А. Песня о пограничнике // Затейник. 1936. № 7. С. 3.
Рыклин 1937 — Рыклин Г. Рассказы о мужестве и находчивости // Пионер. 1937. № 5. С. 43–51.
Рыклин 1938 — Рыклин Г. Рассказы о пограничниках. М.; Л.: Детиздат, 1938.
Торбан 1938 — Торбан Р. Снежный человек. М.; Л.: Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1938.
Слонимский 1938 — Слонимский М. Подвиг Андрея Коробицына. М.: Детиздат, 1938.
Фраерман 1937 — Фраерман Р. Приключение на границе // Пионер. 1937. № 1. С. 54–68.
Фраерман 1937а — Фраерман Р. Приключение на границе // Пионер. 1937. № 2. С. 10–25.
Примечания
1 Метафора «граница на замке» вошла в широкий обиход в середине 1930-х гг., вслед за тем, как в 1934 г. ее неоднократно употребил в своих выступлениях командующий Особой Дальневосточной армией В. К. Блюхер. Однако ее рождение произошло раньше, в ходе осмысления конфликта на КВЖД в 1929 г. Так, 7 ноября 1929 г. «Пионерская правда» опубликовала заметку «Граница на замке» о надежной охране завоеваний Октябрьской революции и прочности восточных рубежей СССР, в частности, границы с Манчжурией. Годом позже под тем же названием вышла книга для детей и подростков Н. К. Костарева — боевого товарища В. К. Блюхера – «Граница на замке» (1930).
2 Количество произведений о границе исчислялось многими десятками. Более точная оценка требует проведения специальных изысканий.
3 Публикация вызвала резкую реакцию критиков, обвинявших автора в слабом владении рифмой, а редакцию журнала в том, что она «слабо борется за качество стихов» [Белахова 1936].
4 На протяжении 1920–1930-х гг. происходило усиление контроля над печатью, в том числе относительно недопущения распространения информации о военной тайне, включающей сведения о дислокации войск вдоль государственной границы. В частности, в сентябре 1933 г. был создан институт Уполномоченного СНК СССР по охране военных тайн в печати, объединявший всех начальников Главлитов союзных республик. См. подробнее: [Зеленов 2012].
5 Лумимиези в переводе с карельского — снежный человек.
6 Из песни «Три танкиста» (1939). Слова Б. Ласкина, музыка братьев Покрасс.
7 Кроме того, ель имеет амбивалентную символику, связанную в народной традициии с порубежьем, границей миров, включая такие универсалии, как жизнь и смерть и переход между ними, что до сих пор сохраняется в представлениях людей. См.: [Ершов 2017].
8 Эта субординация выразительно представлена в повести Раисы Торбан, где Ухта — административный центр, фактически подчинена пограничной заставе.
9 Вплоть до середины 1930-х гг. Новый год официально не был праздником, против дореволюционной традиции украшения елки, ассоциировавшейся с Рождеством, была организована идеологическая кампания. В ходе нее звучал, в частности, мотив вытеснения отжившего ритуала и сценария за пределы страны: «Лучше мысль о елках навсегда оставь, / Елки пусть растут за линией застав...», — писал журнал «Затейник» в 1931 г. Отправной точкой для возрождения елочной традиции уже на советской идеологической основе стала статья П. Постышева «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку» (Правда. 1935, 28 декабря).
10 2 ноября 1939 г. внеочередная V сессия Верховного Совета СССР приняла закон «О включении Западной Белоруссии в состав Союза ССР с воссоединением ее с Белорусской ССР», ссылаясь на ходатайство «Полномочной комиссии Народного собрания Западной Белоруссии».
About the authors
OIga Ilyukha
Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: ilyukha.olga@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1672-5925
Institute of Linguistics, Literature and History
Russian Federation, PetrozavodskReferences
- Borderland 2017 — Venken, M., Pereplys, K. (Eds.). (2017). Borderland studies meets child studies: A European encounter: Peter Lang.
- Dobrenko 2007 — Dobrenko, E. (2007). Politekonomiya socrealizma [The political economy of social realism]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Dullin 2019 — Dyullen, S. (2019). Uplotnenie granits: K istokam sovetskoj politiki. 1920–1940-e [La frontière épaisse]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Ershov 2017 — Ershov, V. P. (2017). Vechnozelenye — vechnozhivushchie. El’ — derevo predkov [Evergreens — ever-living. Spruce — the tree of ancestors]. Petrozavodsk.
- Halicka 2017 — Halicka, B. (2017). The everyday life of children in Polish-German borderlands during the early postwar period. In M. Venken, K. Pereplys, (Eds.), Borderland Studies meets child studies: A European encounter (pp. 116–137). Peter Lang.
- Ilyukha 2018 — Ilyukha, O. P. (2018). Runa o zaderzhanii shpiona: gosudarstvennaya granitsa v sovetskom fol’klore i propagandistskom diskurse 1930-h godov [The Rune about the detention of a Spy: the State Border in Soviet Folklore and Propaganda Discourse of the 1930s]. Al’manah severoevropejskih i baltijskih issledovanij (Nordic and Baltic Studies Review), 3, 123–142.
- Ilyukha 2019 — Ilyukha, O. (2019). Soviet and post-Soviet borders in texts for children and as perceived by children: Symbolic figures, images, meanings. In K. Stokloza, (Ed.), Borders and Memories: Conflicts and co-operation in European border regions (pp. 31–50). LIT Verlag.
- Kaganskij 2011 — Issledovanie rossijskogo kul’turnogo landshafta kak celogo i nekotorye ego rezul’taty [A holistic investigation of the Russian cultural landscape]. Mezhdunarodnyj zhurnal issledovanij kul’tury, 4 (5), 26–40.
- Kaisto, Brednikova 2019 — Kaisto, V., & Brednikova, O. (2019). Lakes, presidents and shopping on mental maps: Children’s perceptions of the Finnish-Russian border and the borderland. Fennia — International Journal of Geography, 1, 58–76. doi: 10.11143/fennia.73208.
- Ronen 2000 — Ronen, O. (2000). Detskaya literatura i socialisticheskij realizm [Children’s literature and Socialist realism]. In H. Gyuntera, E. Dobrenko (Eds.), Socrealisticheskij kanon: Sbornik statej [Socialist realist canon] (pp. 969–979). Saint Petersburg: Akademicheskij proekt.
- Sandberg 2016 — Sandberg, M. (2016). Restructuring Locality: Practice, Identity and Place-Making on the German-Polish Border. Identities, 23(1), 66–83. doi: 10.1080/1070289X.2015.1016523.
- Shkajderova 2007 — Shkajderova, T. V. (2007). Sovetskaya ideologicheskaya yazykovaya kartina mira sub’ekty, vremya, prostranstvo (na materiale zagolovkov gazety «Pravda» 30–40-h gg.) [The Soviet ideological linguistic picture of the world: subjects, time, space (based on the headlines of the Pravda newspaper of the 30-40s)] (doctoral dissertation). Omsk State University, Omsk.
- Tihomirova 2010 — Tihomirova, L. (2010). «Nochnaya» poeziya v russkoj romanticheskoj tradicii: genezis, ontologiya, poetika [«Night» poetry in the Russian Romantic tradition: genesis, ontology, poetics] (doctoral dissertation) Ural State University, Ekaterinburg.
- Zamyatin 2003 — Zamyatin, D. N. (2003). Gumanitarnaya geografiya: prostranstvo i yazyk geograficheskih obrazov [Humanitarian geography: the space and language of geographical images]. Saint Petersburg: Aletejya.
- Venken, Kaisto, Brambilla 2021 — Venken, M., Kaisto, V., Brambilla, Ch. (2021). Children, young people and borders: A multidisciplinary outlook. Journal of Borderlands Studies, 36(2), 149–158. doi: 10.1080/08865655.2021.1898447.
- Zelenov 2012 — Zelenov, M. V. (2012). Voennaya i gosudarstvennaya tayna v RSFSR i SSSR i ikh pravovoe obespechenie (1917–1991 gg.) [Military and state secrets in the RSFSR and the USSR and their legal support (1917–1991)]. Leningradskiy yuridicheskiy zhurnal, 1, 143–159.
Supplementary files